Текст книги "Дочь маркиза"
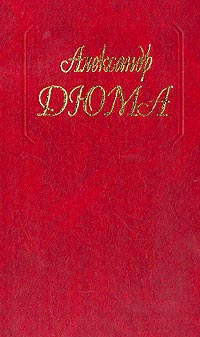
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
V. ЧЕЛОВЕК УШЕДШЕЙ ЭПОХИ
Это зрелище, казалось, вызывало огромное любопытство человека, сидевшего в партере и, со своей стороны, являвшегося объектом пристального внимания всего зала.
Среди толпы молодых людей в шелках и бархате, среди ярких красок и модных в 1796 году покроев вдруг появился человек лет тридцати-тридцати двух, заслуживающий эпитета «красавец» не меньше, если не больше, чем Тальен, Фрерон или Баррас, в строгом костюме, какие носили в 1793 году. У него были стриженные на манер Тита, но все же довольно длинные волосы, обрамлявшие шелковистыми локонами его бледное лицо; шея его была повязана белым галстуком с узлом нормальной величины и без украшений; на нем был белый пикейный жилет с широкими отворотами, какой носил когда-то Робеспьер, темно-вишневый с высоким воротником редингот до колен, короткие бледно-желтые штаны и сапоги. Мягкая фетровая шляпа принимала любую форму и, как и весь остальной наряд, носила отпечаток 1793 года, который все старались забыть.
Он вошел в партер не с непринужденностью щеголя, но степенно, печально, чинно; он просил тех, кого принужден был побеспокоить, позволить ему пройти на свое место в самых учтивых выражениях забытого уже языка.
Давая ему пройти на место, все выстроились перед ним в ряд, глядя на него с некоторым удивлением, ибо он, как мы уже сказали, единственный из всего зала был в платье ушедшей эпохи.
При его появлении с галерей и балконов послышались смешки, но, когда он снял шляпу и оперся на спинки кресел предыдущего ряда, чтобы охватить взглядом весь зал, смех затих и дамы заметили спокойную и холодную красоту вошедшего, его уверенный, ясный и проницательный взгляд, его ослепительно белые руки, так что, как мы уже говорили, он привлек к себе почти такое же внимание, с каким сам рассматривал это собрание.
Его соседи первыми заметили, как разительно он отличается от них; они попытались завязать с ним беседу, но он отвечал односложно, и они сразу поняли, что он не расположен к знакомству.
– Гражданин, вы иностранец? – спросил его сосед справа.
– Я только сегодня утром прибыл из Америки, – ответил он.
– Сударь, если вам угодно, я покажу вам всех знаменитостей, которые присутствуют здесь в зале, – предложил его сосед слева.
– Благодарю вас, сударь, – ответил он с такой же учтивостью, – но, мне кажется, я почти всех знаю.
И он со странным выражением лица посмотрел на Тальена, потом перевел взгляд на Фрерона, затем на Барраса.
Баррас выглядел встревоженным и, не в пример другим щеголям, ни на мгновение не покидал свою ложу, приветствуя знакомых дам и мужчин со своего места. Он явно кого-то ждал.
Два или три раза дверь его ложи открывалась, и он всякий раз вскакивал с кресла; но всякий раз по его лицу пробегало облачко, и становилось ясно, что появлялся не тот человек, которого он ждет.
Наконец три удара возвестили начало представления.
И правда, занавес поднялся и публика почувствовала, как со сцены повеяло прохладой, которая освежила атмосферу бурлящего зала и подарила ему мгновение блаженства.
Зрители увидели на сцене мастерскую Пигмалиона с мраморными скульптурными группами, незаконченными изваяниями; в глубине стояла статуя, накрытая легким серебристым покрывалом. Пигмалион-Ларив стоял перед публикой, Галатея-Рокур пряталась под покрывалом.
И хотя мадемуазель Рокур не было видно, публика встретила ее громом рукоплесканий.
Все знают либретто, вышедшее из-под пера Жан Жака Руссо: оно одновременно простодушно и страстно, как и его автор. Пигмалион отчаивается в своем стремлении сравняться с соперниками и с отвращением отбрасывает в сторону инструменты. Скульптор произносит длинный монолог, в котором корит себя за собственную заурядность; но есть у него и шедевр, который наверняка принесет ему славу; он подходит к закрытой статуе, подносит руку к покрову, не решаясь прикоснуться к нему, наконец с трепетом приподнимает его и падает перед своим творением на колени:
– О Галатея! Прими дань моего восхищения; да, я ошибся, я хотел сотворить тебя нимфой, а сделал богиней. Ты прекраснее самой Венеры! – восклицает он.
Его страстная речь продолжается до тех пор, пока дыхание его любви не пробуждает статую к жизни, она спускается с пьедестала и начинает говорить.
Хотя роль мадемуазель Рокур состояла всего из нескольких слов, ее ослепительная красота и величавая грация вызвали оглушительные рукоплескания; как только она начала оживать, занавес упал, скрыв от взоров зрителей само совершенство земной красоты.
Он поднялся, чтобы два великих актера могли снова выйти на сцену и насладиться плодами своего успеха. Затем, через несколько секунд, занавес опустился, закрыв Пигмалиона и Галатею от глаз восторженной публики, еще трепещущей под впечатлением сцены, которой она только что рукоплескала.
В это самое мгновение дверь ложи Барраса открылась и, словно боясь бросить тень на несравненную Рокур, неизвестная женщина, затмевающая красотой всех признанных красавиц, показалась в полумраке авансцены и медленно, робко и словно бы нехотя прошла вперед.
Все взоры обратились на незнакомку, чьи небесные черты не были видны, но лишь угадывались под складками легкой газовой накидки. Она обвела глазами ложи зала, взглянула в партер, и тут взор ее, словно притянутый неодолимой силой, встретился со взглядом незнакомца.
Оба разом вскрикнули, оба метнулись к дверям – он к дверям партера, она к дверям ложи – и оказались в фойе.
Но в то мгновение, когда незнакомец подошел к площадке лестницы, женщина, которая, казалось, не сбежала, а слетела по ступеням, упала в его объятия, потом встала на колени и стала неистово целовать его ноги, обливаясь слезами.
Незнакомец смотрел на нее безучастно, потом голосом, полным глубокой горечи, спросил:
– Кто вы? Что вам от меня нужно?
– О мой любимый Жак, – сказала молодая женщина, – разве ты не узнаешь свою Еву?
– Все, что находится в ложе Барраса, принадлежит Баррасу, – холодно произнес незнакомец, – Все, что находится в ложе Барраса, мне не принадлежит, не принадлежало и не будет принадлежать!
В это мгновение на верху лестницы показался Баррас. Неожиданное бегство Евы удивило его, и он последовал за ней.
– Гражданин Баррас, – сказал Жак Мере. – По-моему, эта женщина потеряла рассудок; прошу вас, пригласите ее занять свое место в вашей ложе.
Но услышав эти слова, Ева вскрикнула, словно в сердце ее вонзили кинжал, вцепилась в Жака изо всей силы и, глядя на него с решимостью, воскликнула:
– Знаешь, если ты еще раз так скажешь, я схвачу первое же оружие, которое попадется мне под руку, и покончу с собой.
– Что ж, – сказал Жак. – Кровь очищает. Ты, может быть, снова станешь моей Евой, когда умрешь.
Ева встала и, обернувшись к Баррасу, но не отпуская руки Жака, которую она сжимала с неженской силой, произнесла:
– Гражданин Баррас, это и есть тот человек, которого я люблю; ты уверял меня, что он погиб во время событий тридцать первого мая, ты сказал мне, что он был заколот кинжалом и тело его, растерзанное дикими зверями, нашли в ландах близ Бордо; так вот, этот человек жив, он перед тобой, и я его по-прежнему люблю! Не пытайся отнять меня у него, или я всем расскажу о твоем коварстве, расскажу, как ты обманул меня, чтобы погубить, буду кричать на всех углах, что ты насильник. А ты, Жак, увези меня отсюда, ради Бога, и если я умру, пусть это случится у тебя на глазах!
– Вы Жак Мере? – спросил Баррас.
– Да, гражданин.
– Эта женщина сказала правду; она всегда говорила, что любит вас; она действительно думала, что вас нет в живых; уверяю вас, я и сам так думал, когда убеждал ее в этом.
– Какая разница, жив я или мертв, – возразил Жак, – коль скоро она верит в то, что на небесах души соединяются.
– Сударь! – сказал Баррас. – Я признаю, что не имею никаких прав на эту женщину. Ее состояние принадлежит ей, дом, в котором она живет, куплен на ее деньги, и, поскольку сердце ее никогда мне не принадлежало, мне нет нужды возвращать ей его.
Затем с рыцарской учтивостью, которой он был не чужд, Баррас откланялся и удалился; вскоре он исчез в дверях своей ложи.
Ева круто повернулась к Жаку.
– Ты слышал, Жак, ведь правда? Этот человек сказал мне, что тебя нет в живых, я хотела умереть, но у меня не получилось, я все тебе расскажу; я была в повозке смертников, меня привезли на эшафот, но не подпустили к гильотине, и, сама того не желая, я была спасена; я не хотела выходить из тюрьмы, но госпожа Тальен приехала за мной и увезла силой.
Ах, если бы ты знал, сколько слез я пролила! Сколько ночей провела без сна! Сколько раз взывала я к тебе, чтобы ты восстал из мертвых!
Она снова упала на колени и стала целовать ноги Жака:
– Если бы ты все это знал, ты простил бы меня! Жак отстранился.
– Нет, – продолжала Ева, – ты не простил бы. Я и не прошу тебя об этом, я не заслужила такой милости! Но ты можешь медленно свести меня в могилу своими упреками; покончив с собой, я умру слишком быстро и не искуплю свою вину, понимаешь? Говори мне, что ты меня разлюбил и уже никогда не полюбишь. Убивай меня словами; я жила тобой – я хочу умереть от твоей руки.
– Гражданин Баррас сказал, что у вас собственный дом, сударыня; куда вас отвезти?
– У меня нет своего дома, у меня нет ничего своего. Ты нашел меня в крестьянской хижине, на охапке соломы; брось меня снова на солому, где ты меня впервые увидел. О Сципион, мой бедный пес, если бы ты был здесь, ты не отвернулся бы от меня!
Жак опустил глаза и пристально посмотрел на Еву: взгляд его был страшен. Молодая женщина валялась у него в ногах, как кающаяся Магдалина в ногах у Иисуса.
Но Иисус был выше человеческих страстей, он был Бог и умел прощать, меж тем как Жак был человек и обладал неискоренимой гордыней.
Он сказал правду. Он предпочел бы увидеть свою возлюбленную мертвой, нежели встретить ее живущей столь недостойно. Он с наслаждением целовал бы землю на ее могиле, но он содрогался при одной только мысли о том, что губы Евы могут коснуться его лица или руки.
– Я жду, – поторопил он ее.
Она, словно очнувшись, подняла голову и посмотрела на него с тоской.
– Что? Чего вы ждете? – переспросила она. – Я не понимаю.
– Я жду, чтобы вы сказали мне, где вы живете, и я прикажу отвезти вас домой.
Она встала на одно колено и, возвращаясь разом к скорби и к жизни, произнесла:
– Я же сказала тебе, что нигде не живу; я сказала тебе, что не прошу ни о чем, кроме гроба, ни о чем, кроме того, чтобы меня похоронили вместе с другими неприкаянными, в общей могиле, как всех самоубийц; или дай мне соломенную подстилку, чтобы я могла жить у твоих ног на хлебе и воде и умереть от голода, не сводя с тебя глаз; того пса, того злосчастного бешеного пса, который кусал людей, – ты не дал его убить, ты взял его с собой, ты позволил ему любить тебя; получается, я для тебя хуже собаки!
Жак ничего не ответил, но попытался высвободиться. Ева почувствовала, как он ее отталкивает.
– Пусть будет так, – сказала она, отходя от него. – Раз я тебе так противна, ты свободен. Но ты не можешь мне помешать следовать за тобой, не правда ли? Ну что ж! Клянусь тебе соломенной подстилкой, на которой ты меня нашел и которую я безуспешно у тебя прошу, клянусь тебе, что, раз у меня нет оружия, я брошусь под колеса первой же встреченной кареты, которую увижу на улице.
– Постойте, – спохватился Жак, – я совсем забыл, ведь у меня есть для вас письмо от вашего отца.
И он протянул ей руку.
Но по его голосу Ева поняла, что он не простил ее. Жаком двигала жалость, быть может, просто чувство долга. Разве он не объяснил, что берет ее с собой лишь потому, что у него есть для нее письмо?
– Нет, – сказала она, качая головой, – я не хочу злоупотреблять вашей добротой. Идите первым, а я пойду за вами.
Жак Мере пошел вперед, Ева пошла следом, прижимая платок к глазам.
Жак подозвал фиакр и указал молодой женщине на раскрытую дверцу.

Ева села в фиакр.
– Спрашиваю вас в последний раз, вы не хотите мне назвать ваш адрес? – сказал Жак.
Из груди Евы вырвался горестный возглас, она хотела выскочить из кареты. Жак остановил ее.
– Ах, я думала, вы больше не будете мучить меня, – произнесла она с упреком.
– Площадь Карусель, гостиница «Нант»! – крикнул он вознице.
Он сел на переднее сиденье, фиакр покачнулся и покатил в указанном направлении.
Ева сползла с подушек, на которых сидела, и, упав на колени, стала целовать ноги Жака.
В этой смиренной позе она простояла всю дорогу, впрочем короткую, от площади Лувуа до площади Карусель, где остановился фиакр.
VI. ПИСЬМО ГОСПОДИНА ДЕ ШАЗЛЕ
Жак Мере был философом, но в любви нет места философии.
Так уж устроено сердце мужчины. Когда любимая женщина причиняет ему страдания, то, чем больше он ее любит, тем больше страданий причиняет ей в ответ; в ее мучениях он находит горькую и неизбывную усладу.
Жак Мере пришел бы в отчаяние, если бы Ева назвала свой адрес.
Что бы он сделал, что бы с ним сталось, если бы ее не было рядом и он не мог бы впиться в ее сердце железными когтями ревности?
Он бродил бы всю ночь как безумный по улицам Парижа.
Кому он рассказал бы о снедающей его ярости?
Все друзья, которых он любил, мертвы; все головы, которые помнили его дружеский поцелуй, упали с плеч.
Дантон мертв; Камилл Демулен мертв; Верньо мертв.
Не оставалось никого, вплоть до палача Сансона, чей сын укрыл его и помог бежать; не осталось никого, вплоть до славного роялиста, который не смог вынести того, что ему предстояло казнить короля, и умер от горя.
Жак Мере уехал за океан, в Америку. Он следил за событиями, которые происходили во Франции; он знал, что Марат был заколот в ванне; он знал, что Дантон, Камилл Демулен, Фабр д'Эглантин, Эро де Сешель сложили головы на плахе; он знал о падении Робеспьера 9 термидора; он знал об успехах реакции; он знал, что депутаты, объявленные, как и он, вне закона, возвращались и занимали свое место на скамьях Конвента. Наконец, он знал, что 13 вандемьера был создан новый образ правления; тогда, не имея никакой уверенности в собственной безопасности, он решил плыть во Францию, влекомый желанием увидеться с Евой.
Встречный ветер и непогода затянули плавание, около Ньюфаундленда судно село на мель; таким образом, путешествие Жака продлилось сорок девять дней. Наконец он высадился в Гавре, а оттуда добрался до Парижа. Жак, естественно, остановился в гостинице «Нант» – так заяц всегда бегает по кругу. А вечером того же дня, услышав разговоры о торжественном открытии театра Лувуа, он отправился туда в надежде встретить кого-нибудь из знакомых и расспросить его.
Он и не думал, что так быстро увидит Еву.
Мы видели, как Жак проявил малодушие и черствость, не в силах обуздать свои низменные чувства, видели, как он вез к себе Еву, счастливую, что ее любимый рядом, под предлогом того, что хочет вручить ей письмо отца, но на самом деле для того, чтобы подольше ее помучить.
Чем сильнее была его любовь, тем сильнее было стремление причинить страдания Еве.
Жак вошел в комнату и, пока слуга зажигал свечи, украдкой бросая взгляды на прелестное и элегантное создание, которое как село в кресло, так и сидело в нем не шевелясь, прошел прямо к секретеру и достал оттуда портфель, где хранились все бумаги, связанные с дорогими его сердцу воспоминаниями.
Потом он сел за столик с мраморной столешницей, на котором стоял канделябр, и вынул из папки несколько бумаг.
Слуга вышел и притворил за собой дверь.
План мучений был готов.
Если судить Жака просто как человека, а не как влюбленного, он вел себя недостойно, но неведомая сила заставляла его искать в разбитом сердце Евы более веские доказательства любви, чем жалобы, слезы и стенания.
– Я могу начать? – спросил он, призвав на помощь всю свою волю, чтобы придать голосу твердость. – Вы готовы слушать меня?
Ева сложила руки на коленях и устремила на Жака свои прекрасные глаза, полные слез.
– О да, я слушаю тебя, – сказала она, – как слушала бы ангела Страшного суда.
– Я вам не судья, – отрезал Жак, – я только посланец, которому поручено сообщить вам несколько важных сведений.
– Будь для меня кем угодно, – согласилась она, – я слушаю.
– Мне нет нужды говорить вам, что я не знал, куда увезли вас те люди, которые отняли вас у меня. Я узнал одновременно и об эмиграции и о смерти вашего отца. Мне казалось, что однажды ночью во время перестрелки я видел его в Аргоннском лесу.
Надеясь узнать что-нибудь о вас из бумаг, оставленных вашим отцом, я испросил разрешения ознакомиться с ними и с этой целью отправился в Майнц. Штаб-квартира французских войск находилась во Франкфурте. Я поехал туда. Там я встретился с адъютантом генерала Кюстина; к сожалению, я успел забыть его имя.
– Гражданин Шарль Андре, – прошептала Ева.
– Да, да, Шарль Андре.
– Я его помню, – сказала Ева, с благодарностью подняв глаза к небу.
– Он позволил мне ознакомиться с бумагами.
Жак Мере на мгновение запнулся, он почувствовал, как у него дрожит голос.
– В числе этих бумаг, – продолжал он, овладев собой, – было ваше письмо ко мне, которое почтенная канонисса переслала вашему отцу. В то время я много бы отдал за то, чтобы сообщить вам, что горничная вас предала. Вот это письмо, возвращаю вам его. Оно уже никому не нужно, можете его уничтожить.
– О Жак! – воскликнула Ева, падая на колени. – Сохрани его, сохрани!
– Зачем? – удивился Жак, – Разве вы забыли, что в нем написано?
Он развернул письмо и прочитал ей вслух первые строки:
«Мой друг, мой повелитель, мой царь, – я сказала бы „мой Бог“, если бы не почтение к Богу, – ведь его я молю, чтобы он возвратил меня к тебе».
– Господь внял вашей мольбе, – сказал Жак с глубокой горечью, – и вот мы вместе.
Он поднес письмо к пламени свечи, собираясь сжечь его. Но Ева быстро вскочила и вырвала его у Жака из рук, загасив пальцами огонек, от которого обгорели края письма.
– Ах нет! – воскликнула она. – Раз ты хранил его три года, значит, ты любил меня, значит, ты его читал и перечитывал, значит, ты покрывал его поцелуями, значит, ты носил его у сердца. У меня нет твоих писем, это письмо заменит мне их. Я умру прижимая его к губам, его положат со мной в могилу, и когда Бог призовет меня к себе, я покажу ему это письмо и скажу: «Вот как я его любила!»
И, целуя письмо, обливая его слезами, она спрятала его у себя на груди.
– Продолжай, – сказала она, – ты меня убиваешь, это хорошо.
И она без сил опустилась на ковер.
– Вот другое письмо, – сказал Жак, прилагая все усилия, чтобы голос его не дрожал, – оно от маркиза де Шазле; оно адресовано вашей тетушке и пришло в Бурж как раз тогда, когда я, узнав, что вы в Бурже, приехал за вами туда. Узнав, что я вас разыскиваю, мне посоветовали взять письмо с собой, а не оставлять его там, куда его положил почтальон, – под воротами.
Я не застал вас в Майнце, вы уже уехали. Шарль Андре рассказал мне, что видел вас и говорил с вами обо мне. Ева не отвечала. Из глаз ее лились слезы.
– Когда тридцать первого мая меня и моих товарищей объявили вне закона, у меня еще оставалась слабая надежда, и я благословлял изгнание; оно позволило мне последовать за вами в Австрию, ибо я узнал, что там вы нашли себе прибежище. Я проехал через всю Францию и благополучно пересек границу; там я нанял почтовую карету и мчался день и ночь, чтобы поскорее попасть в Вену. Мой экипаж остановился только тогда, когда оказался перед домом номер одиннадцать на Йозефплац. Но тут я узнал, что неделю назад вы уехали… Это было мое последнее разочарование; впрочем, нет, я ошибаюсь: не последнее.
И поставив локоть на столик, подперев щеку рукой, он продолжал:
– Вот, сударыня, письмо маркиза де Шазле, прочтите его хотя бы из уважения к памяти вашего отца; наверно, он сообщает в нем свою последнюю волю. Оно адресовано вашей тетушке, но раз она умерла, то распечатайте его вы.
Ева машинально сломала печать и, словно подчиняясь высшей воле, которая на мгновение вернула ей силы, подошла поближе к кругу света, который отбрасывали свечи в канделябре, и прочла:
«Майнц……1793 г.
Сестра моя,
не принимайте во внимание мое последнее письмо, и если Вы еще не успели уехать, то оставайтесь.
Республиканцы судили меня и вынесли мне смертный приговор; через двенадцать часов я покину этот мир.
В торжественный час, когда я готовлюсь предстать перед Всевышним, мои взоры устремлены на Вас и на мою дочь,
Я не особенно тревожусь за Вас: Ваши лета и Ваши религиозные устои служат мне порукой. Вы либо будете жить тихо и избегнете гонений, либо взойдете на эшафот с гордо поднятой головой, как подобает истинной Шазле.
Но за мою бедную Элен я не так спокоен; ей всего пятнадцать лет, она только начинает свою жизнь и не сумеет ни жить, ни умереть.
– Вы ошибаетесь, отец! – воскликнула Ева, прерывая чтение письма, затем продолжала:
Ошутив перед лицом смерти ничтожество земного бытия, я не считаю себя вправе, покидая этот мир, брать на себя ответственность, которая при жизни нимало не испугала бы меня.
Если бы я был жив, я мог бы наставить мою дочь на путь истинный, но меня ждет смерть.
Любезная сестрица, если оба мы умрем, в этом мире не останется никого, кто любит ее, кроме этого человека, и она в свой черед не любит никого, кроме него.
Он хотя и не нашего круга, но (Вы уже двадцать раз об этом слышали) человек достойный и почтенный; пусть он не дворянин, но он ученый, а в наше время, пожалуй, лучше быть ученым, нежели дворянином.
Ева подняла глаза на Жака Мере. Он оставался безучастен.
Впрочем, если кто-либо и имеет на нее почти такие же права, как я, то это он, ведь он забрал ее у крестьян, которым я ее оставил, и превратил в прелестное умное существо, которое у вас перед глазами.
Он станет для Элен хорошим мужем, а для вас влиятельным заступником, поскольку разделяет проклятые убеждения, которые в настоящий момент одержали верх.
Ева остановилась: она прочла глазами следующие строки, и у нее перехватило дыхание.
– Дальше? – спросил Жак ровным голосом. Ева сделала над собой усилие и продолжала:
Я даю согласие на их брак и, стоя одной ногой в могиле, благословляю его.
Я хочу, чтобы моя дочь, которая не успела полюбить меня, пока я был жив, полюбила меня, хотя бы когда я умру.
Ваш брат
маркиз де Шазле».
Письмо упало на пол, Ева уронила руки на колени и склонила голову на грудь, как Магдалина Кановы.
Длинные волосы ее разметались по плечам.
Жак окинул ее суровым взглядом, каким мужчины смотрят на падшую женщину, потом, словно, ему казалось, что она еще мало страдала, сказал:
– Поднимите это письмо, оно важное.
– Что в нем важного?
– В нем согласие на ваш брак.
– С тобой, мой любимый, – сказала она нежным, кротким голосом, – но не с другим.
– Почему?
– Потому что здесь твое имя.
– Пусть так, – с горечью согласился Жак. – Но мое имя давно изгладилось из вашего сердца, оно исчезнет и с этого листка.
Послышался стук колес: к дому подъехал фиакр. Ева встала, пошатываясь, подошла к окну и раскрыла его.
– О, это уж слишком! – прошептала она.
Она испустила хриплый крик, и вслед за тем фиакр повернул к гостинице. Возница увидел раскрытое окно, белую фигуру женщины в проеме и понял, что она зовет его. Он подъехал и остановился у дверей.
Ева отошла от окна.
– Прощай, – сказала она Жаку. – Прощай навсегда.
– Куда вы едете?
– Туда, куда ты хотел, – к себе.
Жак посторонился, пропуская Еву к двери.
– Дай мне руку в последний раз, – попросила она с тоской в голосе.
Но Жак ограничился поклоном.
– Прощайте, сударыня, – сказал он. Ева бросилась вниз по лестнице, шепча:
– Надеюсь, Господь Бог не будет так жесток, как ты.
Слышал ли Жак эти слова? Задумался ли о них? Догадался ли о том, что у Евы на уме? Счел ли он, что отомщен, или, наоборот, полагая, что еще недостаточно отомстил за себя, он захотел узнать, где найти эту женщину, чтобы продлить ее мучения, – женщину, за чей покой он еще вчера готов был отдать жизнь? Во всяком случае, он подошел к окну и стал украдкой наблюдать за тем, что происходит на улице.
Ева вышла из гостиницы и дала кучеру луидор. Луидор – это было почти восемь тысяч франков ассигнатами. Возница покачал головой:
– Мне нечем дать вам сдачу, сударыня. Серебра у меня нет, а я не такой уж богач и не смогу набрать нужную сумму ассигнатами.
– Не надо сдачи, мой друг, – сказала Ева.
– Как это не надо сдачи? Значит, вы меня не нанимаете?
– Нет, нет, нанимаю.
– Но тогда…
– Возьмите разницу себе.
– Не стоит отказываться от добра, которое сваливается на нас с неба.
И он опустил луидор в карман.
Ева села в фиакр, кучер захлопнул за ней дверцу.
– Куда вас отвезти, сударыня?
– На середину моста Тюильри.
– Но ведь это не адрес.
– Это мой адрес, поезжайте.
Кучер сел на козлы и погнал лошадь к реке.
Жак Мере все слышал. На мгновение он замер, словно в сомнении. Потом решился:
– Раз так, я тоже покончу с собой.
И с непокрытой головой выскочил из дому, оставив окна и двери раскрытыми настежь.









































