Текст книги "Дочь маркиза"
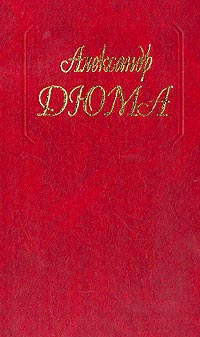
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Священник обвинил меня в пантеизме, а тетушка, которая не знала, что такое пантеизм, заявила, что я просто-напросто безбожница.
Как получается, мой дорогой учитель, как получается, мой любимый Жак, что именно нас, видящих Господа во всем: в мирах, которые кружатся у нас над головой; в воздухе, которым мы дышим; в океане, который мы не можем объять взглядом; в тополе, который гнется на ветру; в цветке, который тянется к солнцу; в капле росы, которую стряхивает заря; в бесконечно малом, в видимом и невидимом, во времени и в вечности, – как получается, что именно нас обвиняют в безбожии, то есть в неверии в Бога?
Наш бедный Сципион умер нынче утром. Теперь он знает великую тайну смерти, которую когда-нибудь узнаем и мы и которую никому не дано узнать до срока, ибо могилы немы и даже Шекспир не мог добиться ответа на этот вечный вопрос.
Сегодня утром я открыла дверь моей комнаты и не увидела Сципиона. Я поняла, что либо он умер, либо так расхворался, что не в силах дойти до меня.
Я сама пошла к нему.
Он был еще жив, но уже так ослаб, что не мог встать. Он лежал, не сводя глаз с двери, через которую я должна была выйти.
Когда он меня увидел, глаза его заблестели. Он радостно взвизгнул, завилял хвостом и высунулся из конуры.
Я принесла табурет и села рядом с ним; угадав его желание, я взяла его голову и положила к себе на ногу.
Именно этого он хотел.
В такой позе, неотрывно глядя на меня и лишь изредка отводя глаза в надежде увидеть вдали тебя, он умирал.
Право, тот, кто считает, что у безжалостного убийцы, который, выйдя за ворота тюрьмы, готов за сорок су убивать женщин и детей, есть душа, и отказывает в ней этому благородному животному, кажется мне лишенным не только рассудка, но и ума, – ведь оно, подобно рыболову из Священного Писания, который раскаялся в своих грехах и последовал за Господом, однажды содеяв зло, посвятило остаток дней своих добрым делам и любви.
Мой любимый Жак, в тот день, когда ты прочтешь эти строки, если ты их вообще когда-нибудь прочтешь, то, увидев дату, когда они написаны – 23 января 1793 года, – ты, наверно, решишь, что я сущее дитя, раз я так занята созерцанием умирающей собаки, меж тем как ты, быть может, стоишь в это мгновение среди обломков поверженного трона и видишь, как король всходит на эшафот. Но все относительно: любовь к королю, то есть к человеку, которого мы никогда не видели и с которым никогда не разговаривали, – общественная условность, результат воспитания, меж тем как чувство дружбы, которое я питаю к бедному животному, угасающему у меня на глазах и в меру своих способностей думающему обо мне, – почти чувство равного к равному, а не надо забывать, что Сципион долгое время был даже выше меня по развитию.
Что же касается поверженного трона, то он рушится под тяжестью восьмисотлетнего деспотизма с его беспрерывными казнями, по приговору всех великих философов и всех высоких умов нашего времени, и его обломки, символ ненависти и мести, катятся в пропасть, увлекая за собой всех самых смелых, самых верных и самых преданных родине людей.
…Наш бедный Сципион умер.
Последняя судорога пробежала по его телу, глаза закрылись, он испустил тихий стон – и все было кончено.

О смерть! О вечность! Разве ты не одинакова для всех тварей Божьих, по крайней мере, для всех тех, в ком билось сердце, для тех, кто страдал, для тех, кто любил.
Сципион похоронен в саду, и на камне, под которым он лежит, начертано лишь одно слово: Fidelis11
Верный (лат.)
[Закрыть].
Здесь Жак невольно остановился. Этот человек, который видел столько великих событий и ни разу не уронил ни слезинки, почувствовал, как взор его невольно затуманился; на рукописи был след Евиной слезы; слеза Жака упала рядом.
Он с грустью взглянул на кровать, на которой она спала, на стул, на котором она сидела, на стол, за которым она ела, несколько раз обошел вокруг комнаты, потом снова сел в кресло, взял в руки рукопись и продолжал читать.
Но между той датой, на которой он остановился, и той, с которой рассказ возобновлялся, прошло много времени.
Перед продолжением стояла дата – 26 мая 1793 года.
Завтра вечером я уезжаю во Францию. Это первое, что я делаю, обретя свободу. Я не думаю, что мне грозит опасность, а если даже и грозит, я презираю ее и радуюсь мысли, что пренебрегаю опасностью ради тебя.
Тетушка вчера умерла, с ней случился апоплексический удар. Она играла в вист с двумя старыми дамами и своим духовником; подошла ее очередь ходить, но она сидела не шевелясь с картами в руках.
«Что же вы, ваш ход», – сказал ей партнер.
Вместо ответа она испустила вздох и откинулась на спинку кресла.
Она была мертва.
…Какое счастье! Четвертого июня, не позже, я буду в твоих объятиях: не допускаю и мысли, что ты мог забыть меня!
Тебя, наверно, удивляет, что у меня не нашлось ни слова сожаления о бедной старой деве, которую мы завтра провожаем в последний путь, при том, что я на шести страницах описывала тебе предсмертные муки собаки; но что поделаешь, я дитя природы, я умею оплакивать лишь то, что меня в самом деле огорчает, и не могу сокрушаться о родственнице, которая по сути дела была моей тюремщицей. Вот эпитафия, которую я сочинила для нее; я думаю, что если бы она могла прочесть эту надпись, ее сословная гордость была бы удовлетворена:
ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ
БЛАГОЧЕСТИВАЯ И ДОСТОЙНАЯ ДЕВИЦА
КЛОД ЛОРРЕНАНАСТАЗИ ЛУИЗА АДЕЛАИДА
ДЕ ШАЗЛЕ,
КАИОНИССА И НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
МОНАСТЫРЯ АВГУСТИНОК
В БУРЖЕ.
ВЕТРОМ РЕВОЛЮЦИИ ЕЕ ЗАНЕСЛО НА ЧУЖБИНУ,
ГДЕ ОНА И ПОЧИЛА В БОЗЕ
XXV МАЯ 1793 ГОДА.
МОЛИТЕ ГОСПОДА ЗА УПОКОЙ ЕЕ ДУШИ
До свидания, любимый, в следующий раз я скажу тебе «люблю» уже не на бумаге, а въявь.
– Бедное дитя! – воскликнул Жак Мере, роняя рукопись, – она приехала через два дня после моего отъезда из Парижа!..
Но поскольку читать было чем дальше, тем интереснее, он со вздохом поднял рукопись и жадно впился в нее глазами.
4
О, надо мной несомненно тяготеет проклятие, ты ненадолго отвел его от меня, но тем тяжелее обрушилось оно на мою голову.
Я приезжаю в Париж и останавливаюсь в гостинице, к дверям которой привез меня дилижанс, оставляю вещи в своей комнате и бегу в Конвент. Прорвавшись к трибунам, ищу тебя глазами среди депутатов, но не нахожу и спрашиваю, где жирондисты.
Мне указывают на пустые скамьи.
– Они сидели здесь, – поясняют мне.
– Почему «сидели»?..
– Арестованы! В тюрьме! Сбежали!
Я снова спускаюсь с трибуны в надежде расспросить кого-нибудь из депутатов, чья наружность покажется мне внушающей доверие.
В коридоре мне навстречу идет какой-то депутат; в то мгновение, когда я поравнялась с ним, кто-то окликнул его:
– Камилл! Он обернулся.
– Гражданин, – сказала я. – Вас только что назвали Камилл.
– Да, гражданка, это имя я получил при крещении.
– Вы случайно не гражданин Камилл Демулен?
– Буду очень рад, если смогу быть вам полезен.
– Вы знакомы с депутатом Жаком Мере? – быстро спросила я.
– Хотя мы и в разных партиях, это не мешает нам быть друзьями.
– Вы можете мне сказать, где он сейчас?
– А вы не знаете, арестован он или сбежал?
– Десять минут назад я не знала даже, что он объявлен вне закона. Я приехала из Вены и сразу отправилась его искать. Я его невеста. Я его люблю!
– Бедное дитя! Вы уже были у него дома?
– Мы уже восемь месяцев не виделись и ничего не знаем друг о друге, я даже не знаю его адреса.
– Адрес мне известен. Позвольте предложить вам руку, мы пойдем к нему в гостиницу; быть может, хозяин нам что-нибудь скажет: он, по крайней мере, знает, не был ли Жак Мере арестован прямо дома.
– Ах, вы спасаете мне жизнь. Идемте же!
Я оперлась на руку Камилла, мы перешли площадь Карусель, вошли в гостиницу «Нант».
Мы спросили хозяина. Камилл Демулен назвался; нас проводили в маленький кабинет, и хозяин плотно притворил дверь.
– Гражданин, – сказал ему Камилл, – у тебя здесь жил один депутат, он мой друг и жених вот этой гражданки.
– Гражданин Жак Мере, – уточнила я.
– Да, он жил на антресолях, но второго июня исчез.
– Послушай, – сказал Демулен, – мы не из полиции, не из Коммуны, и мы не сторонники гражданина Марата, так что можешь нам доверять.
– Я бы и рад вам помочь, – ответил хозяин гостиницы, – но я на самом деле не знаю, что стало с гражданином Мере. Вечером второго июня явился жандарм, чтобы его арестовать; не застав его дома, жандарм остался в его комнате и ждал его позавчера и вчера; но поняв, что это бесполезно, он ушел.
– Когда вы видели Жака Мере в последний раз?
– Утром второго июня. Он, как обычно, вышел из дому и отправился в Конвент.
– Я видел его в этот же день, до четырех часов он сидел на своем обычном месте, – сказал Камилл.
– И больше он не появлялся? – спросила я.
– Больше я его не видел.
– Получается, что он съехал, не заплатив за гостиницу, возможно ли это? – удивилась я.
– Гражданин Жак Мере каждое утро платил за предыдущий день, очевидно, он знал, что может наступить момент, когда ему придется бежать не теряя ни минуты.
– Раз человек принимает такие меры предосторожности, – заметил Камилл, – значит, он опасается, что его могут арестовать. Вероятно, он направился в Кан, как и его единомышленники.
– Кто из жирондистов был его близким другом?
– Верньо, – сказал хозяин гостиницы, – я видел, что он чаще других приходил к нему.
– Верньо, скорее всего, арестован, – сказал Камилл. – Он слишком ленив, чтобы бежать.
– Как узнать наверное, арестован он или нет?
– Это очень просто, – сказал Камилл.
– Как?
– Жюли Кандей должна знать.
– Кто такая Жюли Кандей?
– Это прелестная актриса Французского театра, она вместе с Верньо сочинила «Прекрасную фермершу».
– Но мадемуазель Жюли Кандей может испугаться за свою репутацию.
– Бедняжка, она готова за него в огонь и в воду.
– Тогда она будет бояться за Верньо.
– Я просто спрошу ее, арестован он или нет. Пусть ответит мне только «да» или «нет», ведь это не может повредить Верньо.
– Так едемте же к мадемуазель Кандей.
Хозяин гостиницы подозвал фиакр, мы сели в него, и Камилл назвал адрес актрисы. Через пять минут мы остановились у дома номер 12 по улице Бурбон Вильнёв.
– Вы хотите подняться со мной или подождете в карете? Предупреждаю вас, что, как бы я ни торопился, ожидание покажется вам долгим.
– Я поднимусь с вами. А я не помешаю?
– Можете подождать меня в прихожей, – сказал Камилл, – а если увидите, что я долго не возвращаюсь, отбросьте приличия и войдите.
Мы быстро поднялись по красивой лестнице. Камилл позвонил. Дверь открыла горничная.
Не успел Камилл рта раскрыть, как она сказала:
– Мадемуазель никого не принимает. Она предупредила директора Французского театра, что не будет играть. Мадемуазель не может вас принять.
– Милая Мартон, – сказал Камилл, нимало не обескураженный таким приемом, – скажите мадемуазель Кандей всего два слова: «гражданин Камилл».
Горничная вышла, и почти тотчас послышались слова:
– О, если это Камилл, то проси, немедленно проси! Камилл сделал мне знак рукой и прошел в комнату мадемуазель Кандей. Через пять минут позвали и меня.
Мадемуазель Кандей лежала в постели с красными от слез глазами; но поскольку кокетство никогда не оставляет женщину, она была в прелестном пеньюаре.
Мне никогда не доводилось видеть, чтобы кто-либо с таким вкусом и удобством проливал слезы.
– Мадемуазель, – сказала мне красавица-актриса, – я узнала, что у нас с вами общие тревоги, что мы подруги по несчастью; но, несмотря на это, быть может, я могу что-нибудь для вас сделать? Это облегчило бы мои страдания.
Она сделала мне знак подойти поближе. Я подошла и села на край ее постели. Она взяла меня за руки.
– Теперь говорите, – сказала она.
– Увы, я прошу вас только об одном, – сказала я. – Человек, которого я люблю, по слухам, дружен с человеком, которого любите вы. Арестованы ли они? Бежали ли они? Если вы что-то знаете об одном из них, может быть, вы что-нибудь знаете и о другом? Человека, которого я люблю, зовут Жак Мере.
– Я знаю его, сударыня. Верньо представил мне его как одного из самых достойных людей среди своих единомышленников. Четыре дня назад, первого июня, он присутствовал на последнем заседании, где жирондисты решили поехать в провинцию и поднять департаменты на борьбу.
– Вы думаете, Жак согласился с этим решением? Тогда я, кажется, знаю, где его искать.
– Вряд ли, потому что в споре он выступал против. Он заявил, что не считает себя вправе становиться вне Франции союзником Австрии, а внутри Франции – союзником Вандеи. Верньо придерживался того же мнения.
– И с тех пор от него нет никаких вестей?
– Никаких. Я с минуты на минуту жду известия, что Верньо арестован.
И мадемуазель Кандей поднесла к глазам, из которых катились непритворные слезы, вышитый и надушенный батистовый платок.
– Судя по тому, что я слышу и вижу, самое лучшее, что вы можете сделать, – сказал Камилл Демулен, обращаясь ко мне, – это поселиться в каком-нибудь тихом месте, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Вы дочь эмигранта и невеста жирондиста, вам небезопасно оставаться в Париже: Революционный трибунал скоро расправится с теми, кого он подозревает, и в особенности с теми, кого он не подозревает. Пока вы будете отсиживаться в укромном уголке, я постараюсь что-нибудь разузнать и либо сам, либо моя жена Люсиль будем сообщать вам новости.
Я вопросительно посмотрела на мадемуазель Кандей.
– И правда, по-моему, это самое разумное; если я увижу Верньо, хотя я вряд ли его увижу – дело не в том, что я не знаю, где он находится, но полиция наверняка следит за каждым моим шагом, поэтому мне надо быть очень осторожной, – так вот, если я увижу Верньо, я спрошу его о Жаке Мере и, если что-нибудь узнаю, немедленно сообщу вам, милый Камилл. Положитесь на меня, я сделаю все, что в моих силах, моя юная подруга, – добавила она, обернувшись ко мне. – У нас общее горе. Надеюсь, слезы только укрепят нашу дружбу.
И обняв меня в последний раз, она с неизъяснимой грацией откинулась на подушки.
– Что вы решили? – спросил Камилл, когда мы вновь сели в фиакр.
– Я последую вашему совету, – ответила я.
– Ну что ж! Не будем терять времени. Я знаю маленькую квартирку на улице Гре; по-моему, она вам подойдет во всех отношениях; давайте заедем за вашими вещами и отправимся прямо туда.
– А если она мне не подойдет?
– Мы поищем другую и не выйдем из фиакра, пока не подыщем вам жилье. Слава Богу, сейчас в Париже много пустующих домов.
Квартирка на улице Гре мне очень понравилась: это были две чистенькие комнатки и кабинет; я не стала раздумывать и сразу же вселилась.
Два часа спустя ко мне пришла Люсиль Демулен и спросила, чем она может мне помочь.
Единственное, о чем я ее попросила, – подыскать мне горничную, на которую можно положиться. Она в тот же вечер прислала ко мне девушку – крестьянку из Арси-сюр-Об: ее мать была молочной сестрой Дантона; это он посоветовал девушке приехать в Париж, но сам он находился в Севре и был всецело поглощен новой любовью. Гладиатор набирался сил для будущей борьбы.
Камилл помог его землячке и порекомендовал ее мне.
Девушку звали Мария Ле Руа, поэтому перед поездкой в Париж она из предосторожности сменила имя; теперь она звалась Гиацинта Помье.
Ее прежние имя и фамилия в силу обстоятельств могли показаться подозрительными, новые же были совершенно безопасны.
Гиацинта была славная девушка, и я не могла ею нахвалиться.
Несколько дней спустя ко мне зашел Камилл; он получил известия из Кана. Ему сообщили, что Гюаде, Жансонне, Петион, Барбару и еще два или три изгнанника нашли приют в этом городе. Но Жака Мере среди них не было.
Несколько дней спустя Гиацинта доложила, что меня спрашивает Дантон. Он наконец-то вернулся в Париж. Я знала, что Дантон – твой лучший друг; Камилл Демулен рассказал мне, что он даже предлагал тебе спрятаться у него, но ты отказался.
Я подбежала к двери; мне захотелось самой встретить его и распахнуть перед ним дверь своей комнаты; хотя я была наслышана об уродстве львиного лица Дантона, увидев его, я невольно отшатнулась.
– Ну вот, – сказал он со смехом, – опять мое лицо меня подвело.
Я хотела извиниться, но он остановил меня:
– Не волнуйтесь, я привык.
Я пригласила его сесть, и он заговорил:
– Знаете, что сделало меня атеистом? Мое уродство. Я подумал: если Бог хоть как-то причастен, пусть даже просто советом, к созданию рода человеческого, то слишком несправедливо, что вы такая красавица, а я такой урод. Нет, я предпочитаю считать, что всему виной случай, то есть неразумная материя, которая творит не будучи творцом. И подумать только, ведь есть еще более безобразный человек, чем я, – это Марат; вы знаете Марата?
– Нет, гражданин; я никогда его не видела.
– Поглядите на него, и я ручаюсь вам, что после этого моя наружность покажется вам самой обычной.
– Но клянусь вам, гражданин… – начала я, краснея.
– Довольно об этом, поговорим лучше о Жаке Мере.
– У вас есть новости? – воскликнула я, схватив его за руки.
– Ну вот, я сразу похорошел! – рассмеялся Дантон.
– Умоляю вас, гражданин, расскажите мне все, что вы о нем знаете.
– Я ничего о нем не знаю, кроме того, что он вас безумно любит, и он совершенно прав, ибо единственная радость в жизни – это любовь. Я при всем моем уродстве влюблен, влюблен в свою молодую жену. Она сущий ангел, как и вы, она, может быть, не такая красавица, но зато достойна вместе с вами нести край плаща Пресвятой Девы. Вы знаете, перед свадьбой я все это признал: Деву Марию, Святого Духа, Бога Отца, Святую Троицу и все прочее. Я обратился в истинную веру с головы до пят. Если бы Марат об этом узнал, он бы перерезал мне глотку; но вы ведь не расскажете ему об этом, не правда ли? А я за это скажу вам, что сейчас Жак Мере, если ему удалось пересечь границу, находится в Вене и переворачивает весь город вверх ногами, чтобы вас найти.
– Но кто ему сказал, что я в Вене?
– Я. Йозефплац, дом одиннадцать. Разве не так?
– О, Боже мой, все верно!
– Так вот, если бы у вас хватило терпения дождаться его, весьма вероятно, что в это мгновение он прижимал бы вас к сердцу.
– Во имя Неба, гражданин Дантон, – взмолилась я, – расскажите все по порядку, а не то вы сведете меня с ума!
– Ну да, только этого мне не хватало; вы знаете, какое несчастье произошло тридцать первого мая.
– Вы говорите о проскрипциях жирондистов?
– В действительности это произошло второго июня, не так ли?
– Да.
– Ну что ж! Жак давно рассказал мне о своей любви к вам и просил разыскать вас. Мне нет нужды говорить вам, каким образом я раздобыл ваш адрес; я получил его тридцатого мая; когда я второго июня предлагал ему спрятаться в моем доме, он отказался, сказав, что у него есть более надежное убежище; я думаю, на самом деле он просто не хотел компрометировать меня; расставаясь, я вручил ему записку с адресом: Вена, Йозефплац, дом одиннадцать.
– И он уехал?
– Я думаю, уехал.
– Значит, он спасся?
– Не торопитесь радоваться; Провидение – штука добрая, но капризная; во всяком случае, у нас нет никаких известий. Вы знаете пословицу: «Отсутствие новостей – хорошая новость».
– Нельзя ли… – робко начала я.
– Говорите, – приказал Дантон.
– Можно ли таким же путем, каким вы узнали адрес, узнавать новости?
– Надеюсь.
– Что мне надо для этого делать?
– То же, что вы делали, пока вы были там, а он – здесь: ждать.
– Слишком долго придется ждать.
– Сколько вам лет?
– Скоро семнадцать.
– Вы можете подождать годик-другой и даже третий, и все же не успеете состариться до его возвращения.
– Вы думаете, через два-три года все кончится?
– Еще бы! Когда некого будет гильотинировать, это должно будет кончиться, а мы так рьяно взялись за дело, что это время не за горами.
– Но он…
– Да, я понимаю, вы тревожитесь прежде всего о нем.
– Вы думаете, ему удалось добраться до границы?
– Сегодня двадцатое июня; если бы его арестовали, мы бы об этом знали; если бы его убили, об этом бы тоже стало известно; самоубийством влюбленные не кончают. Так что, судя по всему, он добрался до границы. Я дам приказ полиции разыскать его и, как только узнаю что-нибудь новое, снова приду к вам, разве что…
Он рассмеялся.
– Господин Дантон, – сказала я, – позвольте мне поцеловать вас в благодарность за добрые вести.
– Меня? – спросил он удивленно.
– Да, вас.
Он приблизил ко мне свое страшное лицо, и я расцеловала обе его щеки.
– Ах, право! Вы, верно, очень его любите! И он со смехом вышел.
О да, я люблю тебя, и ради того, чтобы вновь увидеться с тобой, я готова не только поцеловать Дантона, но пойти на любую жертву.
Через несколько дней Дантон снова пришел.
Лицо его было грустным.
– Бедное дитя, – сказал он. – Сегодня вы не стали бы меня целовать.
Я застыла, бледная, не в силах произнести ни слова.
– Боже мой! Неужели он умер? – воскликнула я, когда вновь обрела дар речи.
– Нет. Но он сел в Штеттине на корабль и покинул Европу.
– Куда он поплыл?
– В Америку.
– Значит, он вне опасности?
– Если не считать опасности быть избранным президентом Соединенных Штатов.
Я глубоко вздохнула и протянула руку Дантону.
– Раз его жизни ничто не угрожает, значит, все в порядке, – сказала я. – Сегодня я не стану вас целовать, но вы можете поцеловать меня.
На глаза его навернулись слезы.
Ах, мой любимый Жак, какое сердце бьется под этой грубой оболочкой!
5
О мой любимый Жак, я только что видела ужасную картину; она еще долго будет стоять у меня перед глазами.
Я уже говорила тебе, что поселилась в маленькой квартирке на улице Гре.
Улица Гре ведет к улице Фоссе-Месье-ле-Пренс, а та в свой черед выходит на улицу Медицинской школы.
Нынче вечером, когда Гиацинта накрыла на стол и подала мне ужин, я услышала за окном громкий топот; до меня донеслись крики разъяренной толпы:
– Жирондисты, это жирондисты!
Мне было известно, что Верньо и Валазе арестованы. Я решила, что арестовали кого-то еще, и, несмотря на утешительные новости, которые сообщил мне Дантон, испугалась за тебя: представила себе, как ты находишься в руках жандармов, как они тащат, избивают тебя, как народ хочет растерзать тебя. Я как безумная выбежала из дому и бросилась вслед за людским потоком.
Перед домом номер 2022
Ныне номер 18. (Примеч. автора.)
[Закрыть] по улице Медицинской школы, большим унылым зданием с башенкой на углу, собралась огромная толпа.
Раздавались злобные выкрики, кровавые угрозы; в воздухе звенели слова «убийство», «смерть». Все взоры были устремлены на первый этаж, но занавеси на окнах были плотно задернуты, и любопытные ничего не могли разглядеть.
Вдруг одно окно распахнулось, и бледная, растрепанная, окровавленная, разъяренная женщина высунулась из окна с воплем:
– Все кончено, он умер! Друг народа умер! Марат умер!.. Отмщение, отмщение!
– Это Катрин Эврар, это госпожа Марат! – завопила толпа.
Народ хотел ворваться в дверь, которую охраняли двое часовых.
Сквозь рев толпы я услышала бой часов, они пробили семь раз.
Толпа смела бы часовых, но тут прибыл комиссар с шестью полицейскими ближайшего поста.
Рядом с несчастным созданием, которое продолжало вопить, ломая руки, появился цирюльник.
– Смотрите, – сказал он, размахивая окровавленным ножом, – смотрите, вот нож, которым она его убила!
– Это все жирондисты! – закричала женщина. – Она приехала из Кана! Несчастная! Это они подослали ее, чтобы убить его!
Через открытое окно люди пытались рассмотреть, что происходит в доме; послышались возгласы:
– Я вижу его!
– Где?
– В ванне.
– Он мертв?
– Да, руки бессильно свесились, он весь в крови! Потом послышался гул разъяренных голосов:
– Смерть жирондистам! Смерть предателям! Смерть друзьям Дюмурье!
Толпа была такой плотной, что я испугалась, как бы меня не задавили; видя, что тебя здесь нет, я стала думать, как бы мне отсюда выбраться, но вдруг почувствовала чью-то руку на своем плече.
Я обернулась и узнала Дантона.
– Что вы здесь делаете, вы хотите, чтобы вас задавили? – спросил он.
– Нет, – ответила я тихо, – но я услышала крики «Смерть жирондистам!», испугалась и прибежала.
– Он в самом деле мертв? – спросил он.
– Похоже, что да. Эта женщина распахнула окно и объявила, что он умер.
– Его смерть – важное событие, – сказал Дантон. – Теперь снова польется кровь.
– Мне кажется, наоборот: это Марат жаждал крови.
– Нет, он начал уставать. Ему на смену придут другие; они поднимут его опустевшую чашу и захотят утолить жажду. Видите ли, дитя мое, смерть Марата означает нашу смерть.
– Вашу смерть! – воскликнула я.
– Особенно мою. Этот человек стоял между мной и Робеспьером. Робеспьер обрушивался на него, когда не решался обрушиться на меня. Я поступал так же. Теперь, когда Марата нет, мы окажемся с Неподкупным лицом к лицу: больше некому принимать на себя удары. Теперь – или Робеспьер, или я, и, кто бы из нас ни пал в этой борьбе – Республике конец. Вы встретитесь с Жаком Мере раньше, чем я думал, дитя мое! А пока хотите увидеть Марата?
– Великий Боже! Что вы!
– Напрасно, это прелюбопытное зрелище, вы никогда больше такого не увидите. Говорят, его убила девушка ваших лет, такая же красавица, как вы.
– Девушка! – поразилась я. – Не может быть!
– Вы разве не верите, что в наше время могут быть Юдифи и Иаили?
– Девушка! Что могло толкнуть ее на такой поступок?
– Любовь к родине; она увидела, что Франция бездействует, и сделала за нее то, что нужно. Идемте, говорю вам, ручаюсь, что вы не пожалеете.
– Но как вы туда войдете?
– Так же, как сейчас входят Друэ, Шабо и Лежандр; я войду как депутат.
– А я как войду?
– А вы войдете об руку со мной. О, прежде чем один из нас – я или Робеспьер – падет, нам обоим еще нужно возвыситься.
Дантон потянул меня за собой. Я вздрогнула всем телом:
– Нет, ни за что!
– А я хочу, – продолжал он, – чтобы вы рассказали об этом зрелище вашему, вернее, нашему другу, когда нас с Робеспьером уже не будет.
Я покорно пошла за ним: меня вдруг охватило непреодолимое любопытство.
И все же в дверях я попыталась ускользнуть от Дантона.
– Ладно, – сказал он со смехом, – я просто хочу, чтобы вы убедились, что есть на свете мужчины – вернее, были, – еще более безобразные, чем я.
Я послушно шла за ним. Я знала, что увижу жуткую картину; но ужасное имеет свою притягательную силу, и оно неудержимо влекло меня к себе.
Поднявшись на семнадцать ступенек по наполовину деревянной, наполовину кирпичной лестнице с толстыми квадратными перилами, мы оказались на лестничной площадке.
Два солдата стояли у двери в квартиру. Мы прошли через первую комнату, куда проникло несколько любопытных, в мрачное, с окнами во двор, помещение, где набирали и фальцевали газету.
– Прямо, прямо, – сказал Дантон, – здесь владения начальника типографии и рабочих.
Оттуда мы прошли в маленькую гостиную, не только очень чистенькую, но очень уютную, что нас весьма удивило в жилище Марата. Правда, эта гостиная была не ж и – л ищем Марата, ведь у Марата не было ничего своего, – эта гостиная принадлежала бедному созданию, которое приютило его. Этот черный, кровожадный человек, этот мрачный буревестник, который только и делал, что драл глотку, на все лады призывая смерть на головы врагов, – так вот, Бог столь милостив и природа столь щедра, что этот человек нашел женщину, которая его полюбила.
Это она распахнула окно и стала выкрикивать проклятия его убийце.
Марата еще не перенесли в гостиную.
В гостиной собрались друзья дома, мастера-типографы: наборщики, фальцовщицы – рабочие, жившие за счет этого труженика, еще более бедного, чем они.
Наконец мы вошли в маленькую темную комнатку; ее освещали только две свечи да слабый свет уходящего дня, просачивающийся в окно.
Едва мы появились на пороге – Дантон, чья могучая фигура возвышалась надо всем вокруг, и я, опирающаяся на его руку, – старуха бросилась к нам, растопырив пальцы, словно хотела расцарапать мне лицо.
– Женщина, снова женщина! – завопила она. – Вдобавок молодая и хорошенькая! Вон отсюда, вам здесь не место, дура набитая!
Я хотела убежать, но Дантон удержал меня.
Потом он отстранил эту фурию, которая, уже давно предчувствовала, что смерть подкарауливает Марата, и никак не хотела впускать Шарлотту Корде, и сказал:
– Я Дантон.
– А, вы Дантон, – сказала Катрин, – и вы пришли посмотреть, не так ли? Понимаю, понимаю, труп врага всегда хорошо пахнет.
Она отошла и с сокрушенным видом села в углу.
И тут моим глазам открылось ужасное зрелище.
За маленьким столиком, стоявшим слева у изголовья ванны, сидел секретарь суда и под диктовку полицейского комиссара писал протокол допроса.

В изголовье ванны стояла красивая девушка лет двадцати четырех-двадцати пяти, с прекрасными волосами, стянутыми зеленой лентой, в чепце, который носят жительницы Кальвадоса; несмотря на страшную жару, несмотря на борьбу, которую она только что выдержала, она была в плотном шелковом платке, концы которого скрещивались на груди и были крепко завязаны сзади на талии; на белом платье ее алела струйка крови. Два солдата держали ее за руки, вполголоса осыпая оскорблениями и угрозами; она слушала их спокойно, на щеках ее играл румянец, на губах застыла довольная улыбка; она выглядела счастливой женщиной, а никак не великомученицей.
Это и была убийца – Шарлотта Корде.
У ее ног, в ванне, лежал отвратительный труп.
Вода в ванне стала кроваво-красного цвета; Марат, полуприкрытый грязной простыней, с запрокинутой головой, повязанной засаленным полотенцем, с искривленным больше обычного ртом, лежал, свесив руку за край ванны; тщедушный, с желтой кожей, он казался одним из безымянных чудовищ, которых показывают фокусники на ярмарках.
– Ну как? – шепотом спросил меня Дантон.
– Тише! – ответила я. – Слушайте. Секретарь суда спрашивал девушку:
– Вы признаете себя виновной в смерти Жана Поля Марата?
– Да, – отвечала девушка твердым, звонким, почти детским голосом.
– Кто внушил вам ненависть, которая толкнула вас на страшное злодеяние?
– Никто. Мне не нужна была чужая ненависть, у меня было довольно своей.
– Вас, наверно, кто-то надоумил?
Шарлотта спокойно покачала головой и с улыбкой сказала:
– Человек плохо исполняет то, что не сам задумал.
– За что вы ненавидели гражданина Марата?
– За его преступления.
– Что вы называете его преступлениями?
– Раны Франции.
– На что вы надеялись, убивая его?
– Вернуть мир и покой моей родине.
– Вы думаете, что убили всех Маратов?
– Раз этот мертв, может быть, другие испугаются.
– Когда вы решили убить Марата?
– Тридцать первого мая.
– Расскажите нам об обстоятельствах, которые предшествовали убийству.
– Сегодня, проходя через Пале-Рояль, я увидела ножовщика и купила новый нож с рукояткой из черного дерева.
– Сколько вы за него заплатили?
– Два франка.
– Что вы сделали потом?
– Я спрятала его на груди, села в карету на улице Богоматери Побед и приехала сюда.
– Продолжайте.
– Эта женщина не хотела меня впускать.









































