Текст книги "Дочь маркиза"
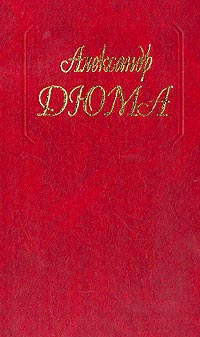
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
За этим номером, уже очень резким, последовал номер еще более резкий.
Я видела, что Камилл губит себя, и, помня о том, что он один из двух друзей, на попечение которых ты меня оставил и которые заботились обо мне в Париже, я побежала на улицу Старой Комедии, куда я приходила к Люсиль в те времена, когда Камилл и Дантон были всемогущи, и куда теперь приходили их перепуганные друзья, чтобы просить Камилла остановиться, пока не поздно.
У Камилла я встретила очень патриотически настроенного офицера по имени Брюн, явно не робкого десятка. Во время обеда он советовал Камиллу быть осторожным. Но Камилл вышел из себя и заявил, что считает трусостью отступить хоть на шаг.
Ему принесли гранки; он спокойно правил их, в одном месте вставил:
«Случилось чудо! Нынче ночью один человек умер в своей постели!»
Потом, видя, что Брюн пожал плечами, сказал по-латыни:
– Edamus et bibamus44
Будем есть и пить (лат.)
[Закрыть].
Он надеялся, что Люсиль его не услышит, и, думая, что я не понимаю, добавил:
– Cras enim moriemur55
Завтра мы умрем (лат.)
[Закрыть].
Я пошла к Люсиль и рассказала ей все, что услышала. Люсиль готовила шоколад.
– Оставьте его, оставьте его, пусть он выполнит свой долг и спасет Францию; те, кто думает по-другому, не получат моего шоколада.
Поскольку могила для Дантона была уже вырыта, оставалось только арестовать его.
Камилл переполнил чашу, потребовав в своей газете со– здания Комитета общественного милосердия.
Двадцать восьмого марта Дантон объявил нам, что ужинает с Робеспьером; общие друзья сделали последнюю попытку примирить их.
Я решила остаться ночевать в Севре, чтобы узнать, как пройдет эта встреча, для которой ужин был не более чем предлогом.
Он состоялся в Шарантоне, у Паниса.
Дантон вернулся около часу пополуночи.
– Ну что? – вскричали мы, как только он переступил порог.
– Ничего, – сказал он, – этот человек совершенно бесстрастен, это не человек, а призрак. Непонятно, как к нему подступиться, в нем нет ничего человеческого, по-моему, мы стали еще большими врагами, чем были.
– Но в конце концов, – спросила г-жа Дантон, – что же все-таки произошло? Расскажи подробно.
– Зачем? Я и сам не знаю, что произошло; разве можно что-нибудь понять из бесцветных невразумительных слов Робеспьера? Сплошные препирательства; он упрекал меня за сентябрьскую резню, как будто он не знает, что ее устроил не я, а Марат. Я упрекал его за жестокое подавление мятежей в Лионе и Нанте. Короче, мы расстались злейшими врагами.
Назавтра поползли слухи о том, что произошло.
Робеспьер сказал Панису:
– Сам видишь, нельзя допускать этого человека к власти: когда он в правительстве, он разлагает его изнутри, когда он не в правительстве, он угрожает. Мы не так сильны, чтобы махнуть на Дантона рукой, мы слишком смелы, чтобы его бояться; мы хотели мира, он хочет войны: он ее получит.
Друзья Дантона съехались в Севр, умоляя его предотвратить надвигающуюся бурю, призывая его к сопротивлению:
– Монтаньяры с тобой, – обещал мясник Лежандр.
– Войска на твоей стороне, – говорил эльзасец Вестерман.
– Общественное мнение за нас, – убеждал Камилл Демулен, который, благодаря «Старому кордельеру», следил, как бьется сердце Франции.
Но Дантон лишь гордо и безразлично улыбался в ответ, говоря:
– Они не посмеют напасть на меня, я сильнее их!
На следующий день, 31 марта, в шесть часов утра он и его друзья были арестованы.
Больше всех был потрясен бедный Камилл.
Когда вошли жандармы, он как раз распечатывал письмо, которое начиналось словами:
«Твоя мать умерла!»
Тогда же он узнал, что Дантон тоже арестован.
– Хорошо, – сказал он. – Куда он, туда и я.
Он поцеловал сына – малютку Ораса, который мирно спал в колыбели, и отдался в руки жандармов.
Его препроводили в тюрьму Люксембургского дворца. В тот же час туда привезли Дантона, и они вместе вступили под тюремные своды; первым, кого они увидели, был Эро де Сешель, который в ожидании казни играл с детьми тюремщика.
Он подбежал к Дантону и Камиллу и обнял их.
Весть о том, что Дантон и Демулен арестованы, всколыхнула весь Париж. Камилл Демулен был не в себе; он бился головой об стену, плакал, звал
Люсиль.
– К чему эти слезы? – увещевал его Дантон. – Нас ждет эшафот, пойдем же на смерть с улыбкой.
Из соседней камеры послышался слабый голос.
Там находился Фабр д'Эглантин.
– Кто ты, бедняга, в отчаянии рвущий на себе волосы? – спросил он.
– Я Камилл Демулен, – ответил заключенный.
– Значит, победила контрреволюция? – вскричал Фабр. Нагибая голову при входе в Люксембургскую тюрьму – это приходилось делать дважды только тем, кто шел на смерть, – Дантон прошептал:
– И в такое время я приказал учредить Революционный трибунал. Да простят меня за это Бог и люди.
Второго апреля в одиннадцать часов утра обвиняемые предстали перед судом.
Госпожа Дантон была в тягости, и недомогание помешало ей присутствовать на заседании; вместе с дантонистами судили двух или трех человек, замешанных в грязные денежные махинации; все это было сделано для того, чтобы публика подумала, будто Дантон, Камилл Демулен и Эро де Сешель – сообщники этих негодяев.
Увидев Дантона рядом с мошенниками Делонэ и д'Эспаньяком, секретарь трибунала не сдержался, отбросил свое перо, подошел и обнял Дантона.
– Ваш возраст, ваше имя и адрес? – спросили у него.
– Я Дантон, – ответил он, – мне тридцать пять лет; адресом моим завтра станет небытие; имя мое останется в Пантеоне истории.
Тот же самый вопрос был задан Камиллу Демулену.
– Я Камилл Демулен, – сказал он, – мне тридцать три года; это возраст санкюлота Иисуса Христа.
Из тюрьмы Камилл написал жене два письма; она получила их.
Обезумевшая от скорби, она бродила вокруг Люксембургского дворца. Камилл, прижавшись к решетке, пытался разглядеть ее, все его мысли были лишь о ней и о смерти.
Она обратилась к Робеспьеру; она написала ему, напоминая, что Камилл был его другом, что Робеспьер был свидетелем у них на свадьбе.
Робеспьер не ответил.
Она пришла к г-же Дантон, чтобы уговорить ее пойти вместе к Робеспьеру, пасть перед ним на колени и просить его помиловать их мужей.
Госпожа Дантон отказалась наотрез.
– Даже если бы я была уверена, что это спасет моего мужа, я не пошла бы на это. Когда носишь имя Дантона, лучше умереть, чем позволить унижать себя.
– В вас больше величия, чем во мне, – сказала Люсиль г-же Дантон.
Она ушла от нас в полном отчаянии.
Нет нужды говорить о том, какой им вынесли приговор.
В четыре часа явились подручные палача, они связали осужденным руки и остригли волосы.
Дантон не сопротивлялся; потом взглянул на себя в зеркало.
– Им удалось, – заметил он, – сделать меня еще более уродливым, чем обычно; по счастью, я не предстану в таком виде перед потомками.
Камилл Демулен никак не мог поверить, что Робеспьер дал согласие на его казнь. Когда он увидел, что вошли палачи, он впал в неистовство. Их приход был для него неожиданностью, он набросился на них, стал отчаянно с ними бороться.
Им пришлось повалить его и насильно связать ему руки и остричь волосы. Когда руки Камилла уже были связаны, он попросил Дантона, чтобы тот вынул у него из нагрудного кармана прядь волос Люсиль и вложил ему в руку: Камилл хотел умереть, сжимая ее в руке.
В повозке их было четырнадцать.
По пути Камилл взывал к толпе:
– Народ, ты что же, не узнаешь меня? Я Камилл Демулен! Это я брал Бастилию четырнадцатого июля, это я дал тебе кокарду, которую ты носишь!
Но в ответ на все эти крики толпа осыпала его оскорблениями; Дантон пытался успокоить друга, говоря:
– Умри с миром, и не обращай внимания на этот презренный сброд.
Когда они проезжали по улице Сент-Оноре мимо дома столяра Дюпле, где жил Робеспьер, толпа стала кричать еще громче, но двери и ставни дома были плотно закрыты.
Но Дантон встал в телеге, и все замолчали.
– Как бы хорошо ты ни спрятался, – закричал он, – ты услышишь мой голос! Я потяну тебя за собой, Робеспьер! Робеспьер, ты пойдешь за мной!
Тот и в самом деле услышал его слова; говорят, он опустил голову и сказал:
– Да, ты прав, Дантон, все мы сложим головы за Республику, правые и виноватые. Революция узнает своих сынов по ту сторону эшафота.
Эро де Сешель первым вышел из повозки; но прежде чем ступить на землю, он обернулся и хотел обнять Дантона. Палач не позволил.
– Дурень! – сказал Дантон, – ты не сможешь помешать тому, что через несколько мгновений наши головы поцелуются в корзине.
Следующим был Камилл Демулен; на эшафоте он вновь обрел спокойствие; бросив взгляд на окровавленный нож гильотины, он сказал:
– Вот конец первого апостола свободы. Затем обернулся к палачу:
– Передай волосы, которые у меня в руке, моей приемной матери.
Дантон взошел на эшафот последним. Никогда еще он не был так горд и величествен; он с жалостью оглядел народ, стоявший слева и справа от гильотины, и сказал палачу:
– Покажи им мою голову, она того стоит.
Когда на следующий день я приехала в Севр, чтобы разделить горе г-жи Дантон и поплакать с нею вместе, я увидела, что двери и ставни дома наглухо закрыты; все несчастное семейство, лишившееся главы, покинуло эти места, не оставив адреса.
Я вернулась к Люсиль – она была арестована в то же утро.
Через неделю она также взошла на эшафот.
С ее смертью я лишилась единственной и последней подруги. Париж для меня опустел.
Тогда в голове у меня зародились самые отчаянные мысли.
Я хотела покинуть Францию, уехать в Америку, чтобы найти тебя в этом новом мире.
Но увы! Я совсем забыла об одном обстоятельстве, и сейчас оно явилась для меня страшным ударом.
У меня оставалось всего несколько сотен франков: мне нечем было оплатить дорогу.
11
С этого момента, чувствуя себя одинокой и всеми покинутой, не имея от тебя вестей, не зная, жив ты или нет, я впала в оцепенение, из которого вышла лишь на мгновение, да и то лишь для того, чтобы впасть в оцепенение еще более глубокое.
Я уже говорила тебе, что наняла в прислуги деревенскую девушку по имени Гиацинта. На третий день после смерти Дантона она попросила у меня разрешения поехать на воскресенье к своей тетке, которая живет в Кламаре.
Я ее отпустила.
Поскольку у меня нет другой прислуги, Гиацинта все приготовила заранее, чтобы во время ее отсутствия у меня ни в чем не было недостатка.
Она уехала и на следующий день вернулась гораздо раньше, чем собиралась. В Кламаре произошло нечто необычайное.
Около девяти утра еще нестарый мужчина с длинной бородой вошел в кабачок «Колодец без вина». Глаза его блуждали, платье было порвано: видно, ночью он продирался сквозь колючие кусты. Незнакомец спросил поесть и ел так жадно, что привлек любопытство крестьян, которые сидели рядом и выпивали; эти крестьяне были членами революционного комитета в Кламаре.
Во время еды незнакомец раскрыл книгу и стал читать, переворачивая страницы такими белыми ухоженными руками, что санкюлоты ни на мгновение не усомнились, что перед ними враг Республики.
Крестьяне схватили его и потащили в местный комитет. Но поскольку ноги у него были ободраны и он не мог ступить ни шагу, ему помогли взобраться на старую клячу и препроводили в тюрьму городка Бур-ла-Рен.
Я торопливо спросила, каких лет пленник.
Гиацинта ответила, что он так разбит усталостью и лишениями, что невозможно понять, какого он возраста; она только слышала, что он один из тех, кто был изгнан из Конвента 31 мая и 2 июня вместе с жирондистами, но успел бежать.
Тогда во мне зародилась разом надежда и скорбь: не ты ли этот изгнанник, мой дорогой Жак. Я послала за коляской, взяла с собой Гиацинту, и мы не мешкая отправились в Кламар; хотя я знала, что арестованного там уже нет, я хотела собрать о нем самые подробные сведения.
В Кламаре я начала сомневаться, ты ли это; судя по описанию примет, он мало походил на тебя; но страдание так преображает нас, что я продолжала поиски.
Под вечер мы доехали до Бур-ла-Рен; заключенный был в камере, на следующий день его собирались везти в Париж.
Мы остановились на ночлег в маленькой гостинице, где я всю ночь не смыкала глаз, с нетерпением ожидая, когда наступит утро.
Там мне подтвердили, что человека, который почти год скрывался не то во Франции, не то за границей, схватили, когда он пытался пробраться в Париж.
Они ошибались. Все было наоборот: он тайком покинул Париж.
На рассвете я распахнула окно: в деревне поднялась суматоха; все бежали в сторону тюрьмы.
Я послала туда Гиацинту: силы оставили меня.
Гиацинта вернулась в полной растерянности.
Ночью пленник отравился; его нашли в постели мертвым.
Пока он был жив, я чувствовала себя разбитой, но, когда я узнала, что он умер, мной овладела решимость.
Подойдя к воротам тюрьмы, мы узнали, что покойного звали Кондорсе. Я довольно часто слышала это имя от Дантона и Камилла Демулена. Они произносили его с уважением.
Мне захотелось увидеть его.
Мы вошли в тюрьму; он лежал в камере на кровати. Казалось, будто он спит.
Это был человек лет пятидесяти пяти, почти лысый; тонкие, благородные черты, суровое лицо.
Я наклонилась над кроватью и долго смотрела на него.
Так вот что такое смерть!
Меня во второй раз охватило чувство глубокой зависти. Ведь этот покой в тысячу раз лучше, чем бурная и беспросветная жизнь, которую я вела! Зачем длить эту жизнь? Чтобы днем раньше или днем позже узнать о твоей смерти, как г-жа Кондорсе узнает о смерти своего мужа? Наверно, это был легкий и приятный яд – у Кондорсе такой умиротворенный вид. Вдобавок, яд был очень сильный: мне показали перстень, где он хранился, там могла уместиться лишь самая малость.
Где мне найти такой яд и почему я не попросила тебя, мой друг, подарить мне на прощание такое же кольцо, на случай если нам не суждено встретиться?
Я спросила, будет ли бдение у тела покойного. Желающих не нашлось. Я попросила разрешения провести ночь в молитве.
Я знала, что у г-на де Кондорсе молодая красивая жена. Я знала, что она глубоко привязана к этому человеку, годившемуся ей в отцы, и что у них маленький ребенок; еще я знала, что у нее есть небольшой магазин белья на улице Сент-Оноре, в доме номер 352. Над лавкой у нее была мастерская, где она писала портреты; на деньги, полученные за свою работу, а также на доходы от магазина она и жила; вместе с ней находились ее больная сестра, старая нянька и ребенок.
Получив позволение провести ночь в бдении около усопшего, которого завтра предадут земле, я взяла перо и села писать письмо г-же де Кондорсе.
«Сударыня! Я так же, как и Вы, оплакиваю человека, с которым разлучена, и, может быть, навсегда. Случай привел меня к смертному одру одного из самых великих людей нашей эпохи. Я не называю его имени, сударыня, Вы сами поймете, о ком я говорю. Я посылаю за Вами мою горничную и коляску, которая привезла нас сюда, она привезет и Вас; не мне принадлежит честь отдать последний долг человеку, за которого я молюсь».
Я отдала письмо Гиацинте и велела ей отвезти его в Париж по указанному адресу.
Она уехала.
К вечеру толпа посетителей, весь день окружавших кровать, поредела.
Воздействие траурных обрядов таково, что никому из простых людей даже в голову не пришло не то что оскорбить меня, но даже посмеяться надо мной.
Когда наступила ночь, тюремщик принес две свечи, поставил их на камин и спросил, не нужно ли мне что-нибудь.
Я попросила бульона, мне принесли его, и я осталась одна.
Кто говорит, мой любимый Жак, что смерть страшна? Когда душа жизни, любовь, как солнце, грустно уходит за горизонт, в нашей жизни наступает ночь, а ночь не что иное, как сестра смерти.
Поэтому за те пять или шесть часов, что я провела у мертвого тела, я приняла твердое решение.
Моих денег мне хватит месяца на два. Я не хочу просить милостыню. Трудиться я не умею; я проживу еще два месяца, надеясь на милость Провидения: вдруг за это время ты дашь о себе знать? Если через два месяца я не получу от тебя вестей, я не стану дожидаться смерти от голода – такая смерть слишком мучительна; я пойду в день казни на площадь Людовика XV и стану кричать: «Да здравствует король!» Меня схватят – и через три дня все будет кончено, я буду спать так же тихо и безмятежно, как это тело, рядом с которым я просидела всю ночь.
Увы, мой друг, чем больше я смотрю на него, тем больше проникаюсь верой в небытие. Передо мной останки человека талантливого, человека доброй воли, жившего по Божьим заповедям. Если когда-нибудь небесная душа обитала в теле человека, то именно в этом теле.
Сколько раз, спрашивала я его во время долгого бдения, когда мы были с ним одни среди тишины, среди молчания, когда я единственная не спала во всей тюрьме, а может, и во всем городке, – сколько раз я спрашивала его: «Тело, что стало с твоей душой?»
Мне кажется, если бы душа существовала, она подала бы какой-нибудь знак, когда ее торжественно заклинают в ночи. Только то, что не существует, не дает ответа.
Если бы душа могла отозваться, она несомненно откликнулась бы, когда Шекспир вопрошал смерть устами
Гамлета. Никогда еще к ней не обращались так возвышенно, никогда ее не просили так настойчиво.
И что делает Шекспир? Видя, что смерть не отвечает, он посылает Гамлета на смерть, чтобы тот сам узнал у смерти ее тайну.
Если бы этой тайной было просто небытие, если бы человек прожил всю жизнь в тоске и тревоге, цепляясь за смутную и хрупкую надежду, которая оборвется с его последним вздохом, и он снова погрузится в глухую ночь, без света, без памяти, в ночь, откуда он вышел в тот день, когда родился, то что стало бы, мой дорогой Жак, с нашими прекрасными надеждами на вечную жизнь друг подле друга; вслед за иллюзиями утраченного времени пришла бы утрата иллюзий вечности!
Если бы еще можно было понять, почему Бог оставляет нас в сомнении? Но нет, неисповедимы пути Господни!
Когда король посылает гонца на другой конец света, он, боясь, как бы гонец не заблудился в пути, говорит ему, с какой целью он его посылает.
Посылая Лаперуза в Океанию, Людовик XVI указывал, каким путем он должен был следовать в этом неведомом мире.
Лаперуз погиб. Но он хотя бы знал, с какой целью он послан, что ему следует искать, что он должен делать, если останется жив.
Что касается нас, то нас тоже бросают в бушующий океан, который куда грознее Индийского, и мы не знаем, что делать, и не знаем, что станется с нами, если нас поглотит буря.
И подумать только, что самые великие умы, созданные немым и невидимым Богом за шесть тысяч, а быть может, за двенадцать тысяч лет, как бы их ни звали – Гомер или Моисей, Солон или Зороастр, Эсхил или Конфуций, Данте или Шекспир, – задавали перед трупом брата, друга или чужого человека те же вопросы, которые я задаю этому покойнику, он должен был бы тем охотнее мне ответить, потому что добровольно поторопил смерть, – но никто и никогда не видел, как на лице трупа вздрагивает хоть один мускул, чтобы ответить «да» или «нет».
О мой друг, если бы ты был здесь, я сохранила бы веру, ибо легко верить, когда человек полон надежды, любви и радости; но вдали от тебя, в полном одиночестве, я скорблю, и уделом моим становится даже не сомнение; я верю только в отсутствие добра и зла, в вечный покой, в растворение нашего существа в лоне этой бесчувственной природы, которая равнодушно порождает ядовитое дерево и лекарственное растение, собаку, которая ластится к хозяину, и змею, которая кусает того, кто ее пригрел.
В три часа пополуночи я услышала, как по улице городка едет карета и останавливается у ворот тюрьмы.
Раздался стук, ворота открылись, и в сопровождении тюремщика и Гиацинты, которая осталась в дверях, вошла г-жа де Кондорсе.
Она сразу бросилась к кровати, на которой лежало тело ее мужа. Погруженная в глубокое горе, она не замечала ничего вокруг; я тихо
выскользнула из комнаты и вышла на улицу.
В шесть часов утра я вернулась к себе и спокойно заснула.
Решение было принято.
12
Проснувшись, я первым делом пересчитала те скромные деньги, что у меня еще оставались.
У меня было двести десять франков серебром и тридцать или сорок тысяч франков ассигнатами. Это было примерно одно и то же, потому что булка хлеба, которая стоила двенадцать су серебром, стоила восемьдесят франков ассигнатами.
Я задолжала Гиацинте жалованье за месяц; я рассчиталась с ней и заплатила за два месяца вперед – всего семьдесят пять франков.
У меня осталось сто тридцать пять франков.
Я ничего не сказала бедной девушке о моем решении и продолжала жить как прежде.
Увы! Никто уже не жил как прежде; мы погрузились если не в вечную тьму, то во всяком случае в сумерки, которые ее предвещают. Девяносто третий год был вулканом, но пламя его освещало все вокруг. В ту эпоху люди жили и умирали; а сегодня все корчатся в предсмертных судорогах.
На улицах раздавались крики.
Кричали: «Друг народа!»
Друга народа больше нет.
Кричали: «Папаша Дюшен!»
Папаши Дюшена больше нет.
Кричали: «Старый Кордельер!»
Старого Кордельера больше нет.
Говорили: «Вон идет Дантон!» – и все бежали, чтобы увидеть Дантона.
Нынче говорят: «Вон идет Робеспьер!» – и все закрывают поплотнее двери, чтобы не видеть Робеспьера.
Я увидела его впервые и сразу поняла, что это он.
Я ходила на кладбище Монсо на могилы Дантона, Демулена и Люсиль, я ходила туда не молиться – ты не научил меня молиться, – но посоветоваться с ними.
Я надеялась, что могилы ораторов будут более словоохотливы, чем тело философа.
Смерть – это не только тьма, это прежде всего тишина.
Могилы наших друзей находятся у стены, которая отделяет кладбище от парка Монсо. Я слышала за стеной голоса. Мне стало любопытно, кто пришел смущать могильный покой своими громкими речами.
Стена низкая, один камень в кладке выпал, и можно было посмотреть в проем.
Я посмотрела: это был он, Робеспьер.
Похоже, он каждый день совершает двухчасовую прогулку и выбрал для этой цели парк Монсо.
Знает ли он, что смерть от него в двух шагах?
Знает ли он, что только низкая непрочная каменная стена отделяет его от ложа из едкой негашеной извести, где покоятся Дантон, Камилл Демулен, Эро де Сешель, Фабр д'Эглантин? Хочет ли он бросить вызов мертвым, как бросал его живым?
Он шел быстро, его спутники с трудом поспевали за ним. Моргая глазами, с искаженным лицом, худой, изможденный, куда он идет и когда остановится?
Однако пора. Когда видишь, как отрубают головы жен-, шинам и детям, перестаешь бояться гильотины.
В газете Прюдома, единственной, которая уцелела, единственной, которая, перестав выходить, появилась вновь, несколько дней назад писали, как один любопытный, увидев, как действует гильотина, спросил у соседа:
– Что бы мне такое сделать? Уж больно хочется попасть на гильотину!
В другом номере был помещен рассказ о том, как палачи, придя за осужденным, застали его за чтением. Пока его готовили к казни, он не выпускал книгу из рук и продолжал читать до самого эшафота; когда повозка подъехала к подножию гильотины, он заложил нужную страницу закладкой, положил книгу на скамью и подставил руки, чтобы их связали.
Гиацинта рассказала мне, что третьего дня пять пленников ускользнули от жандармов; они не собирались бежать, они просто хотели напоследок пойти в Водевиль.
Один из пятерых возвращается в трибунал, который его осудил:
– Не можете ли вы мне сказать, где мои жандармы? Я их потерял.
На одной из трибун Конвента обнаружили спящего человека.
– Что вы здесь делаете? – спросили у него.
– Я пришел убить Робеспьера, но, пока он произносил речь, я уснул.
Ко мне приходила г-жа де Кондорсе: она хотела поблагодарить меня.
У нее лицо юной девы, которую мог бы выбрать Рафаэль, создавая свои бесплотные образы. Ей тридцать три года. Раньше она была канониссой. Но Кондорсе с риском для жизни спешил не к ней – наоборот, он спешил уйти подальше от нее; он скрывался на улице Сервандони, и раз в неделю она, трепеща от страха, с замирающим сердцем навещала его.
Он не хотел подвергать жену такой опасности. Кабанис дал ему сильный яд. Как и я, он решил положить конец своим мучениям. Он должен был закончить книгу «Прогресс человеческого разума». 6 апреля ночью он написал последнюю строку и на рассвете отправился в путь.
Как мы видим, ушел он недалеко. В Кламаре его опознали; в Бур-ла-Рен он покончил с собой.
Этой бедной женщине, чья душа «скорбит смертельно», как сказано в Евангелии, было суждено подарить мне мгновение радости.
Она знает, что в живых осталось еще четыре жирондиста, двое из них скрываются в Бордо, двое – в пещере Сент-Эмильона.
Она не знает их; когда она получит от них известия, то сообщит мне.
О мой любимый Жак, вот было бы чудесно, если бы ты оказался одним из этих четверых уцелевших жирондистов!
Через месяц-другой все может перемениться. Все ненавидят Робеспьера, клянусь тебе.
После смерти Дантона все легло на него. Ведь никто не забыл, что наших друзей постигла кара за призыв к милосердию.
Робеспьер убивал женщин – женщины убьют его, не в физическом смысле, как Шарлотта Корде, но в моральном.
Смерть Шарлотты Корде, ее спокойствие, непоколебимость, возвышенность основали религию, религию восхищения.
Смерть Дюбарри, бедного создания, которое умоляло на эшафоте: «Еще один миг, господин палач, еще хоть один миг» – основала религию жалости.
Но казнь нашей бедной Люсиль сделала еще больше. Не было ни одного человеческого существа, каких бы взглядов оно ни придерживалось, у которого сердце не обливалось бы кровью.
Что она сделала? Она хотела спасти любимого человека; она бродила вокруг тюрьмы; заливаясь слезами, она написала Робеспьеру: «Вы меня любили, вы просили моей руки».
Быть может, в этом было главное ее преступление, особенно если это письмо прочла мадемуазель Корнелия Дюпле.
Когда казнили Люсиль, все сказали себе: «О, это уж чересчур!»
И вот доказательство того, что я была права, мой дорогой Жак. Я уже говорила тебе, что г-же де Кондорсе принадлежит маленький бельевой магазин с мастерской над ним; он находится недалеко от дома, где живет Робеспьер; г-жа де Кондорсе услышала на улице громкий шум, подошла к окну и увидела, что перед домом столяра Дюпле собралась большая толпа.
Вот что случилось. Молодая девушка, роялистка, дочь владельца писчебумажного магазина в Сите, трижды приходила и просила свидания с Робеспьером.
На третий раз ее настойчивость вызвала подозрения у мадемуазель Корнелии, та кликнула рабочих, и они схватили девушку.
В корзинке у нее лежали два маленьких ножика.
Когда ее спросили, зачем она так настойчиво добивалась свидания с Робеспьером, она не ответила ничего, кроме того, что ей просто хотелось посмотреть, что такое тиран.
Ее препроводили в тюрьму Ла Форс, где уже сидит целая группа людей, которых обвиняют в том, что они хотели убить Робеспьера.
Вечером в Клубе якобинцев Лежандр и Руслен, плача от страха, потребовали, чтобы Робеспьеру дали телохранителей.
Таким образом, когда чья-то звезда закатилась – а звезда этого человека положительно закатилась, – друзья и враги объединяются, чтобы погубить его.
Бедняжка Рено – его противница; она называет его тираном и хочет убить. Руслен и Лежандр – его друзья; они также объявляют его тираном, требуя для него телохранителей.
Я всю ночь не спала и все думала, что, раз уж я решила умереть, не лучше ли попытаться извлечь из моей смерти какую-то пользу.
Говорят, скоро должно состояться большое торжество, праздник Верховного Существа, во время которого Робеспьер будет символизировать сам себя как искупителя мира.
Этому человеку мало быть властелином, он хочет быть Богом.
Я размышляла о том, не подать ли мне великий пример, убив его во время его триумфа.
Но только если надо подать этот великий пример, то почему этого не делает сам Бог?
Раз такой человек существует, значит, Бог это дозволяет. Раз Бог дозволяет его существование, значит, он служит его целям.
Быть может, он живет как орудие Божьей кары?
Нет, ведь тогда он карал бы лишь дурных людей; нет, ведь тогда он щадил бы женщин и детей.
Быть может, он живет благодаря забывчивости или снисходительности?
Но пристало ли человеку исправлять ошибки Бога?
Нет, мой любимый, я не Иаиль, не Юдифь, не Шарлотта Корде. Я предпочитаю предстать перед неведомым существом, которое ждет меня за гранью жизни, с не запятнанными кровью руками.
С меня хватит того, что я буду повинна в своей собственной смерти.
Его пресловутый праздник состоялся. Никогда еще столько цветов не усыпали путь, по которому в свой праздник некогда проходил Господь. Говорят, что царство крови кончилось, что на смену ему приходит царство милосердия. Робеспьер совершил богослужение как верховный жрец Верховного Существа.
Гильотина исчезла с площади Революции?
Да, но, как исчезает солнце, чтобы завтра снова взойти, она, как солнце, зашла на западе и взошла на востоке.
Отныне казни будут происходить в Сент-Антуанском предместье – вот какую пользу принес Парижу праздник Верховного Существа.
Повозки со смертниками не будут больше следовать по Новому Мосту, по улице Руль и по улице Сент-Оноре.
Робеспьер хочет приговаривать к смерти, но он не хочет, чтобы приговоренные, когда их везут на казнь, кричали, проезжая мимо дома столяра Дюпле, как Дантон:
– Я потяну тебя за собой, Робеспьер! Робеспьер, ты пойдешь за мной! Однако ему готовят славный подарок.
Пятьдесят четыре человека в один день, из них семь или восемь красивых женщин, две или три совсем молоденькие.
Если бы процесс состоялся чуть позже, у меня была бы надежда войти в их число.
Что ни день, то рассказывают ужасные вещи, от которых народный гнев закипает, как лава вулкана.
Вот что произошло вчера в Плесси.
Один осужденный по имени Ослен – печально известное имя, – когда за ним пришли, чтобы везти на казнь, не имея другого оружия, всадил себе в сердце гвоздь.
Его схватили и потащили. Он толкал и толкал в себя гвоздь, но ему никак не удавалось покончить с собой. Тюремщикам стало жаль его, и они потащили его назад со словами:
– Он мертв.
Подручные палача тянули его вперед со словами:
– Он жив!
Они оказались сильнее. Ослена бросили в повозку смертников и, пустив лошадей рысью, успели гильотинировать его живым.
Не находишь ли ты, мой дорогой, что подобные вещи позорят свет Божий и стыдно жить после того, как их увидел?
У меня большое желание бросить два или три луидора, которые у меня еще остались, в Сену, чтобы скорее покончить счеты с жизнью.
Дабы свыкнуться с мыслью о смерти, я хочу поговорить немного о кладбище.
Ты помнишь, дорогой, эту прекрасную сцену в «Гамлете», когда могильщики шутят и один спрашивает у другого, кто прочнее всех строит, а видя, что его собеседник затрудняется ответить, говорит ему:
– Дурень! Это могильщик; дома, которые он строит, простоят до Судного дня.
Ну что ж, мой друг, в наше время, когда не осталось ничего прочного, могила стала столь же непрочной, как и все остальное.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































