Текст книги "Две пары"
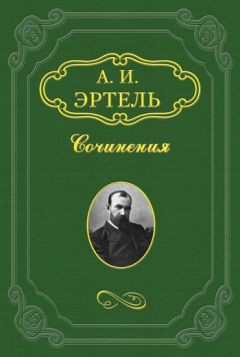
Автор книги: Александр Эртель
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
– Но вот мы дарим вам землю, двадцать десятин…
– Слышала, слышала, золотая моя… И как за вас, благодетелей, бога молить будем! Думали мы… Батюшка-то слышать не хочет, мы с матушкой думали. Аль мы Федору-то худа желаем? Мы не токма – мы изболели за него, голубчика… Ляжешь так-то спать, всю подушку слезами обольешь. Как быть, как быть-то, болезная? Ты подумай только: родитель весь век в плотниках ходил; человек он строгий, богомольный, стала ему артель доверять… Иные подрядчики капиталы наживают, а он себе только и нажил что избу хорошую да пчельник, да скотом обзавелся мало-мальски; теперь бы успокоиться старичку, – развел он садик, и днюет и ночует там: то привьет, то окопает, то сучья обрежет да польет… За пчелками ходит, вот все Максимушка мой подсобляет дедушке… Придет праздник, он утрени, обедни не пропустит. Посуди сама, желанная, ему ли свое гнездо рушить? Знает он вашу Самару-то, поди, в плотниках ходил, везде побывал: не по душе, говорит, мне тамошний народ; там, говорит, вот какой народ: бог его поваля кормит… Деревня, что твоя куча навозная: ни тебе ветелочки, ни тебе садочка… Огородов настоящих и тех нет; везде-то грязь да солома… И как я, говорит, на старости лет место насиженное брошу? Вот, говорит, церква у меня в глазах, как я ее, матушку, брошу? Бывает, переселяются которые, да ведь отчего переселяются-то?.. А иные старички так с тоски и помирают на новых местах.
– Да, это действительно очень тяжело переселяться… Но пускай Федор берет землю и живет на ней с женою.
– Ох, милая ты моя! Ишь ваше дело-то господское… Вам-то со стороны, а нам-то ножом по сердцу. Где же это видано, чтобы муж да от жены да за эдакую-то даль подсоблять стал? А родитель, не дай господи, помрет, я совсем разнесчастная останусь. Ведь сиротки-то – вот они… Ты думаешь, сердце-то не болит по ним?.. А родитель-то! Ты думаешь, благо ему сына-то из гнезда своего отпустить?.. Легкое дело! Даль-то, матушка, страшенная. Я три дня водою плыла, восемь целковых копейка в копеечку потратила, ведь ребятешки-то вот они какие, а за них заплати. Ты подумай так-то. Мы-то, горемычные, будем там биться, старый да малый да убогий, а здесь тесть, теща, родня, жена… Братец-то Федор куда какой жалостливый; уж если он сохнет по девке, то уж она его окружит, обовьет.
– Нет, Лиза совершенно не такая, как вы, может быть, думаете.
– Да я разве корю ее? Сударыня моя, я бы на ее месте повиликой обвилась вокруг мужа. Я ее не корю, а только братец-то не кормилец нам, мы-то сиротами останемся.
– Но если он не женится на Лизе, я не знаю, что с ним сделается.
– И-и, родная ты моя… Знамо, дело-то ваше господское… Мало ли девок? Да ты посмотри, у нас в праздник соберутся, иная королева-королевой. А известно, замстило ему, вошло ему в сердце, вот и кажется, что лучше этой нету.
– Но что же делать? – воскликнула глубоко растроганная Марья Павловна. – В зятья идти нельзя, переселяться нельзя, туда к вам не отдадут…
– Как можно отдать на чужую сторону!
– Что же делать?
– Одно, сударыня, – молить братца Федора: смилуйся, братец Федор, над сиротами, пожалей свою кровь родную… Затем и приехала, и сироток вот привезла с собой, авось размякнет его сердечушко, – сказала Афимья упавшим голосом и, вдруг быстро подвинувшись, бросилась на колени перед Марьей Павловной. – Желанная ты моя! Ласточка ты моя сизокрылая! – заголосила она. – Не давай ты ему землю… Не смущайте вы его землею!.. Пожалей ты сирот горькиих!.. И куда же мне теперь, горькой горюшечке, приклонитися, к какому мне бережечку прислонитися?.. Детушки мои, родимые, падайте вы в ноги милостивой барыне!.. Несмышленушки мои!.. Птенчики глупые!.. Али вы, детушки, беду свою не видите, не разумеете горькую свою участь?.. Находитесь вы, мои детушки милые, разумши и раздемши, и голодны и холодны… Сударыня моя! – И, охватив руками ноги Марьи Павловны, она вся подергивалась от рыданий.
Ребята подскочили к матери и плакали навзрыд, теребя ее за сарафан, за платок и крича: «Мамка! Мамка!»
Марья Павловна была потрясена до глубины души. Она растерянно протягивала руки к плачущим детям, к Афимье, гладила ее волосы, хватала ее за руки, бормотала какие-то слова, целовала ее, сама опустившись на колени, и нервически неудержимо рыдала. На шум прибежала испуганная горничная; мгновенно появились на сцену вода, нашатырный спирт, валерьяновые капли.
Афимью кое-как подняли и прогнали в людскую, а Марью Павловну увели под руки в спальню. И она долго плакала там, вздрагивая всем телом, точно от озноба, и думала. «Нет, нет, тут нет выхода… Тут ужасная, трагическая коллизия! Господи! Как мне их жалко, и как я бессильна! – И затем злобно и презрительно усмехалась на самое себя. – Жертвовательница! Благотворительница! – мысленно восклицала она. – Собралась счастье делать!.. Боже мой, какое горе я растравила и какая дерзость, какая дерзость судить с одной только стороны!»
Тем временем собрались на хутор плотники, и Федор узнав, что приехала сестра с детьми, сразу почуял недоброе. При взгляде на заплаканное лицо Афимьи он еще более утвердился на этой мысли о недобром, и сердце его болезненно заныло. Потупив глаза, он троекратно поцеловался с сестрой, погладил ребят, вяло спросил о здоровье отца и матери. Другие плотники, бывшие из соседней с Федором деревни, очень обрадовались Афимье. Севши за ужин, они наперерыв спрашивали ее. И в ее ответах живо восстановлялся перед ними быт родной их деревни. Кому она привезла рубахи, гостинцы, кому поклоны; рассказала об урожае; о том, что наконец-то сместили старшину Аристарха; что изобильно уродилась «антоновка», что на покосе опять подрались погореловцы с васютинскими; что починили и покрасили церковную ограду. Федор, молча хлебавший молоко, вслушивался и незаметно для себя все больше и больше заинтересовывался рассказами сестры. Только в конце ужина опять сжалось его сердце. Леонтий шутя сказал:
– Что, тетка Афимья, аль на свадьбу приехала?
Афимья промолчала, и все поняли, что об этом нельзя спрашивать. И скоро разошлись спать. Федор повел сестру с ребятами в пустой амбар, в котором стояла его кровать. И уж поздно ночью кто еще не спал на хуторе услыхал оттуда женские причитанья и вопли и плач детей. Затем все стихло и все мало-помалу заснуло. Только на пороге пустого амбара можно было заметить женщину, озаренную холодным лунным светом, сидевшую сгорбившись, подперев руками голову, в темненьком платочке, она сидела неподвижно, как изваяние.
Федор уложил детей на своей постели, молча дождался, когда они заснули, все еще всхлипывая во сне, и вышел из амбара.
– Куда же это ты, Федюшка? – с тревогой прошептала Афимья.
– А я пойду на сеновал: спать что-то хочется, – тихо ответил Федор и, чтоб совершенно успокоить сестру сказал – Так ты говоришь, «антоновка»-то уродилась ноне?
– И-и темная уродилась! – ответила Афимья.
Но, пропустив мимо ушей этот ответ, Федор пошел по направлению к конюшне, миновал ее незаметно для сестры и скрылся за хутором. Там он сел на канаве, около леса, там он думал и вздыхал, покуривая цигарку, и когда уж месяц зашел за середину неба и время перевалило далеко за полночь, он поднялся, сказав: «Эхма, не так живи, как хочется», – и, сопровождаемый длинною косою тенью, пошел на сеновал. И, проходя, видел при свете месяца, как на пороге амбара все в той же окаменелой неподвижности, все так же склонив голову на руки, сидела Афимья.
На третий день утром Марья Павловна, все еще бледная, с синевою под глазами, вышла к чаю. Ей сказали, что пришел Федор. Вид его бы такой, как бы он пришел поговорить о самом обыкновенном; только лицо слегка осунулось, и выражение было холодное и строгое.
– Что вам, Федор? – с участием и с любопытством спросила Марья Павловна.
– Сергей Петрович когда будет с пристани?
– Да, вероятно, дня через три. А вам он нужен?
– Тут насчет земли… Земли нам не надо…
– Вы, значит, раздумали жениться?
– Жениться-то?.. Вот насчет земли я, – не надо, мол, нам. Да еще насчет подводы – сестру бы мне отвезть на станцию.
– Возьмите, возьмите, пожалуйста.
Больше этого у ней язык не поворотился сказать Федору. Но вопреки своим прежним мнениям она готова была умиляться перед Федором за его отказ от земли, а следовательно – и от женитьбы на Лизе. «Господи, какой героизм и какая сила характера!» – думала она.
Афимья пришла к ней проститься.
– Вы бы погостили у нас, голубушка! – сказала ей Марья Павловна.
– Рада бы радостью, сударыня, да старичков-то своих спешу утешить. А там еще капусту надо рубить, под яровое метать.
– Что, упросили Федора?
– Слава тебе, господи, – понизив голос, сказала Афимья, и ее лицо просветлело от радостной улыбки. – Склонила его, умилостливила… Вы уж, радельница моя, землею-то его не смущайте. Авось как-нибудь, авось господь милостив, пронесет мимо нас… Только бы нам поскорее домой-то залучить его, сокола нашего ясного, а уж мы найдем невесту, подыщем, – есть на примете… Он-то ее не знает, а уж такая разумница, такая работница… Только ради Христа-создателя землей-то его не смущайте!
Хотела было сказать ей Марья Павловна, как же теперь быть с Иваном Петровым, но вспомнила все подробности сватовства, как Сергей Петрович взял на свою ответственность слишком многое, и промолчала. «Поделом, – подумала она, – пусть выпутывается как знает!» – и, расцеловавшись, простилась с Афимьей.
IX
Возвращаясь со станции к себе на хутор, Сергей Петрович узнал от кучера, что приезжала сестра Федора и что Федор отказался от женитьбы на Лизутке. Сергей Петрович ужасно был рассержен этим. С пристани он возвращался очень недовольный состоянием цен на пшеницу и прижимками купцов; новость о Федоре подлила масла. Еще не успев повидаться с Марьей Павловной, он закричал ей:
– Каковы твои перлы!.. Ведь я говорил тебе… Хлопочи после этого за них, старайся!.. Достаточен был приезд какой-то глупой бабы, чтобы все пошло к черту. Я тебе тысячу раз говорил, что это скоты и скоты!
Марью Павловну неприятно поразили эти слова и особенно тон, которым они были сказаны. То, что она думала в последние дни о Федоре и об его сестре, так решительно расходилось с этим тоном и словами Сергея Петровича, что у ней не нашлось даже слов пояснить свои думы и рассказать о них Сергею Петровичу. Вместо этого она, в свою очередь, рассердилась и вскрикнула:
– Можешь утешиться: то же самое говорит и моя горничная!
– То есть ты приравниваешь меня к твоей горничной?
– Я сказала, что хотела сказать.
– Очень польщен. Но тогда не нужно бы менять настоящего человека на человека с мнениями горничной.
– Послушайте, Сергей Петрович, – изменившимся голосом сказала Марья Павловна, – не рано ли вы начали упрекать меня в легкости поведения? – сказала и, не замечая отсутствия логической связи в своих словах, ушла в свою комнату, крепко хлопнув дверью.
– Как в легкости поведения? – вскрикнул ошеломленный Сергей Петрович, бросаясь за нею; но было уже поздно: дверь затворилась.
Тогда он прошел в свой кабинет, машинально выложил из карманов и запер в бюро бумаги и деньги и, не зная, что делать теперь, так и опустился на стул в дорожном пальто и в сумке через плечо. Он никак не мог объяснить себе, из-за чего произошла между ними эта первая ссора. Давно ли Марья Павловна одинаково с ним смотрела на отношения Федора к Лизе и одинаково с ним негодовала на «косность» и «неразвитие» Федора, на его рабское подчинение «глупейшим традициям»? Действительно, Сергей Петрович, употребив слово «скоты», пересолил, но должна же она была понять, что это сказано в раздражении. «Да и действительно скоты! – повторил он громко, внезапно вспомнив, что поставлен отказом Федора в глупейшее положение. – Не угодно ли теперь объясняться с этим неотесанным Иваном Петровым!» Но, потративши несколько минут на негодование, Сергей Петрович опять возвратился к тому, что его по преимуществу огорчало. И мало-помалу он убедился, что был виноват: ему ли говорить так о крестьянах (скоты), когда он прежде возвышал их в глазах Марьи Павловны? Положим, штука, которую выкинул Федор, способна всякого взбесить: положим, это вышло черт знает как скверно, – и сватовство, и вообще вся эта глупая филантропия… Но все-таки при Марье Павловне не следовало так грубо обнаруживать свой, хотя бы и справедливый, гнев. Он встал и пошел к дверям ее комнаты и прежде, чем постучаться, постоял в нерешительности. И очень обрадовался, когда в ответ на стук слабый голос Марьи Павловны произнес:
– Это ты, Serge? Пожалуйста, иди.
Он ее застал со следами слез на глазах и в полном сознании своей виновности. Правда, она все еще обвиняла его за «скотов» («И как это ты мог, Serge, как мог?»), но в остальном винила себя. Они примирились, растроганные и умиленные этим обоюдным желанием примирения и быстрым сознанием своей вины друг перед другом. И тогда Марья Павловна рассказала ему об Афимье и о том, что говорила ей Афимья о своей жизни.
– Знаешь, Serge, я первый раз в жизни встретилась с таким истинно нечеловеческим горем!.. Вот уж «сплошная истома и воплощенный испуг». Господи, если бы ты видел это страдальческое лицо. И точно, все, что мы тобой делали, все эти наши планы… такая чепуха, такая чепуха!
Опасаясь возразить что-нибудь, Сергей Петрович все-таки не удержался и пожал плечами.
– Чепуха, мой милый! – повторила Марья Павловна.
– Но даровая земля… чернозем? – пробормотал он.
– Ах, ты пойми, пойми, что это невозможно… О, тут нужно разрешение гораздо глубже. – И в несвязных словах, путаясь и увлекаясь, она старалась посвятить Сергея Петровича в ясный для нее нравственный мир Федорова отца и в основательные опасения Афимьи.
– Как же теперь быть с Иваном Петровым?
– Я уж не знаю. Но согласись, Serge, что ты сам виноват. Ты положительно погорячился тогда. Зачем было идти так далеко?
– Ты, однако, радовалась, что я пошел так далеко.
– Да, да, и я ошибалась… Но я вижу, что я ничего, ничего не знаю. Я решительно путаюсь в этих сложных вещах… Все, все не так! Мы совершенно скомпрометированы этою историей!
Сергей Петрович вздохнул и взъерошил волосы.
– Н-да, – сказал он сквозь зубы, – дела!
– Но как же ты-то, Serge? Ведь ты так знаешь деревню – и вот попал впросак!
– Да, скажи на милость, как не попасть впросак с этою непроходимою дикостью понятий? – воскликнул Сергей Петрович, но тотчас же спохватился и мягко добавил: – И, конечно, я несколько погорячился.
– Это все-таки такой героизм, такой… – задумчиво проговорила Марья Павловна.
Однако делать было нечего: оставалось придумывать, как выйти из ложного и смешного положения. И они долго говорили об этом и остановились еще на одной «комбинации», которую придумал Сергей Петрович. Его самого недостаточно удовлетворяла такая «комбинация»; Марья Павловна плохо верила в ее успех, но делать больше было нечего. Затем Сергей Петрович мрачно обошел усадьбу, придрался к конюху Никодиму за невычищенную сбрую и вволю разругал его, назвавши несколько раз «скотом», «ослом» и «лентяем»; брезгливо осмотрел постройки, не обратив никакого внимания на поклон Федора и других плотников. На другой день он велел запрячь лошадь в дрожки и, взяв с собой Никодима, отправился к Ивану Петрову.
В семье Лизутки давно уже знали, что приезжала Афимья и что Федор решил не жениться. И мало того, что знали в семье Лизутки и вообще в Лутошках, дошел этот слух и в Лосково до Степана Арефьева. И старик не стал медлить: переговорив с сыном, который на ту пору уже воротился из Самары, он поехал к куму. Кума он застал мрачным и смущенным, Митревна была с заплаканными глазами. Лизутка только вскользь показалась ему и скрылась в клеть. Степан Арефьев с веселым смешком поздоровался с хозяевами, не подал им и вида, что знает что-нибудь, и первым словом сказал, что едет на мельницу и вот заехал по дороге. После таких слов Митревна сразу оживилась и суетливо принялась колоть лучину, чтоб угостить кума яичницей. Ивановы брови слегка раздвинулись. Лизутка же, мгновенно поняв, зачем приехал Степан Арефьев, забилась на сундук в углу клети и горько плакала. И все-таки за всеми слезами, которые она проливала, за всем несомненным горем, которое она испытывала, ее утешал приезд Степана Арефьева, потому что она видела теперь, что «люди не совсем осудили ее», что она «не брошенная, не осрамленная», как думала, когда к ней пришло известие об отказе Федора; ей ведь «было стыдно в люди показаться, людям в глаза глядеть»; она не выходила за ворота, виделась только с Дашкой, да и то поздним вечером, выскакивала из избы каждый раз, когда входил туда кто-нибудь из соседей. Теперь она знала, что все это изменится, горько жалела Федора, жалела себя, но все-таки ей было легче, чем все эти дни. За полуштофом, который незаметно вынул из своего объемистого кармана Степан Арефьев, и за подоспевшей к тому времени яичницей разговор скоро принял значительный характер. Притворяясь, что будто ничего не знает о сватовстве Федора, Степан Арефьев присловьями, намеками и поговорками («У нас купец – у вас товар», – и тому подобное) ясно объяснил, в чем дело. Тогда Иван Петров сказал:
– Мы девку не неволим. Нужды большой нет, а коли ей Михаила по нраву, мы согласны. Знамо, как хочешь, кум; ты, может, что и слыхал… Только я прямо скажу: мы девкой не тяготимся, работница она, сам знаешь, какая. В девках не засидится.
– О господи! Да я разве что говорю?.. Кума, разве я что сказал? – заторопился Степан. – Я только так рассуждаю: как исстари мы с вами водимся, так чтоб было и впредь. Я ведь знаешь, какой человек, – я напрямки: девка нам больно по нраву. За тем и гонимся, что по нраву. Известно, неволить нельзя… нельзя, об этом что толковать, а все-таки скажу: парня никто не похаит. Работник ли, умен ли, послушен ли, – сами знаете. Хотя же он мне и сын, а я скажу: дай бог всякому такого сына.
С тревогой пошла Митревна в клеть говорить с Лизуткой. Долго там были слышны и глубокие вздохи, и плач, и шепот. Наконец мужики, оставшись в избе, с удовольствием услыхали, как Лизутка заголосила: «Ох, не запродавай, родимый батюшка, мою буйную головушку!..» Это был знак того, что девка согласилась. Пришла Митревна со слезами на глазах, но вся сияющая радостью, улыбкой.
– Молиться богу, кума? – весело закричал Степан.
– Да уж, видно, суженого конем не объедешь.
– Ну, значит, по рукам, а в воскресенье и сговор сыграем. Эка мы к праздничку-то подогнали. Дай, господи, в добрый час!
– Благослови, господи, – сказал Иван Петров, широко крестясь на икону.
Митревна молилась и всхлипывала.
И в это-то самое время Иван Петров, покосив глазом на окно, увидал подъезжающего на дрожках Сергея Петровича.
Сергей Петрович бросил вожжи сидящему сзади Никодиму и с напускною решительностью вошел в избу. Однако, увидав Степана Арефьева, насмешливо прищурившего свои глазки, он так и зарделся от смущения.
– Я к тебе, Иван, по делу, – сказал он, усиливаясь преодолеть смущение, – я бы желал переговорить с тобой один на один.
– Садись, гостем будешь, – сухо и не подымаясь с места, сказал Иван Петров, – а что касающе делов – у нас с тобой кабыть никаких нету.
– Нет, у меня есть очень важное дело, – садясь на кончик скамейки и снова вскакивая, выговорил Сергей Петрович, – но я просил бы тебя одного.
– Чтой-то, барин, вавилоны разводишь? – с недоумением заметила Митревна. – Коли дело, так говори, а за бездельем пришел – нечего и время тянуть напрасно.
– Эх, кума! – вмешался Степан Арефьев. – Как его отличишь… дело-то от безделья? По-мужицкому-то выходит – он плевка хорошего не стоит, а барин разберет, глядишь, и за дело ему покажется. Народ ведь тонкий!
– Ты, кажется, вздумал мне дерзости говорить! – вспыхнув, вскрикнул Сергей Петрович. – Только я тебя, братец, и знать-то не хочу! Как ты смеешь со мной так обращаться?
– Ну, это ты оставь, барин, – подымаясь, сказал Иван Петров. – Коли говорить, так говори, а над кумом тебе поношаться не приходится.
– Пусть его, кум Иван! – добродушнейшим голосом проговорил Арефьев. – Ино ведь и пужало на огороде страшно… Издали страшно, а поглядишь вблизи – та же рваная шуба. Пущай его!
– Ты, Иван, позволяешь оскорблять меня в своем доме, – дрожащим от негодования и стыда голосом сказал Сергей Петрович. – Но это все равно, я не намерен обращать внимания на этого грубияна. Я тебе делаю последнее предложение. Ты, вероятно, слышал, что Федор не может жениться на твоей дочери…
– Не нуждаемся, не нуждаемся… Расшиби тебя родимец с твоим сватовством! – вдруг неистовым голосом закричала Митревна, бросаясь с искаженным от злобы лицом к Сергею Петровичу.
Степан Арефьев удержал ее.
– Но если ты согласишься выдать Лизу без всяких условий, то есть отдать ее в Нижегородскую губернию, я тебе, тебе лично дарю землю, – торопливо докончил Сергей Петрович.
– Эй, кум, рой к тебе прилетел – огребай! – закричал Арефьев.
И вдруг Сергей Петрович, к своему неописанному ужасу, почувствовал, что твердая рука Ивана просунулась под его руку и что он, Сергей Петрович, направляется этою твердою, как шест, рукой прямехонько к двери. Всякое сознание в нем потухло; пропали куда-то и бешенство и стыд. Он видел в странной близости от себя корявые пальцы Ивана, охватившие его около локтя; видел рукав рубахи из грубого холста и даже дегтярное пятно на рукаве; слышал, как вслед ему говорил кто-то: «Ступай-ка, барин, по добру по здорову, – в чужие дела не вламывайся!» – но понимать все это он решительно не мог. Только очутившись на улице, он несколько пришел в себя и прежде всего с испугом осмотрелся; к счастью, улица была пуста; Никодим за несколько дворов от Сергея Петровича проезжал не стоявшую на месте лошадь.
– Никодимка! – заревел Сергей Петрович и, усевшись на дрожки, изо всей мочи передернул удилами лошадь.
Лошадь помчалась. В несколько минут долетели они до хутора, и когда остановились у подъезда, изо рта лошади вместе с пеною падала кровь и она тяжело носила боками. Сергей Петрович бросил Никодиму вожжи, не оглядываясь на него, взбежал на крыльцо и в передней столкнулся с горничной.
– Черт, черт! – закричал он в неописанной ярости. – Суетесь все, мерзавцы!.. Что?.. Молчать! Вон!
Марья Павловна выбежала к нему навстречу.
– Serge! Serge! – вскрикнула она, с испугом всматриваясь в его исступленное лицо.
– Молчать! – не помня себя, крикнул на нее Сергей Петрович. – Филантропы! – и бегом бросился в свой кабинет.
Марья Павловна побежала за ним, видела, как он упал на диван, побежала что есть силы назад за водой, и когда возвратилась, Сергей Петрович, вздрагивая ногами и невнятно мыча, катался по широкому дивану. Припадок необыкновенной ярости скоро прошел, однако несколько спустя Сергей Петрович уже говорил расслабленным голосом, как его оскорбили «эти канальи», как вывели под руки на улицу и как он ненавидит их, «этих идиотов, подлецов, холопов»…
Марья Павловна печально слушала, не говоря ни слова, и от времени до времени давала ему нюхать нашатырный спирт, прикладывала к его распаленной голове холодные компрессы.
Слух о том, что Лизутку просватали, дошел до Федора. Он угрюмо и молча пошел в тот день на работу и с преувеличенным усердием строгал, тесал, пилил, не отдыхая. За обедом еда не шла ему в горло. Кухарка Матрена долго и с жалостью смотрела на него, подперев рукою щеку, и наконец не выдержала.
– Чтой-то, парень, посмотрю я, убиваешься? – сказала она. – Аль только и свету в окошке? Девка на девку, что галка на галку – все похожи: не та, так другая. Такую-то господь пошлет!.. Чтой-то на самом деле?
– Знамо, ежели не судьба, вешать головы нечего, – сдержанно заметил Ермил, постучав ложкой по краям чашки в знак того, чтоб вылавливали мясо из щей.
– Да ведь обидно, дядя Ермил! – сказал все время молчавший Леонтий, молодой, не женатый еще человек.
– Обидно! – окрысился на него Ермил. – А чего ты, спросить у тебя, смыслишь-то супротив божьей воли? Ему-то, батюшке, не обидно, ты по девке по какой-нибудь крушиться будешь? В писанье как сказано? Какой такой закон дан нашему брату? Сказано: не пригоже быть человеку едину. Как это, по-твоему, понимать: дай я буду по чужой невесте убиваться, али как? Нет, не по чужой невесте, а ищи свою суженую. Женись, да тогда и убивайся сколько хочешь, а по чужим убиваться нечего. Ишь что обдумал: обидно!
Федор молчал, как убитый, и только хмурился. В первое воскресенье, провалявшись до полудня на сеновале, он встал, разыскал Леонтия и сказал ему:
– Пойдем-ка, паря, в кабак: что-то гулять хочется.
По деревне они встретили других парней и пригласили с собою. Деревенские парни вообще жили в ладу с плотниками: Федор часто угощал их и с самого своего появления в Лутошках относился с великою осторожностью к тем девкам, которые «водились» с своими деревенскими парнями. Леонтий вовсе не ходил в Лутошки, – его привлекали девки из другой деревни. Выпивши в кабаке водки, парни добыли гармонию, стали петь и плясать. Федор разошелся; с мрачным и сосредоточенным видом он откалывал трепака, орал плясовые песни и, засучив рукава рубахи, высоко поднимал четвертную бутыль, разливая водку по стаканчикам. Попойка продолжалась до сумерек. Когда на улице послышались девичьи песни, парни поднялись, чтоб идти туда. Федор не хотел идти.
– Пойдем! Ну, право, пойдем, – убеждали его, – теперь и «улица-то» не успеешь глазом моргнуть – разойдется. У Ивана Петровича сговор ноне; девки-то собрались вот, сыграют маленько, да и туда. Право, пойдем. И-их наделаем делов!
Федор наконец согласился. Шумною гурьбой подошли они к толпе девок. Пьяненький парень кинулся обнимать ближайших. «Ну, черт, куда лезешь?.. Налил морду-то!» – с хохотом закричали девки, встречая его здоровыми шлепками.
– А-а… Лизавета Иванна! – коснеющим языком сказал парень, всматриваясь в лица девок, которые стояли позади толпы, обнявшись под одним шушпаном. Это были Дашка и Лизутка.
– И-и, гуляй, гуляй, Маша, поколь воля наша; когда замуж отдадут, такой воли не дадут! – И он, приседая, пошел плясать вокруг них, еле-еле удерживаясь на ногах.
– Делай, Васька!.. – закричал Федор, внезапно оживляясь. – Аль про нас девок не хватит?.. Девка на девку, что галка на галку – все похожи… Разделывай! – И, раздвинув толпу, он сбросил с себя полушубок, схватил гармонию у Леонтия и в одной рубахе пустился плясать. Вмиг из толпы вынырнула Фрося, подперлась в бока и, пошевеливая высокою грудью, подмигивая своими веселыми глазами, поплыла вокруг Федора, приговаривая в лад трепака:
Любила я тульских,
Любила калуцких;
Из Нижнего полюбила,
Сама себя погубила.
– Разделывай, Фроська! – кричал раскрасневшийся Федор, отбивая частую «дробь» на притоптанном лугу. – Коли на то пошло, всю ночь прогуляем!
Фрося, кокетливо усмехаясь и помахивая платочком, отвечала ему новой приговоркой:
Уж вы серые глаза,
Режут сердце без ножа…
Ах, завистливый глаз,
Не подглядывай ты нас…
Ох вы, плотнички,
Бестопорнички!
Припасайте топоры
До весенней до поры.
Вам – избы рубить,
Нам – плотничков любить.
Наплясавшись, Федор обнял Фросю и, как будто невзначай, сильно пошатнулся с ней в сторону Дашки с Лизуткой.
– О, чтоб тебя, родимец! – вскричала Дашка, отталкивая Федора.
– Пойдем, Дашенька, пойдем, милая, – дрожащим голосом сказала Лизутка, – здесь, видно, и без нас весело!
И они пошли от толпы.
– Фу, ты, фря какая! – со злостью закричал им Федор вдогонку. – Сзади, подумаешь, барыня!
Вместо ответа Лизутка затянула песню, и Дашка подхватила ее:
Не дуйте-ка, ветерочки.
Не шатайте в бору сосну.
И так сосне стоять тошно,
Раззеленой невозможно:
Со вершины сучки гнутся,
По сучочкам пташки вьются,
Они вьются, не привьются.
У девчонки слезы льются,
Они бьются, не уймутся…
Бегут речушки быстрые:
Не бегите, речки быстры,
Не волнуйте синя моря,
Сине море сколыхливо,
Красна девица слезлива.
В толпе стояли шум, гам и смех и заводились разноголосые песни. Подвыпившие парни плясали с девками, подтягивали песни, лезли обниматься… Вдруг в конце улицы зазвенели колокольчики, и скоро мимо шумящей молодежи на рысях проехало несколько телег с разряженными мужиками и бабами. «На сговор, на сговор… Арефьевы на сговор едут!» – заговорили в толпе, и многие бегом устремились вслед за телегами.
Федор, Леонтий и сильно захмелевший Васька пошли в гости к Фросе. Там они опять пили водку и пиво, играли песни, плясали; Федор обнимался с Фросей, крепко целовал ее, поддаваясь шальному взгляду ее странно блестевших глаз и льстивым ласковым речам. Вышли они от нее уже поздно: вторые петухи успели прокричать. Васька как вышел из избы, так и свалился на солому в сенях; Фрося, провожая гостей, пошатывалась и все оставляла Федора. Но плотники все-таки вышли на улицу, держась друг за друга и неуверенно ступая ногами.
– Эге! – сказал Леонтий, останавливаясь среди улицы. – Сговор-то не разъехался… Ишь, черти, песни орут.
– Друг, – плачущим голосом заговорил Федор, – можешь ты понимать, какой я есть разнесчастный человек на свете?.. Можешь?
– Могу. Я все могу понимать.
– Ты теперь заслужи: двадцать десятин… а?.. даровой земли… Как ты об этом понимаешь? Вот, говорит, тебе, Федор: владей… И заместо того – Мишанька Арефьев…
– Сволочь, одно слово.
– Нет, двадцать десятин земли и к чему дело довелось – Мишанька… Друг! Левоша! Как меня теперь родитель убил… Ах, убил он меня, братец мой!.. Сестра плачет… сиротки… аль уж доля-то наша быльем поросла?.. Теперь – девка… ты знаешь, девка какая: отдай все – мало! Вот какая девка… Вон песни играют… разла-а-апушку мою выдают… Можешь ты это понимать, братец мой? – И, склонившись на плечо Леонтия, Федор заплакал навзрыд.
Сквозь серый сумрак рассвета в избе Ивана Петрова виднелись огни. На лошадях, стоявших около избы, звякали бляхи, бубенцы, колокольчики: гости собирались уезжать. Песня, невнятно доносившаяся из избы, вдруг вырвалась на улицу, послышался шумный говор, в дверях избы и на улице столпился народ, огонек вынесенной свечи слабо мигал, задуваемый ветром, охмелевшие люди кричали на лошадей, дергали вожжами, колокольчики и бубенцы ясно звенели, девки в сарафанах стояли в кругу и пели:
Веянули ветры по полю,
Грянули веслы по морю,
Топнули кони Михайлины,
Топнули кони Степаныча…
– С кем-то мне думушку думати,
С кем-то мне крепку гадати?
«Думать думушку с родным батюшкой,
Гадать крепкую с родной матушкой…»
– Эта мне думушка не крепка:
Думать мне думушку с Михайлою,
Гадать крепкую с Степанычем, —
Эта мне думушка крепче всех.
– Сват! Посошок!.. На дорожку! – слышался голос Ивана. – Гостечки любезные, не обессудьте! Обыгрывай, девки, играй звончее!.. Где невеста-то?.. Лизавета! Пригуль, поднеси нареченному свекру! Сватушка милый, гостечки, откушайте! Почтите веселую беседу!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































