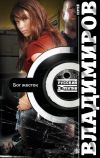Текст книги "Царевич Димитрий"

Автор книги: Александр Галкин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Да кто ты?
– Монаси мы, странники божии.
Через несколько минут в горницу, пыхтя и сгибаясь, влез старик в подпоясанном верёвкой лёгком нагольном тулупчике и скуфье. Он долго отряхивался, сетовал на метель, благодарил Бога, что попал в избу, кряхтел, снимая кожух, молился на иконы, дышал на руки, прикладывал их к печке и, наконец, поклонился сидевшим, касаясь рукою земли.
– Мир вам, братие, и благословенье угодников Божиих: Зосимы, Савватия – чудотворцев соловецких!
– Мартын Сквалыга! – вскричал купец. – Ты ли? Вот Бог послал!
– Тако, сыне, аз есмь! И тож узнал тя! Не Ивана ли Пафнутьича зрю очесами, что летось в посудине вместе плыли с Вологды до Архангельска? Забыл уж, отколь ты будешь родом-то!
– Обояньские мы, отче. Здрав буди! Садися, потрапезуй с благословеньицем. Душевно рад тебе! Прозяб, видно, крепко и от чарки не откажешься. А се – свояк мой, Игнат Лексеич, голова стрелецкий. Ныне воевода наш послал его на Москву с грамотой к боярам, так я попутчиком увязался. Пей, отче!
– Спасибо те, друже! Чуть жив дошёл! За здравие твое! Благослови Господь!
– Кушай, старче! И посумерничаем, про виденное нам расскажешь.
После трапезы все трое залезли на широкую печь и, не зажигая огня, занялись впотьмах разговорами, воспоминанием старых встреч, пожеланием Царства Небесного покойникам и злословием по адресу живых.
– Из Соловков шагаю, – говорил Мартын. – О, пречудная обитель Божия, красоты неизречимой, середь моря утвердишася! Душою отдохнул тамо и потрудихся изрядно, до самого перва Спаса пребываючи. Оттоле шествуя, зайде аз к Антонию Сийскому, что на Двине-реке, недалече Архангельского града стоит. Тож монастырь предивный, на горе высокой, и бор кругом стоит. Кладезь там есть над источником самородным, иже исцеление недужным подает, а один раз в году, в нощи, на самый праздник Антониев, цветок сияющий из кладезя того выходит, чудеса великие творяще. И аще кто праведен есть, то чудо сие узрит и благоухание его учует. В сём лете одна слепая старица то видела. Аз же грешный на празднике там не был и чуда Господня не видел – на три дня опоздаше: задержался бо в Соловках по случаю непогоды на море. А видел тамо, в монастыре Антоньевом, боярина Романова Фёдора Никитича, что в Москве на Варварке двор имел, ныне же в монасех ходит, Филаретом зовут. И другие там бояре знатные, неволею пострижены, в кельях малых прозябают.
– Я тоже знавал его. Добрый был боярин. Худо ли проживает там?
– Допрежь Ильина дня жил в скудобе и нищете, а в день тот, сказывают, были у него люди и довели до него, что царевич Дмитрей углицкий на Литве объявился, и он, боярин-то, и оживися зело, взыграся духом и речи игумену: «Не повинуюсь! И вы, чернецы, узнаете скоро, каков аз есмь, и все обиды мои воздадутся вам!» И учал монахов хулити и столь в перечу вступать, что чернецы убояшеся его и сотвориша яко хощет во всём!
– Москвою тож проходил?
– Был, чадо. Лихо там. Насмотрелся такого, что лучше бы и не заходить. Помрачился разум у властей православных, и не ведают, что творят. Рече аз единожды на толкучке, что звезда хвостатая не к добру на небеси явишася, так меня имали за приставы и в приказ приведоша. Неделю в подвале на соломе гнилой валяхся, чудом спасся – по молитвам родительским отпустили окаянные и ничего не спросили. Не ведаю, како угодил туда, како освободился! Хватают на Москве зря кого попало, особливо же при помине Дмитрея-царевича, и мучают нещадно, даже до смерти.
– В наших посадах то ж самое творится, да токмо народ ныне иной стал: на прошлой неделе воевода поймал душ восемь али десять в Обоянь-граде за речи воровские да за письмо подметное, так вскорости у нас дьяку голову сорвали, двух стрельцов резали, боярину же знать дали, что коли не отпустит иманных, так же и ему будет. Да и петухом красным угрожают. Почуяли воры, куда от царевича ветер дует!
– Мыслю яз, – сказал стрелецкий голова, – что ежели так и дальше пойдёт, то сей зимой быть заварухе недоброй на донской степи. Воевода наш то же думает – с писаньем его о сей беде и еду в Москву.
– Смириться треба воеводе, – не всё же шкуру драть!
– Смирились, отче! После того случая вельми утишились – бояться воевода стал, даж татей в застенок не берём, палач в праздности у нас живёт. А слышно, за Белградом войско собирается, царевичу в подмогу, и на Курск пойдёт.
– Войско, говоришь? И что же то за войско? Откудова?
– Бог ведает, отче. Но ежели всех беглых подымут, так соберут силу немалую. Там токмо и говору, что о царевиче, и многие крест ему целовали.
– Люта будет рать донская, разбойная, – добавил купец, – бояр щупать учнёт.
– Спаси, Пречистая! Да может, всё сие брехня и суета сует? Много слыхивал яз сказок всяких житейских, им же веры давать не можно.
– Нет, отче, то – правда. Бают, уже две рати стоят там по сёлам – не идут по случаю морозов да снегов больших, одначе и не расходятся.
– Вот что! Дивны делы творятся! Недаром в Кремле московском на самый Серьгов день колокола ночью сами собой звонили – аз ушами своими то слышал, когда в приказе сидел, и весь народ был ужасом объят! Можа, от чуда сего меня и выпустили тогда.
– Надысь в Курске тож виденье было – за два дня до нашего проезду. В церкви ихней «Успенья на помоях» ночью свечи сами собой зажглися, и с улицы люди видели, как царские врата отворилися и птица сиятельна из алтаря вышла, сказала три слова, коих никто разгадать не мог.
– В Курске, говоришь? Птица? – воскликнул монах. – Велико знаменье! Спаси нас, Господи! В третий раз появляется на Руси! Птица та зовется – Сирин. Впервые объявилась в обители Звенигородской, у Саввы преподобного, три лета тому назад, перед гладом московским; второй раз – в Ярославле, у Николы Мокрого. Токмо словес там птица не изрекала. Тяжко время наше, и не знаешь, куда путь держать! А что, други, царевич тот в Литве сидит аль вышел?
– Зазяб ты, отче, мыслию по дальним путям твоим! Царевич Дмитрей сколь градов уже под себя взял – Моравск и Чернигов, Кромы и протчие. Ныне же стоит под Новоградом-Северским, да войти туда не может – стены крепки там, и рать царская в нём сидит. А правит ею Басманов – боярин московский.
– А голытьба донская ему на подмогу собирается.
– Басманову, что ли?
– Нет, отче! О подмоге царю тут и не помышляют – то сам увидишь. Да ты куда путь-то держишь?
– Хотел я отсель на Белград пробираться – в монастыре там Пасхи святой дождаться, звал меня Кирилл, настоятель, да ныне охота пришла на Дмитрея сего взглянуть.
– Отец настоятель Кирилл осенью сей на Покров день помре, и теперь сидит там Онисим.
– А коли тако – Царство ему Небесное! Хоть и жаль игумена, а гоже, что сие зде услышал, – не хожу на Белград, иду прямой дорогой к царевичу.
– А почто он тебе?
– Мне он не нужен, друже, то правда, да народ вокруг его шумит. А где народ, там и аз грешный! Люблю с людьми жити, от сего и по обителям долго не сижу, на миру шатаюсь, не имам силы затворитися.
– Народ, отче, таково шумит, что, смотри, как бы от сего шума-то голова с плеч не слетела!
– Э, милый! Ты ещё жених-молодец, а мы видали виды! Взять с меня неча, и страшиться мне неча, а ежли у царевича довольствие почую, то и совсем там останусь.
– Вот и многие так же судят, да и яз, купец, стремленье держу – после Москвы с товарцем к нему отъехать: можа, поторговать разрешит.
В это время послышался стук в ворота, крики со двора, и через некоторое время в избу вошли с небольшим фонарём двое боярских челядинцев с заиндевевшими бородами, а за ними протискался в узкую дверь толстый боярин в лисьей шубе и шапке, который, едва перекрестившись, сейчас же плюхнулся на лавку. Хлопцы кинулись разувать и раздевать его.
– Подождите, подлецы. Не могу встать – ноги затекли, озяб прелюто, дай дух переведу! Счастье пречудное, что не в поле ночуем! Отчаялся уж выбраться изо снега! Кабы не собачий лай – сидели бы в сугробах! Испить дай горячего! Романеи принеси. Ясти не хочу и на печь тотчас полезу Без меня трапезуйте!
Отогревшись, он позволил снять с себя огромные валенки, надетые сверх сапог, поднялся, скинул шубу, шапку, перекрестился.
– На печи люди, боярин, – доложил слуга.
– А ты не ведаешь, что творить? Жаль, нет плётки со мною, яз те научил бы!
– Эй, вы! – заорали «молодцы» лежащим на печке. – Слезайте! Убирайтесь! Скоро!
Один из них поднялся на ступеньку и вытянул кнутом старика Сквалыгу.
– Ой, батюшка! За что же ты? – заохал монах, поднимаясь, но купец так толкнул холопа ногою, что тот с грохотом полетел вниз.
Тут вошел со двора хозяин корчмы и, наклонясь к знатному постояльцу, сказал тихо:
– Княже боярин, не трожь их! Неведомо, что за люди, одначе не из чёрных. Даве царевича в речах поминали, а тут у нас кругом шалят ребята, и атаман недалече ходит. Как бы, Боже спаси, не заглянул в непогодь!
– Пужать меня вздумал, смерд! Михалка! Поучи-ка его ременной! Зажрались туто! Всяку честь забыли! Чтоб сей же миг на печи никого не было! Слышал?
Но случилось то, чего опасался хозяин: дверь распахнулась, и в клубах морозного пара на пороге показались одна за другой фигуры в полушубках и бараньих шапках, с кистенями, саблями, дубинами.
Они быстро входили, крякали, отряхивали снег, истово крестились в передний угол.
– Ух, слава те, Господи! Нашли корчму! Сергеич! Здрав буди! Спасибо, что ворота не запер, – без стука въехали. Давай ужинать, да нет ли сивухи – захолодали люди!
– Сейчас, батюшка, отец родной! Как не быть!
– А что у тебя за народ?
– Неведомо, родной, – постояльцы проезжие. На печи люди тихие.
– Тихих-то человеков ныне плетьми стегали, с печи гнали, Бог им прости! – жалобно заговорил, высовываясь с печки, старик Мартын.
– Кто ж тебя гнал, старина?
– По его указу, – он кивнул на знатного, – хлопцы евонные пороли. Должно, князь с Москвы изволит жаловать.
– Ты кто таков? – спросил вновь вошедший боярина.
– А тебе, холоп, какое дело? И как смеешь вопрошать? Да знаешь ли ты, пёс, что…
– Сам ты пёс, а яз атаман тутошний.
– Разбойники!.. Спаси, Пречистая!.. Господи!..
– Не пускай соплей! Не трону. Мы нынче к царевичу Дмитрею идти собравшись, рать ему готовим.
– К царевичу? В сих местах? Под Курском? Тако ли слышу?.. Да ведь он под Новоградом Северским стоит!..
Атаман промолчал и, снимая валенки, лишь взглянул недружелюбно.
– Не погневись, добрый человек, но скажу тебе по совести – на Москве всем ведомо, что не царевич он, а чернец Гришка Отрепьев, и приказано словить его и к царю доставить. По церквам же грамота о том читана. Не в перечу говорю тебе, а по доброму совету – вразумленья ради.
– Уж не ты ли ловить его едешь?
– Нет, атамане, мы едем по своим делам. А патриарх святейший анафемой его проклял и указал…
– Утрева погуторим, княже, – перебил атаман, – а теперь ужинать дадено. Садись, товарищи! На печи ещё одно место мне найдется, другие по лавкам лягут, а ты, боярин, и на земли не сплохуешь – шуба у тебя знатная.
Поужинавши, повстанцы расположились, как указал атаман, оставив одного сидеть на лавке с ружьём для караула. Боярин подумал, повздыхал, но пререкаться из-за места не стал и, закутавшись в шубу, растянулся на полу поближе к печке.
Утром все поднялись до свету. Атаман прочёл вслух молитву, которую все выслушали стоя и крестясь, затем, пожевав хлебушка, стали натягивать полушубки.
– Так едешь, боярин, царевича ловить? – спросил старшой.
– Не лепно мне с тобою речь вести, но едино скажу тебе, что скоро сему царевичу конец придёт.
– Тако, тако… Да несподручно тебе в таких одеяньях тяжёлых за царевичем гоняться! Мы тебя полегчаем малость: ты шубу-то с обутками оставь нам и хлопцам прикажи, чтоб кожухи свои отдали, а также и коней всех, – пешему тебе удобнее кого хошь ловить – во всяку щель пролезешь! Да и мошну с рублями на стол клади!
– Да что ты, друже! Помилуй! Ведь яз тебя не трогал, не похабил! За что ж безвинно?
– Не погневайся, княже, недосужно с тобой чесаться! Эй, соколы! Имайте коней боярских! Единого коня дарю сему монаху – старцу, что ночевал со мною: он тож к царевичу стремится, да по бедности пешком далече, мол.
– Атамане! Друже! Смилуйся. Пять коней! Како без них буду? Хоть двух оставь! Бога ради молю тя! Не губи душу! – И боярин упал на колени.
– Давай казну! – рявкнул атаман. – Да молись за меня, что жив остался! Уж скольки раз меня за мякоть товарищи ругали, и ныне чую – не миновать того, да уж таков я уродился: не терплю крови зряшней. Уйди с проходу, чего растянулся! – И забравши мошну, полную серебра, толкнув обезумевшего князя ногою, он удалился.
На рассвете в корчме сидел лишь боярин и его два холопа, с которых повстанцы, по выходе атамана, успели снять не только шубу, но и всю одежду, оставив одни исподние рубахи. В полной растерянности князь плакал, как ребёнок, а слуги потребовали у корчмаря водки и заливали горе сивухою.
В одной из комнат большого кремлёвского дворца у стола, покрытого тёмной аксамитовой скатертью, сидели зимним вечером две грустные женщины; мать, в покойном заграничном кресле, и дочь – посреди подушек, на лавке, у стены. Первая не спеша пришивала бахрому к церковному покрывалу и, часто отрываясь, подносила к глазам платочек, поправляла свечку на столе, тяжело вздыхала, мельком взглядывала на дочку, негромко читавшую святую книгу. Приятный, низкий голосок девушки и неторопливость её чтения, немножко нараспев, с печальной ноткой, гармонировали с мягкостью и темными тонами окружающей обстановки. Желтоватый свет пятисвечника, поставленного в простенке, тонул в тёмно-красной глубине бухарских ковров, облегающих пол и стены, скрадывающих звуки, успокаивающих взор. По стенам изящно поблескивали, не нарушая спокойного вида комнаты, драгоценные украшения: золотая посуда и безделушки на резных полочках, иноземные шкатулы и русские ларцы приземистого стиля на подставах, кавказская сабля в серебряных ножнах, два птичьих чучела, заморские часы у задней стены и другие вещи – подарки дорогих друзей, памятки хороших дней. Большой киот в углу, с разноцветными лампадами, неярко мерцал в полутьме алмазами своих икон и золочёными кистями чёрных бархатных занавесок; три удобных польских кресла с пуховичками, окружая стол, звали к отдохновению, к пользованию ковровыми ножными скамеечками, стоящими возле них; красавица печка, с уступами и выемками в голубых узорах, манила теплотой и чудесной лежаночкой, накрытой пушистым мехом с шёлковыми подушками; множество таких же подушек, валиков, думок лежало в беспорядке по широким бархатным лавкам и табуретам во всей комнате, заполняя свободные уголки, сокращая пространство.
Каменный свод, расписанный херувимами, с золотыми звёздами по синему полю, покрывал горницу, но не давил на неё, а успокоительно ограждал хозяев от всего внешнего мира: сюда не доносилось никаких шумов и звуков, никаких криков людской жизни за дверями. Тишина, слабый аромат восточных курений, ласковость всего убранства создавали здесь мягкий художественный уют, располагали к задумчивости и уединению.
– Ты не слухаешь, мамо? – сказала чтица, заметив полную неподвижность матери.
– Нет, нет, дочка, всё слышу, вот токмо последнее… А знаешь что? Открой ты книгу наугад и прочти мне что откроется.
– На Евангелии грешно гадать, мамо!
– Ну, Бог простит, тягот моих ради. Прочти мне.
Дочь подумала, потом открыла и, не читая написанного, сказала наизусть:
– Приидите ко мне, вси труждающиеся и обремененнии, и аз упокою вы.
– Се про нас сказано! Про государя нашего! На него я и загадала. О всех страждет! А они… ненавидят! – Она взялась за платочек.
– Ну, полно! Смотри, тряпица-то совсем уж мокрая!
– И рада бы перестать, да сами льются! Токмо здесь и поплачешь, душу отведёшь!
– И никогда ты, матушка, не скажешь, почто слёзы льёшь. От слуг про беду ведаем, обидно то!
– Ох, девонька! Оттого и ревёт баба, что толком ничего сама не знает, а токмо сердцем чует. Я тож от челяди вести беру, сам-то ничего не скажет. Как взгляну на него, на лик сумрачный, на запавшие очи, так и зальюсь, и гонит он меня вон, ничего не сказавши.
– Последний раз говорили, что самозванец Гришка не возьмет Новограда, в снегах там стоит.
– То так. И уповаю, что отстоим град сей. Да на Москве опять неспокойно стало – измена, слышь, угнездилась в народе. То глад мужицкий терзал царя, теперь же вот – измена! И на бояр он не крепко надеется. И нет своих людей вкруг него: никому не верит, один за всех думает, душой томится! Всё то я вижу, чую, да сказать не умею. А может, неча и говорить! Слезою всё выходит!.. А ты опять, Оксинья?.. Не смей реветь! Утрись! И без того не знаю, куда деваться! Читай книгу!
Но читать не хотелось. Сидели молча, задумавшись, тихонько потрескивала свечка, где-то чуть слышно скребла мышь.
– Паче же всего, – очень тихо заговорила мать, – за него самого боюся. Позавчера пришла я готовить его к ночи, так он вдруг захрипел столь тяжко, за грудь схватился и навзничь пал. Добре, что возле постели стоял, – не расшибся!
– Сохрани его, Господи! – дочь перекрестилась. – Не могу слёз сдержать!
– Давно ль сидим на царстве? А уж смеяться разучились! Чаяла ль боярыня Марья Григорьевна, что в царицах будет слезами обливаться?..
– А скажи, мамо, почему измены те пошли? Прежде того не слыхали.
– За грехи наши.
– Ты толком скажи мне!
– От дьявола то! Отцу твоему оскорбительно, и нам тоже. И всему христианству тож!
– Вот всегда ты так – знаешь, а не скажешь! А почто таиться? Разве твоя Оксюша не любит свою маму? Ну поведай мне. Ну молю тебя! – И она придвинулась к матери.
– Эх, любопытная ты девка, вся в родителя! Измена в том, что по граду слух бесовский ходит, якобы царевич Дмитрей не сам в ту пору закололся на игре с ножом, а зарезали его по приказу батюшки твоего.
– Как! Что ты говоришь?
– Ты, вижу, не слыхала про то! Не волнуйся, детко, мало ли чего лиходеи врут по наущенью дьявольскому да ещё добавляют…
– Что добавляют?
– А сие, можа, тебе и знать не след!
– Скажи, милая, дорогая! Сохраню тайну твою! Душа едина не узнает!
Но тут отворилась дверь и царица на полуслове замолчала.
В комнату вошёл царь Борис в сопровождении молодого царевича.
– Вечер добрый! – сказал он, целуя жену и дочь в губы. – Зашёл отдохнуть у вас малость. Не пущать сюда никого! Скажи там, Фёдор! Хочу побыть с вами. Укромно здесь! А вы как были бабы, так и остались: тайный разговор ведёте, а дверь не плотно закрыта! Мы стояли там и слухали.
– Ой! Прости, государь-батюшка Борис Фёдорыч, жену неразумную! От слез голова уж не думает!..
– Брось, Марья! Что рекла – то рекла. Назад не вернёшь! Да не нужно и вертать: я сам докончу речь твою. Добавляют воры, что Дмитрей спасся и ныне на меня идёт. Вот о чём сейчас вся Москва шепчет!
– Батюшка! Ведь сие же ложь безбожная! И кто же ей поверит? – сказала дочь. – Господи!
– Время тяжкое, обиженных, голодных много стало на божьем свете. Недовольный же раб, не видя причины беды своей, всё на царя валит и даже неурожай считает наказаньем Божьим за грехи царёвы. Такой всему поверит.
– Но твоя Москва, государь, тебя любит и не поверит! – горячо возразил царевич.
– Аминь! – подтвердил Борис. – Вчера старец некий из Устюга Великого мне как раз эти самые слова сказал. Надеюся и верую, что изживём беду. И по гороскопу, что англиканец Устрей ради меня составил, тож выходит: не победит меня расстрига – Басманов разобьёт его весною.
– Мы тож не сумневаемся, государь, – сказала царица, – и лишь о здравии твоём Бога молим.
– Ох, ох! Како се здравие! Недуг долит, и лекаря немецкие не помогают!
– Спаси тебя Господь!
– Государь-батюшка! – обратился к нему сын. – Дозволь спросить тебя! Уж коль не погневался ты на речи матушкины и сам о том же говорить изволил, так, может, поведаешь нам теперь про углицкого царевича. Обещал ведь!
– Обещал – то правда. Но недосужно было, сей же час неохота подлецов Романовых да Нагих вспоминать: вздохнуть душою к вам зашёл – люблю место сие, да редко бывать стал.
– Отдохни, ненаглядный наш, – сказала жена. – И нечего здесь тревожить государя.
Но царевич продолжал своё:
– От бояр, от детей ихних, а ещё от слуг наших вести получаю, где в них правда, где ложь – не размыслю. Батюшка же хотел нам поведать…
– Верно, сыне, – от слуг в таком деле осведомляться негоже. И откладывать дале не след: в животе и смерти Бог волен, а лучше знать тебе про Дмитрея и про Романовых из уст моих, чем иных протчих. Так вот, слушайте!
После кончины царевича Дмитрея – тому назад лет, почитай, пятнадцать – ездил в Углич князь Шуйский Василь Иваныч со владыкою Денисом, розыск там чинили и, возвратясь, грамоту царю подали, прописав в ней, что закололся мальчик сам, играючи с ножом в тычку.
Я тогда не поверил грамоте их и спросил – а где нож тот, невинной кровию политый? Ведь ежли то при игре вышло, так ножик никуда не девался, – почему же они его не привезли? Шуйский отвечал мне, что ножа они не видели и не искали. Рана же на шее отрока была столь тяжка, что он тут же, на дворе, скончался, и мыслю я, что нож тут иной ходил, не тот, что ребятам играть дают, а кинжал разбойный! Но не мог Шуйский инако написать, ибо ежеле сказать про убиенье да не назвать злодеев, то всяк подумает, что мы сокрыли их и, стало быть, сами в той крови повинны. Убивцев же он не разыскал, не токмо вживе, но даже и по имени. И вот почитаю я царевича злодейски убиенным! Но чья рука поднялась на малютку? Кому нужна была его кончина? О сём гадательно лишь мыслю. Могли то совершить враги бояр Нагих, дядей Дмитреевых, дабы погубить сих бояр, и коли сие верно, то вороги цели своей достигли и Нагих погубили. А ещё могли те, кто почитал себя наследниками царю Фёдору по родству и кому мешал Дмитрей. Сие суть – Романовы! Вот враг на всё готовый! И они, Никитичи, и слух тот сатанинский про меня пустили! А я и доныне не ведаю, кто убил царевича!
– Но как же не разведал ты, батюшка! – воскликнул сын.
– Невозможно было! Одначе подозренье всё время на Романовых держу. Сейчас объясню вам, чтобы понимали до конца. Кабы Дмитрей был жив, то наследниками царю Фёдору стояли бы два его сородича: первый – Дмитрей, сын седьмой жены царя Ивана, не в законе рождённое чадо, и второй – Фёдор Романов, двоюродный брат царя по матери. По родству своему с покойным государем каждый из них мог на престол взойти, ежели бы то восхожденье без освящённого собору совершилось, како протчих государей наших. И разве не явственно, что Романову тогда выгодно было устранить Дмитрёя, дабы самому единым наследником остаться? Мнил он на царство сесть, как последний царский сродственник, да не подумал о том, что я освящённый собор созову со всея Руси и на том соборе с патриархом царя решати будут. Собор всея Руси – глас земли нашей – избрал меня, а не его, сродственника царёва, и верую, что ежли бы и другой сродственник там был бы – Дмитрей, то опять же меня избрали бы земские люди, потому – любы мы были народу нашему, семья же Дмитреева – Нагие вельми противны были неразумием своим и пьянством. На соборе освящённом не токмо они, но и старейшие роды руссийские тягаться со мною не могли и государем меня признали. Но злоба и зависть их не утихла, и вот самозванца сего измыслили бояре крамольные с помощью бесовской и смуту чинят. Фёдора Романова надлежало бы в ту пору на дыбу потянуть, да умилосердился я, дружбы старой ради, и отдал его в монастырь. А он и там меня клянёт, забыть не может родства своего с покойным государем. Не по нраву ему, что царствуем мы днесь не по родству, а по моленью чад – подданных наших!
– Да сохранит тебя Пречистая! – сказала царица. – А Федьку Романова допросить с огоньком и ныне не поздно.
– Заступников у него много – не хочу возиться, бог с ним! Теперь он далече!.. Медку бы, Марья, испить с брусникою! В горле усохло – давно столь протяжно не говаривал.
– Сейчас, батюшка! Оксюша, беги к девкам!
Ксения вышла и вскоре вернулась. За ней стольники внесли мёд в серебряном жбане с несколькими висящими вокруг него ковшичками.
– Батюшка! Там Семён Никитич тебя ждет!
– Пусть войдёт.
Семён Годунов после поклонов замялся немного со своим докладом.
– Да говори прямо, друже, – сказал Борис, – тут свои.
– Привезли её!
– Кого?
– Марфу Нагую, царицу-иноку.
– Привезли? Внизу она?
– Нет, здеся. Куда прикажешь проводить? – Он оглянулся на детей.
– Неохота уходить отселе, и, чаю, недолго с ней просидим. Давай сюда. Оксиньюшка! Выйди на малое время – не к лицу царевне будет слухать. А Федор пусть останется – надо ему вникать. Веди её, Семён, и сам приходи.
Семён и Ксения вышли.
– Я нарочно вызвал её – спросить хочу о смерти Дмитрёевой. Жалею, что в то время не допросил, – не хотелось с сей архидурой беседовать.
Вошла немолодая женщина в черных одеждах, с чётками в руках, перекрестилась на иконы, поклонилась по-монашьи в пояс и остановилась у двери.
– Буди здрава, царица, мать преподобная! – начал царь, внимательно взглянув на вошедшую. – Садися, побеседовать хочу Да не робей, не обидим! Садись, гостьей будешь! Вот те седалище! Мёду не отведаешь ли? Прошу, чем Бог послал. Царевич, поднеси иноке святой!
Фёдор зачерпнул мёду и поставил ковшик на тарелочку с краю стола. Не говоря ни слова, с окаменелым лицом, монахиня села в кресло, скользнула злобным взглядом по сидящим и уставилась в стену.
– Как живешь-можешь, мать Марфа Фёдоровна?
Она не отвечала, он помедлил.
– Всем ли довольна в обители святой? Не чинят ли обид старицы аль приставы?
Черница молчала, не шевелясь и ни на кого не глядя.
– Царь вопрошает! – вмешалась Мария Годунова. – Онемела, что ли?
– Нишкни, царица! Не мешай! Может, инока Марфа не хочет перед наследником аль пред женою моею речь вести? Так изыдем в горницу иную!
– В иную?.. – Она вздрогнула, меняясь в лице.
– Не пужайся! Говорю – не обидим. А коли не пожелаешь разговору, то – бог с тобой – поезжай назад!
– Не разумею, чего хотите от меня. Почто возили? Неделю в санях сидела! На такой стуже!
– Доброй беседы с тобой хотим, Марфа Фёдоровна, – сказал Борис как можно ласковей. – Много страдала ты на веку своём и слёз безвинных немало пролила. То ведаю и о горе твоём доныне сокрушаюсь. О сыне твоём не перестаю молиться – помяни его, Господи, во царствии своём! И тебя, мати, мы не забыли: тяжко жить тебе в монастыре удалённом, бедном…
– Волки к самой обители подходят!
– То лихо! Но не яз повинен в несчастье твоём – видит Бог, – мы заступались за тебя перед царём Фёдором! Крепко винил он тебя и братьев твоих в недосмотре за царевичем. Теперь всё сие – дело прошлое, давнишнее, пора забыть его, а тебя вернуть. Ведь ты же не враг мне! За что буду угнетать тебя? – говорил он негромко, с задушевной простотою и добрым взглядом. – Никогда яз не желал тебе худа, царица! Да и в ту пору мне неясно мыслилось, в чём же провинность твоя. Жалею, что сам не поехал тогда в Углич и тебя не повидал, – всё было бы по-иному! Сейчас хочу сообразить всё это, но у меня даже повести толковой о событиях тех нету, а многое словесное из памяти вышло. Да может, ты сама припомнишь, как тогда всё случилось?
– Что случилось?
– Како помре сыне твой?
– Худо помню.
– Когда ты прибежала на двор после крику, жив ли он был?
– На моих руках кончился.
– А скоро ль прибежала ты?
– Скоро.
– А где тот нож, коим его зарезали?
Она вспыхнула, дернулась, блеснув глазами, но сдержалась и ответила тихо:
– Твои доводчики баяли, что он сам закололся…
– А ты како мыслишь?
– Не ведаю.
– А ножик где?
– Не видела.
– А точно ли то был сын твой Дмитрёй? Не ошиблась ли ты?
– Не помню, – сказала она неохотно и с полным безразличьем, как затвержденный урок.
– Как же не помнишь, Марфа, ежли на твоих руках он преставился?
– Забыла.
– Ныне идёт на нас молодец некий, Дмитреем себя величает, – может, то сын твой?
Молчание.
– Отвечай, Марфа, – с досадой сказала царица. – Грех великий – утайка твоя!
– Не твоё то дело, Марья! – сухо ответила черница и отвернулась презрительно.
– Как не моё?! Да мы…
– Постой, жена! Обещаю тебе, Марфа Фёдоровна, что не погневлюсь на тебя за всякий сказ. Не бойся ничего. Но если не отвечаеши вовсе…
– То мы заставим тебя говорить! – не утерпела вставить царица.
– Нет, нет! – остановил царь. – Никакой понуды не будет – она сама скажет.
– Ничего я не ведаю, и нечего мне говорить, – произнесла она тихо и, казалось, вполне равнодушно. – Верю в силу Божию: Господь может не токмо сохранить, но и воскресить из мёртвых моего Митю. Кто идёт сюда – не знаю, и где он идёт – тож не ведаю.
– Под Новоградом-Северским в поле мёрзнет, хе-хе! – засмеялся царевич Фёдор.
– Ты не суйся! – строго сказал ему отец, в то время как Марфа быстро оживилась и не сдержалась:
– Уж на Русь пошёл!.. – Она на какой-то миг просияла и, взглянув на образа, перекрестилась, но сейчас же снова стала угрюмо-отчуждённой.
– Ты рада! – крикнула в тот же миг царица, вскочив с места. – Рада, сука!! Ты мнишь…
– Обожди, мать!.. Ты инока честная, должна сказать вслух перед народом в соборе – твой ли то сын или нет. И как ты видела его мёртвым…
Не знаю!.. Не могу того!.. Когда увижу его, тогда и скажу – мой он аль не мой. Да поможет мне Мати Божия. – И опять, перекрестившись, ушла в себя, сжалась в тяжёлой думе.
– Не на тяжкий ли грех благословенье Божье зовёшь, Марфа? Держишь руку вора и расстриги Гришки Отрепьева! Он сюда со разбойники идёт, попов латынских ведёт, веру нашу и церкви рушит, христиан православных смерти предает и сыном твоим облыжно себя нарицает! И не хочешь ты сего вора и разбойника обличить! Ужли богоотступника за чадо своё ложно почтешь?!. Что ж молчишь?..
Он встал и нервно заходил по комнате. Она, не шевелись, сидела, подперев щёку рукою, с решимостью и страданием в глазах. Все напряжённо молчали. Лютая ненависть витала в тихой, полной дорогого уюта горнице…
– Должна ты, инока Марфа, народу объявиться. В первый же праздник в Успенском соборе за обедней ты перед образом Владимирской нашей Богородицы и перед патриархом поведаешь всем, како отошёл ко Господу сын твой на руках твоих, и клятву в том дашь при всём народе.
– Не могу я!.. Забыла всё, – едва вымолвила черница.
– Забыла? Так выйди и скажи, что забыла ты про кончину царевича на руках твоих! – сказал он уже с явным раздражением, повышая голос.
– Ничего я не скажу, ничего не знаю, токмо день и ночь слёзы лью! – Она вынула платочек, приложила к глазам.
– Подумай, Марфа! – убеждал царь, сдерживая злобу. – Не ко лжи, а к правде святой зову тебя, иже Господу угодна! И после того не поедешь ты из Москвы – выбирай здесь любое место и живи в чести, в довольствии. Братьев твоих тоже верну и вотчины дам.
– Не могу клятву давать! – ответила она, подумавши и взглянув на икону. – Не знаю, где сын мой.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?