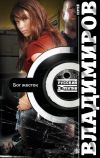Текст книги "Царевич Димитрий"

Автор книги: Александр Галкин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Один тульский ремесленник на коленях умолял о помиловании своего сына, уличённого в краже и посаженного воеводой в куток.
– Пощади, государь! Всего и украл-то одну шубу баранью – по глупости совершил сие! Смилуйся, батюшка, над дураком. Яз сам его нещадно высеку, отпусти токмо, и боле николи не согрешит, а в том и крест целовать мы хотим.
– Не верь, государь, – выступил стрелецкий голова, – сын его также и коней ворует.
– Не можно татя миловать, – сказал царь, – уходи, старик. За всяко собственное добро мы крепко стоять будем и краж не поощряем.
После этого должны были подойти «к руке» князья Воротынский и Телятевский, приехавшие по поручению московского боярства, чаявшие встретить распростертые объятия нового царя и обиженные ожиданием приёма в очередь. Но тут въехали на двор донские казаки и, едва слезли с коней, пошли к царю. Тот жестом указал князьям не двигаться и ждать в сторонке, принял казаков, милостиво расспрашивал их обо всём, вникая в нужды.
– Много ль дичины конской ныне ловите в степи? – спросил он, угадывая больное место в их жизни.
– Ох, государь! Вельми сократилась ловля наша! Не можем отлучиться хоть на неделю из станиц своих – пристава царёвы беглыми почитают и последнюю хату имают. Так и не ходим в дальню степь, где кони живут, у самих же коней нехватка.
– А каково рыбой торгуете? В достатке ли соль имеете? – И опять попал в самую нужную точку.
– Соли много ныне скопилось у нас, и рыбы в реках сколь захочешь, да не торгуем: в города не пущают нас, ни купить, ни продать не могим. И столь много терпим от сего утесненья, что и сказать не можно!
– А мы полагаем, что рыбу вашу не токмо по городам тамошним продавать следует, а зимою и на Москву возить должно, как возят с Архангельска.
Такие разговоры весьма нравились казацким старшинам. Когда же он пожелал видеть коней, на которых они приехали, казаки пришли в восторг и ловко, на бегу, провели их за уздечки перед царём.
Лишь после этого допустил он «к руке» бояр московских, но, несмотря на изысканно льстивые речи, в коих они рассыпались, выражая покорность, принял их холодно, слушал молча, надменно развалившись в кресле, как это делал король Сигизмунд, смотря мимо говоривших.
А когда заметил через плетень уезжавших стрельцов, то, не вставая, помахал им платочком и, случайно уронив его к своим ногам, сказал тому, кто стоял ближе:
– Подними платок, княже Ягнетевский!
– Телятевский, государь! – поправил тот, поднимая вещь.
На пышное приветствие он сухо ответил: «Благодарю бояр московских за память», после чего приёмы прекратил, и вышло, что князья представлялись ему последними из всех принятых.
– Письмовод Отрепьев! – крикнул он. – Запиши: повелеваем мы боярам князьям Голицыну и Рубец-Мосальскому завтра отъехать на Москву – возвестить жителям о приближенье нашем и указать им, что потребно убрать из столицы нашей семью покойного Бориса Годунова, и родню его, и друзей его, кои нашего имени не приемлют. Пусть уходят вскорости куда хотят. И грамоту на сей случай для бояр помянутых ныне же изготовить.
Затем он встал и, обратясь ко всему народу, сказал:
– Через три дня, в четверток, указуем мы молебен петь на площади после обедни и с Божьим благословеньем уходим на Серпухов. Православные! Служите верно своему царю, и мы не забудем вас! Обещанья наши о льготах и кабалах можете ныне же сами в исполненье приводить, без писаного указу нашего – на сие мы изволяем и взыскивать не будем.
Под гром радостных кликов ушёл он в свои покои. Толпа не расходилась до вечера. После обеда указанные Димитрием князья пришли за царской грамотой к Пушкину – теперешнему «ближнему боярину» – и, затворившись, несмотря на жару, в душной горнице с закрытыми окошками, шептались.
– И кто ж в сих нестерпимых обидах повинен? – говорил, волнуясь, седобородый и толстый Мосальский. – У государя ещё молоко на губах не просохло, дела царского он николи не видывал – бают, конюхом был у пана Вишневецкого, – и всеми делами заправляешь здесь ты, Гаврила Иванович. А ведь Пушкиных мы давно знаем, и вот не разумею, како сие творится, что исконный наш боярин не токмо ходу нам не даёт, но ещё издевки терпеть заставляет?
– Сердечно рад вам, други, ценю высоко, что пришли побеседовать со мною по душам и прямо являете печаль свою, – спасибо за честь и доверье! Но напрасно мыслите, что яз господином над Дмитрёем состою и его устами говорю с людьми. Сколько раз ему советовал беречь честь боярскую и верю, что по тем моим советам и не даёт он вас казакам в оплеванье, и к руке допускает, и в курных избах не велел держать. Но не яз один советчик у него: с письмоводом своим Гришкою он тож совет держит, и уж не знаю, кого боле слухает – меня аль его, а иной раз сажает за свой стол обоих нас вровень. Сколь ни полезен будь Гришка, но не за царским же столом ему сидеть со мною рядом! Сижу также и с атаманами казацкими зловонными, с купцами вшивыми и протчей чернью, терплю, спорю с ними благ ваших ради, отстаиваю честь и достатки ваши. Круто они супротив меня говорят перед царём и выдачи земель, вотчин ваших требуют, голов воеводских, казны монастырской, но доселе в таких делах беру я верх, и царь не даёт вас на разоренье. Большего поделать сейчас нельзя, и раздражать его не годится: помните, что едино слово его казакам противу вас – и вы погибли! И ничего мы поделать тут не можем.
– Яз приглядываюсь, – сказал Голицын, – и тож думаю, что гордыбачить сейчас не можно – здесь ничего не добьёмся, надо потерпеть до Москвы, а там своё возьмём.
– Кое-что возьмём, а кой с чем придется и расстаться. Кабалы нулировать беспременно.
– Как ты сказал? Уж ты, батюшка, с нами по-русски – не в Литве сидим!
– Прости, княже. Кабалы старые отменить придётся, беглых вернуть без взысканья, со свободою, немного и землицей поступиться, недоимки, долги мужицкие простить, на правеже не держать и десятину царскую в южных посадах сократить.
– Не мало рек еси! – ответил Мосальский. – Многие, кто победнее, от сего и в разоренье придут, да и богатому нелегко! Но не в том, одначе, дело, а зрю опасность и далее: сии беглые да всякие иные смерды могут в ярости своей бесовской и в жадности голодной совсем погубить нас – все земли и добро имать учнут, и тогда погибнет святая Русь! Казаки вельми злобно на нас взирают, и чего впереди ждать прикажешь, коли они готовы хоть сейчас всех бояр перевешать?
– Того не жду, – ответил Пушкин, – Не хочет сего и царь и никогда не допустит – бояться тут нечего. Яз тоже прежде думал, что смерды мятежные разорят нас вконец, теперь же вижу ясно, что отделаться мы можем пустяками, ежели уступим вовремя. Малою же толикою поступиться необходимо, а также льготы общие дать тягловым – крепко зажаты они были за последние двадцать лет: ныне ослабить надо, а потом, лет через пяток, можно и снова приналечь, но не теперь. Забродила умами наша Русь, поднялись силы низовые, тёмные, опасные, и пока снова не улягутся, не войдут в колею свою, иже от Господа им положена, не сможем править ими по всей старине – осторожность требуется. Нельзя дразнить зверя, когда клетка его не закрыта: нужно бросить ему кусок пищи, чтобы сидел смирно. Поздно вы, бояре московские, пришли к новому царю: кабы свергли Бориса года два тому назад, как говорил яз в ту пору дяде моему, да поставили бы Дмитрёя – можно было бы и не сего, а какого хошь иного! – то был бы на престоле ваш царь, вами, князьями, ставленый, и не сидели бы с ним казачьи старшины да украински атаманы.
– Хоть ты и умён, Гаврила Иваныч, – сказал Голицын, – а видно, что отошёл от жизни нашей, судишь как иноземец. Борис Фёдорыч тож был не наш ставленник, да зря не обижал, а токмо страха ради, когда опасность чуял, карал бояр. С казаками не якшался и голытьбу рваную в уста не лобызал, как сей Дмитрей. И кабы не помер, не пошли бы на поклон бояре…
– Кабы не помер, – перебил Пушкин, – так был бы убиен не ныне, так к осени, и Дмитрей всё равно сел бы на его место. Сила великая стоит за ним – ни один город не противится, а все с восторгом встречают, – нешто не видите? Не ратью оружной силён Дмитрей, а прихотью народной! И мы, бояре, добре сотворим, ежли сами добровольно на уступы смердам пойдём: то и царю будет приятно, и народ нас чтить за то будет. На первый раз дадим землицы немного беглым и кабалы простим. Коли же ничего не дадим и они силою возьмут, то и нас не пощадят! Нет, бояре, иного выхода!
– Мудро рассуждаешь, – заметил Мосальский, – далече смотришь, боярин. Ладно скроено, да худо сшито – тесен твой кафтан. Русь досель боярством держалась, а не холопством, и николи инако быть не может. Ужли святую истину сию забыл? Дмитрей же боярство загнетает – не токмо неугодных ему бояр лает, а всех кряду, без разбору позорит, смердам же милость всякую являет – можно ли терпеть сие? А ты идёшь и дале: велишь землёй их наградить и кабалы снять – царю в угоду. Ну и выходит – холопский царь у нас!
– Да, – сказал второй князь, – то верно, да, думаю, на Москве иначе пойдут дела: казаки уедут, смерды за стеной кремлевской будут, а мы все вместе сумеем направить стопы царёвы на верный путь вскорости. Страхи твои, княже, преждевременны.
– А коли не направим? Не успеем?
– Там видно будет, – заключил хозяин, поднимаясь и прекращая неприятный разговор, – поговорим ещё, когда вернётесь. Езжайте с богом! И помните, други, что возле царя верный вам боярин пребывает. Поклон мой дяде передайте. Грамота государева для вас готова – вот, получите.
На рассвете следующего дня оба князя выехали в Москву. Дорогой Мосальский продолжал прерванную накануне беседу:
– Мне наказывал князь Шуйский, Василь Иваныч, ещё до отъезда, чтоб попытаться задержать сего Дмитрея в Туле и с Пушкиным бы о сём договориться: хотел он на Москве людей поднять, чтоб не пустить его туда вовсе. Но, видимо, ничего у него не вышло.
– Да и с Пушкиным договориться не можно: не наш стал Гаврилка, продался, пёс, за медный грош!
– Обсудим, друже, всё сие с Шуйским и с другими, как только приедем. Может, не лучше ли Борисову племени покориться?
– На сие не согласен, и никто не согласится! Поглядим, увидим! Не горячись прежде времени.
В то время, как Димитрий Иванович сидел в Туле, принимал всяких посланцев, чинил суд и рассылал во все концы свои призывные грамоты, Москва жила новым, дотоле невиданным, тревожным, но в то же время и радостным ожиданием.
По смерти царя Бориса как-то сразу почувствовался другой дух, откуда-то появилась у людей бойкость в глазах и смелость в речах, словно царские сыщики, кишевшие на всех площадях, прекратили свою работу. Особенно же поднялось настроение с появлением в Москве воинников отпущенной Димитрием годуновской рати, сообщивших, что сего войска на Руси более не существует, и много рассказывавших о встречах нового царя по всем городам, посадам и деревням в его пути. Теперь «людишки» и вовсе перестали бояться, и то, о чём ещё неделю назад шептались по углам, ныне говорилось во всеуслышание, как всем известное, непререкаемое и законное. Имя Димитрия не сходило с уст, передавались подробности его спасения в Угличе, недавнего житья в Польше и теперешнего похода, сочинялись невероятные рассказы о его доблестях, всяких хороших качествах и о любви к народу. Люди всех сословий открыто волновались: безысходность положения правительства была для всех настолько очевидна, что – при всё возрастающем своеволье толпы – каждый день ждали решительных событий. Не только низовые массы, но и все средние слои – купцы, дворяне и даже некоторые из бояр – сочувствовали перевороту. Димитрий, не приходя в Москву, уже царствовал в ней, возвещая наступление конца всем ужасам Борисова правления, привлекая к себе сердца различных слоев по различным – у каждого своим – причинам. Его грамоты действовали со всей силой: хотя редко кто видел их самолично, но все о них говорили, обсуждали, понаслышке, прописанные там милости, причём каждый находил что-нибудь хорошее для себя. Но, несмотря на то, что во всех этих грамотах было помянуто самое благожелательное отношение к боярам и ни слова не сказано о земле, слухи о «немилости» царя к князьям и о наделении беглых землею, упорно пристегивались к его имени.
В кремле царила паническая растерянность: оттуда то приказывали хватать злоязычников, жестоко их мучить и казнить, то проявляли нежданную доброту и возвращали из ссылки бояр, наказанных Борисом. Все кремлёвские ворота, кроме Фроловских (Спасских), усиленно охраняемых большим нарядом стрельцов, были наглухо заперты, на стены втащены пушки, и несколько сотен вооруженных стражей дневало и ночевало в кремле, неся охрану. Но никакие меры уже более не останавливали всеобщего брожения умов и громких площадных толков против годуновской семьи. Над юным царём Фёдором откровенно смеялись, называя его паскудным щенком, а мать его – смердящей сукой, и предрекали царствующему дому со всеми его сторонниками неминуемый гиблый конец. Скоро стало уже невозможно и хватать людей за такие слова, ибо толпа заступалась за них, избивала сыщиков и представителей власти, да таковые и сами весьма неохотно делали своё дело, уклоняясь от него всеми способами.
В таких обстоятельствах однажды утром вдруг кто-то крикнул на торгу, что «царь Дмитрёй уже к Москве подходит!», а с Ивановской колокольни будто бы видно большую пыль далече на Серпуховской дороге – не нынче завтра вступит в город! Как молния, пробежала эта весть по напряжённым нервам всего населения! Люди забегали, засуетились, заорали уже во всю глотку «Смерть Годуновым!» и запасались хлебом-солью для встречи долгожданного, но являющегося внезапно нового царя. На другой день с раннего утра большие толпы устремились за Москву реку встречать его, но тут выяснилось, что весть была ошибочная, – никто в Москву не ехал, Димитрий только ещё дошёл до Тулы, и многие приезжие оттуда люди говорили, что он пробудет там неделю, а может быть, и две. Народ нехотя расходился, но возбуждение было так велико, что тысячная толпа, собравшаяся на Красной площади, долго ещё неистово галдела, кричала ругательства царю Фёдору и его матери, а также здравицу Дмитрею Ивановичу. Многие требовали, чтобы кто-нибудь из больших бояр вышел на Лобное место и сказал бы народу о том, что теперь собирается делать «мальчонка Фёдор» и его семья. Другие желали видеть здесь самого Фёдора или его дядю, Семёна Годунова, упоминали патриарха, и все вместе кипели злобой к царскому дворцу за кремлевской стеною. Никто из бояр не решился выйти в такое время на площадь и объяснить намерения правительства: немногочисленные его сторонники предпочли сидеть дома за крепкими замками, держа оружие наготове. Среди общих криков и суетни вдруг раздалось молниеносное слово: «грамота царя Дмитрёя!..» Где, что, у кого грамота – никто толком не знал, но возглас этот летал и скакал по площади, озаряя и без того возбуждённые лица, направляя людей, в суматошной толкотне, к Лобному месту, на котором кто-то должен появиться. Вскоре туда протискался какой-то плечистый дворянин, в дорожном охабне и больших сапогах. Сняв шапку, перекрестившись на церковь и поклонившись толпе, он заявил, что государь Дмитрёй Иванович послал его в Ярославль со своею грамотой, что находится он здесь проездом, и если народ желает, то может сию грамоту огласить. Крики: «Читай! Хотим! Тише! Не орите!» – раздались со всех сторон, и дворянин, развернув бумагу, торжественно показал всем болтающуюся на шнурке восковую печать и громко прочёл одно из обычных писем Димитрия. Там ярославские люди призывались не служить больше Годуновым, а целовать крест ему, Димитрию, обещались милости всем Борисовым служильцам и сообщалось о скором приходе в столицу. Но для слушавшей толпы был не так важен текст грамоты, как самое её появление и прочтение в такой момент, с лобного места, с показанием печати, лицом, уполномоченным для дальнейшей её передачи. Народ приветствовал этого человека как царского посла, кричал «ура!», «многая лета!», ещё больше ругал Годуновых и не расходился, всё ещё ожидая каких-нибудь бояр из кремля. Но вместо них оттуда неожиданно и поспешно вышел какой-то худо одетый подьячий или челядинец и, взбежав на помост, в большом возбуждении воскликнул:
– Православные! Братцы, отцы мои! Слухайте! Разумейте! Помолчите хоть малость! Почто здесь собралися?! Гласите здравицу царю Дмитрею Иванычу, а в кремле людей пытают? Уж семерых ныне замучили!.. А троих велено в баню посадить и жарить, доколе не помрут! Со вчерашнего вечера жарят баню! Ещё живы. Помогите, православные, заступитесь за кровь неповинную! А в пытошной башне двадцать человек в подвале сидят – смерти ждут! Там и купцы братья Рыбины, и дьякон Федоска Огурец, и кузнецы, и…
Ему не дали кончить: отчаянный крик женщины, услышавшей имя дьякона Федоски, перебил речь, а за нею заорала всеми голосами и многотысячная, давно уже на всё готовая толпа, накалённая теперь добела! «Мерзавцы! Кровопийцы! Смерть изменникам!» – неслось отовсюду К помосту подъехал верхом кто-то из малоизвестных бояр с небольшою свитою и, не слезая с лошади, замахал рукой, давая знать, что хочет говорить. Передние замолчали, и тогда он, приподнявшись в седле, заглушил вопли дьяконицы, крикнув изо всей силы:
– Божьи люди! Чего стоите?! Скорей ходите! Вот куда иттить надо! – он вытянутой рукой решительно указал на кремлёвские ворота. – Поспешайте! Да здравствует государь Дмитрёй Иванович!..
– Да здрав будет! – ответила толпа, – В кремль! Во дворец! Скорее! Свободим всех! Бежим в башню! Не реви, баба, сейчас выпустим! Скорее! Бей их! Давно пора!.. Айда, Егорка! Пожива будет хоть куда!..
В необычайной ярости устремились люди в Фроловские ворота, сметая на бегу стрелецкие заставы, обгоняя друг друга, ободряя себя криками и ругательствами по адресу живущих за стеною. Через несколько минут они бегали по всем этажам и комнатам царского дворца, не столько отыскивая Годуновых, сколько чего-нибудь из ценных вещей, которые можно унести с собою. Они били и ломали мебель, громили всё, что не могли забрать себе, и нигде не встречали ни малейших препятствий – дворец как вымер: ни стражей, ни челядинцев как не бывало!
Небольшая кучка каких-то людей, запутавшись в переходах, неожиданно для себя попала в расписные сени, а из них, со всем шумом, влетела в большую, устланную красивыми коврами Грановитую палату.
Тут на троне в венце и бармах сидел мальчик – царь Фёдор, а рядом с ним стояли, дрожа от страха и заливаясь слезами, царица Марья Григорьевна и царевна Ксения с иконами в руках. Семён Годунов, а с ним ещё два-три близких человека и один поп (или монах), решившиеся, видимо, разделить участь царской семьи, находились тут же и громко, не в лад, читали молитву; а больше в громадной палате никого не было.
– Здесь они! Тута! Эвота! – кричали громилы, подходя ближе, но не решаясь пока что напасть, очевидно, смутившись икон и молитв.
– Бейте их! – кричали сзади, напирая в двери. – Скорее! Кончай щенка!
Но в это время через ту же толпу и в тот же вход быстро протолкались два рослых дворянина с саблями в руках и, вставши перед троном, решительно преградили дорогу.
– Вон отсюда! – закричал один из них. – Не подпустим! Рубить будем! Жалейте головы свои!
– Вы кто такие?! Бей их! – орали мятежники. – Заходи сбоку! Не бойся! Бросай скамьями! Давай нам Федьку! Бей старую суку!..
– Стойте! Слушайте! Даром их не возьмёте!.. А на что вам кровь мальца неразумного али вдовы-царицы? Не они всему виною, а покойный царь Борис! Обещаем вам, что ныне же уедут они отселе в свой старый дом и там за стражей будут жить до прихода царя Дмитрея Иваныча. Пусть судит их он, а не вы! Он вас за расправу не похвалит! Истинно яз говорю вам!
Толпа примолкла, а кто-то поддакнул: «Сие, пожалуй, верно!»
– Клянусь вам, – продолжал дворянин, – что не сбегут они, – князь Андрей Сицкий в том порукой! А вам скажу: идите вы в нижний ярус, по лесенке, что в сенях налево, там вина заморского шесть бочонков кладено – взяли бы, покеда другим не досталось!
Толпа была не так велика, чтобы быть уверенной в победе: передние совсем не хотели бросаться с голыми руками на сабли, а задние, сообразив, что здесь всё равно ничего не возьмёшь, предпочли спуститься в указанный винный погреб, пока его не разгромили другие. По недолгом времени все они ушли, не причинив вреда, и скоро их тяжелый грохот раздавался уже снизу, где разбивались винные бочки и потреблялось их содержимое. Оставшимся нельзя было терять ни минуты. Но пережитый безумный ужас и крайняя напряжённость дали себя знать в этот миг затишья: царевна уронила свою икону и, в растерянности, желая поднять её, сама упала, со слабым стоном, на ковёр. Царица-мать вместе с другими бросилась к ней, села на ступеньку трона, но сейчас же вскочила и кинулась к бледному как полотно, неподвижно застывшему сыну и, обнимая его, зарыдала в голос…
– Не мешкайте! – кричал дворянин. – Бежим отсюда! Они сей же час вернутся! И все пьяные!..
В тот же день их всех увезли в старый, заброшенный дом на Воздвиженке и там, заперев на замки, приставили со всех сторон сильную стражу. В Москве не было больше иного царя, кроме ожидаемого – теперь уже всеми без исключения – государя Димитрия Ивановича!
В начале июня 1605 года в доме князя Василия Шуйского, что в Китай-городе у церкви Ильи-пророка, собралось несколько человек его именитых друзей. Они бурно и долго обсуждали политическое положение Руси, отношение приближающегося к Москве царя Димитрия к боярству, а боярства к нему, и тому подобное. Были князья: Рубец-Мосальский, Телятевский, Воротынский, Мстиславский, двое Голицыных, боярин Бельский и другие. Мёду подано было очень немного, вина же не было совсем. Сильно задумались бояре о неминуемых ущербах и проторях, сопряжённых для них с новым царствованием, – было ясно, что даже ценой величайшего раболепства и униженья перед царём им не удастся сохранить свои владетельские права в неприкосновенности и поблажку рабам придется-таки учинить. Словечко «холопский царь», пущенное Мосальским, всем понравилось, все сошлись в оценке личности Димитрия, но никто не мог выдумать, что надо делать, дабы избежать лихой беды.
– Други! Князья руссийские! – воскликнул наконец Шуйский, вытирая платком лысину. – Послушайте меня! Не будем спорить ни о чём, ибо не время разглагольствовать, да и не о чем нам спорить: о Дмитрёе мы все едино мыслим, а сие – главное. Дале же нам надо не творить что-либо, а терпеливо ждать! Время укажет нам, что делать, и вскорости сделаем. Положитесь на меня, слугу вашего, – яз не пропущу минуты нужной и кликну вас своевременно. От царя-расстриги найдём избавленье! Но нужно осмотреться, приноровиться, чтоб ударить без промаха. Ныне же, тайну нашу соблюдая, восславим сего расстригу паче херувима небесного, дабы доверия его добиться и ближе к нему стать, а тем и легче святое дело наше совершить.
– То так, – сказал Мосальский. – Да неизвестно, когда сие сбудется. Удастся ли в милость войти к новой власти и Пушкина с Басмановым к себе перетянуть? На водах вилами все надежды наши писаны. А можа, поберечь щенка Борисова – он… Знаю, знаю, княже Василь Иваныч, скажешь, что раздоры пойдут, ежели на престоле малый отрок будет. Да уж лучше раздоры, чем сей холоп-разбойник. Мальчишке же годуновскому мы все-таки крест целовали.
– Не чуешь ты, друже, – ответил Шуйский, – что в раздорах тех Семён Годунов тебе шею сломает! Нам нужен царь настоящий, старинного роду, всеми знаемый и верный нам, а не подручный годуновской родне. Неужли не найдём его среди княжат наших? Верую, найдём, друже! Вот взять хоть бы тебя! Аль князя Мстиславского! Аль Голицына!.. Не все ещё Рюриковичи перевелись у нас – есть кого выбрать.
– А как быть с Фёдором? – спросил Воротынский.
– Ужели не ведаешь?
– Прикончить хочешь?
Шуйский молчал.
– Кровь неповинная! Можно бы и в монастырь угнать – он не опасен.
– Кто знает, княже, сколь не опасен? Вот Дмитрей тоже, бают, монахом был, а теперь царём к нам идёт. Коли берём заботу о государе настоящем, княжеском, не годуновского роду, то нужно дорогу ему расчистить загодя. Нельзя держать царского сынка Феденьку на пути: найдутся и у него сторонники и защитники, кои рады будут народ мутить и в мутной воде рыбу ловить.
– Яз не боюсь сего и думаю, что убивать не нужно, – сказал строго один из Голицыных.
– Да и мы того не жаждем, – ответил Шуйский. – Боже меня сохрани! Посля разгрому живут они в малом доме на Воздвиженке, Бога молят и в целости пребывают. На днях и оттоле вывезем на вотчину, за Тверью. А там посмотрим, что дале с ним творить, – без боярского совету не обойдёмся, княже, не беспокойся!
Тут в комнату постучали, и вошедший дворецкий доложил князьВасилию, что некий дворянин Валуев ждёт его во вторых сенях.
– Проводи в нижнюю угловую – яз там сейчас буду Простите, гости дорогие, – на минуту малую покину вас: время бойкое – внезапно прибегают, зовут… не взыщите уж!
Дворянин Валуев в маленькой комнатке, после закрытия всех дверей, сообщил:
– Готово, князь-батюшка, отец и благодетель! Исполнено!
– Всех?
– Так, княже, окромя царевны Оксиньи.
– Ревели?
– Мать шибко убивалась, за чад молила и в ногах валялась, ну, её первую и кончили, а потом мальчишку да двух баб – прислуг ихних. С царевной же припадок вышел – наземь пала, так её на руках вынесли и в монастырь свезли до указу твоего, княже.
– А на площади был?
– Яз не был – всё с ней возился. Пошли другие и объявили там с Лобна места, како Годуновы отравили себя ядом.
– Ну, что же народ?
– Не ведаю, не видел.
Возвратившись к своим гостям, Василий Иваныч застал шумный разговор и своего холопа, прискакавшего с Красной площади.
– Скорее, боярин, княже! – заговорил слуга. – Там Пушкин Гаврила из Серпухова приехал от царя Дмитрея и речь к народу держит. Только что дьяки объявили о смерти Годуновых. И не успели мы, как ты велел, проклятья крикнуть им, – подъехал он со товарищи, взошёл, дьяка перебил и сам заговорил. Ну, яз удумал, что кричать ему надо, – шепнул ребятам, и они там горлы дерут, претят Пушкину, кричат, что Дмитрей в Угличе помре. Да народ ему верит и на нас грозит, Ваську Косого уж зашибли. Мы и крикнули, что, мол, надо князь Василь Иваныча звать – он царевича мёртвым видел в Угличе и здесь всю правду скажет. Пушкин же своё твердит, и яз помчал за тобою, – может, поедешь к ним, боярин? Кони готовы.
– Езжай, Василь Иваныч! – воскликнули Мосальский и Голицын. – Всю правду им скажи!
– Еду без медления! Прощайте, други, не в обиде будьте!
Через несколько минут он был на Красной площади и входил на Лобное место. Пушкин только что кончил речь, и огромная толпа, приветствуя царского посланца, орала во все глотки, восхваляя Дмитрея, желая ему здравия и успеха.
Голоса трех десятков молодцов из дворни Шуйского тонули в этом море ликованья.
Он быстро всё заметил и оценил положение.
– Православные! – начал князь, – К нам идёт кормилец наш, государь-батюшка Дмитрёй Иванович. Яз тогда по указу Борисову в Углич ездил и видел, что убили злодеи не царевича, а другого мальчика, да Борису о том не сказал, а написали мы ложно, что закололся царевич Дмитрей, – како хотел того Борис Годунов. Ныне каюсь во грехе своём, страха ради смертного свершённом. Да простит мне Господь и великий государь! Верьте мне, люди московские, – то истинный сын блаженной памяти царя Ивана Васильевича и законный государь наш! Еду к нему ныне же в Серпухов и, припадши к стопам, прощенья умолю. Да здравствует царь Дмитрей Иванович на многая лета!
Под несмолкаемые крики большой площади Пушкин и Шуйский сошли с возвышения.
– Ну, Гаврила Иваныч, всё время жаждал яз встречи с тобою, и ныне, коли не хочешь меня обидеть, так сей час не откажешь ко мне заехать! Сколь радость велия! Сколь много тебе чести у государя!
– Да яз дома ещё не был – обожди до завтра!
– И думать того не могу! Ныне же еду к царю с моей повинною. Ко мне же зайдёшь на мало время на чарку мёду по случаю счастья столь нежданного – поведаешь о здравии государя-батюшки! И кони – вот они, садися – два шага здесь!
Он затащил его к себе и, знатно угощая старым заморским вином, хитро расспрашивал о Димитрии. Пушкин, ни слова не сказавши о настроениях царя, сообщил про пир, устроенный москвичами под Серпуховом в шёлковом шатре (сохранившемся в кладовых от царя Бориса), где сидело за столом более трёхсот человек, а прислуживало им около двухсот молодых дворян. Ели всё на серебряной посуде и пили из золочёных кубков, которые царь подарил каждому на память.
После же пира видел прибывшую из Москвы дорогую карету, в которой Димитрий поедет дальше.
– А попы латынские тож пировали?
– Нет, княже, – они хоть и едут за царём, но находятся в удалении, и царь с ними не видится. Да вот поедешь – сам всё узнаешь! Мне ж, прости, Василь Иваныч, недосужно, и необходимо домой отъехать.
Через неделю – 20 июня – новый царь торжественно въехал в столицу, но не в карете, а на прекрасном коне, в золочёном кафтане, окружённый блестящей московской знатью, казацкими атаманами и шляхтичами.
Никогда Москва не видала такого зрелища – огромный город высыпал навстречу. Звоны всех колоколов, трубы, пушечная пальба с разных крепостных стен неслись в лицо Димитрию! Тысячные массы ждали в нём избавителя!
Но невеселы, хмуры и молчаливы были бояре.

Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?