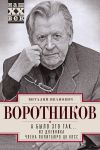Автор книги: Александр Гельман
Жанр: Драматургия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Памяти Олега Ефремова
1
После смерти, Олег, кто угодно
может с тобой делать всё что угодно,
одни говорят – ты был не совсем на высоте,
на меньшей высоте, чем от тебя ждали,
другие – ты был на недосягаемой высоте,
на гораздо большей – чем от тебя ждали.
О, эти, которые стоят с рулеткой в руках,
отмеряют с точностью до миллиметра,
кто недопрыгнул, кто перепрыгнул…
Как их много, Олег,
как они довольны
результатами своих измерений,
скушать готовы друг друга,
но свой замер не позволят
изменить ни на один миллиметр.
Властью своей над ушедшими
они пользуются умело, азартно, бесстыдно,
с такой уверенностью в своем праве,
что это не может не вызывать восхищения.
2
Ты уходишь все дальше, все дальше,
а время твое возвращается, возвращается.
Ты знавал очаровательных дам:
Цензуру Никитичну,
Цензуру Леонидовну,
теперь у нас Цензура Владимировна.
Опять востребован твой лукавый талант
обращения с начальством,
опять надо притворяться шутом
или напиваться,
чтоб не видеть выражения
собственных трезвых глаз,
слово «опять» от частых употреблений
с каждым днем набухает, тяжелеет —
вот-вот сорвется,
упадет нам на голову.
Ты уходишь все дальше, все дальше,
а время твое возвращается, возвращается.
Григорию Нерсесяну
Настоящее захвачено
прошлым и будущим.
Спохватишься, закричишь:
да это же оккупация!
В настоящем хочу
ощущать настоящее!
Вон с пространства
моего существования!
Спины. Затылки. Молчание.
Только большая беда
возвращает нам
настоящее в полном объеме,
только боль не дает отвлекаться
ни на прошлое, ни на будущее.
«Последнего будущего не бойся…»
Последнего будущего не бойся,
в адские муки не верь,
как лето переодевается в осень,
так жизнь переодевается в смерть.
«На старости лет…»
На старости лет
переехал в маленькую гостиницу
на окраине моего воображения:
тихо, солнечно, ласточки щебечут,
когда захочу, дует ветер,
когда захочу, идет дождь.
«Мы верим в каждую эту секунду…»
Мы верим в каждую эту секунду,
что в следующую смерть нас не тронет —
мы передаем себя, свою жизнь
от одной верующей секунды
другой верующей секунде —
это наша непрерывная вера,
отказаться от которой не может никто,
даже самый завзятый атеист.
Подлинный Бог
не требует, чтобы ему верили,
он знает: как вода не может не быть мокрой,
так жизнь не может не быть верующей.
«Дети должны приносить отцу огорчения…»
Дети должны приносить отцу огорчения,
иначе какие они дети, чьи они дети?
Осла? Верблюда?
Отец должен перманентно приходить в ярость,
покрываться холодным потом,
его должен охватывать ужас.
Иначе какой он отец, чей он отец?
Манекенов? Кукол?
Дети должны быть такими, чтобы отец
каждый вечер, ложась спать,
молил Всевышнего
не дать ему утром проснуться.
Тогда это дети, тогда это отец,
тогда понятно, почему
Бога мы зовем Отцом.
МЕЖДУ
Мы родом из середины —
между,
между началом и концом,
между концом и бесконечностью,
Всё, что нам кажется с краю,
на самом деле – между,
между между.
Кому жаловаться,
если даже детородные органы
у мужчин и женщин
Всевышний расположил
между.
Не ищите нас там или тут
мы – между,
между войной и опять войной и опять войной,
мы дважды, трижды, стожды между,
Не между добром и злом
а между злом и адом,
между плохо и никак —
между между.
«Пушка совести…»
Пушка совести
все время запаздывает, не успевает,
выстрелит – а грех уже совершился.
Пушку совести
все время надо откуда-то приволочь, пригнать,
ее никогда нет на месте,
выстрелит – а грех уже совершился.
Пушку совести
я заставил безотлучно дежурить,
высвободил для нее в голове нишу.
Не помогает, спит на посту —
проснется, бабахнет,
а грех уже совершился.
«В двух шагах от обид…»
В двух шагах от обид,
которых забыть не могу,
стараюсь пройти, не задев.
«Совсем отказаться душить друг друга?..»
Совсем отказаться душить друг друга?
Это невозможно,
об этом не надо даже мечтать.
Душите, только не обязательно до конца,
душите, потом целуйте шею,
которую сжимали железными пальцами.
Это по-царски, по-русски!
Недозадушенные
обожают своих душителей.
«Я друг одиночества, покоя…»
Я друг одиночества, покоя,
которых мне всегда не хватает,
я друг маленькой горсточки людей —
большинство уже на небесах,
я друг моих привычек,
моего воображения,
стараюсь быть другом моей старости,
даже с моей смертью пытаюсь подружиться,
смею заявить:
я друг Природы, Вселенной,
но у меня никогда не повернется язык
сказать, что я друг Пушкина или Руми —
это все равно
что объявить себя другом Всевышнего.
Памяти Джалаладдина Руми
1
Читаю и чту тебя, мой учитель,
мое вдохновенье смешалось с твоим,
плачу от счастья.
В строчки твоих стихотворений
слова вступают,
помолившись.
2
Через семь столетий
у меня в груди
нашли друг друга
Целан и Руми,
жалко, что я стар,
гаснет моя звезда —
скоро им придется
расстаться навсегда.
«Каждый день, многие годы…»
Каждый день, многие годы
из окна смотрю на развилку дорог:
одни люди останавливаются,
соображают, прикидывают,
после чего идут
направо или налево,
другие с ходу, с лету выбирают,
заранее всё продумали.
Есть и такие:
сначала идут направо,
но вдруг возвращаются —
идут налево,
а некоторые, наподобие меня,
не могут решиться —
они поселяются у развилки,
живут там до конца жизни.
Наталье Старовойт
1
То, что нас связывает,
еще не связало нас,
середина, пожалуй,
уже едина,
а концы не сходятся —
между нами пыхтит, ворочается
большая разница:
ты для меня
последняя женщина,
я для тебя
не последний мужчина.
Но я знаю, я помню,
буду помнить всегда:
на этом свете
над всеми разницами
колдует судьба.
2
Немножко думаю о тебе,
немножко больше, чем немножко,
листаю тебя, как книжку,
на каждой странице то твое лицо,
то пол-лица,
то затылок с плечами,
прелесть какая – затылок с плечами,
даже с одним плечом замечательно!
Рука – какая не пойму, правая или левая,
поправила волосы,
указательным пальчиком мазнула по носу,
но ни на одной странице
нет тебя полностью, целиком —
с ног до головы, с пяток до макушки,
а я так хочу увидеть тебя всю, как ты есть:
ты куда-то уходишь, уходишь, уходишь
и все время оглядываешься,
как-то так оглядываешься,
что я начинаю верить – скоро вернешься,
уходи быстрей, чтобы скорей вернулась!
3
Несколько раз в своей жизни
я был удостоен чести
уверовать в чудо —
позволь мне еще раз, Господи,
тихо, про себя, прошептать:
«Не может быть, а есть,
быть не может, а вот оно,
вот она…»
4
Негромко смеюсь над собой —
полусочувственно, полуязвительно,
что-то мешает расхохотаться в полную силу —
неуклюже, смиренно жду твою милость.
Прежде, давненько,
я был беспощаден,
самообман выжигал из души,
но с тех пор
гнев поугас, измельчал,
самость утратила волю —
прощаясь с собой,
прощаю себе
тебя.
5
Порой мне кажемся,
что жизнь моя затянулась надолго
исключительно для того,
чтобы успеть встретить тебя.
Не знал, не ждал,
что вдруг такое начнется,
теперь не знаю, жду,
когда это вдруг кончится.
Да здравствует свобода будущего!
6
Я хочу тебя всю —
не только тело,
даже не столько тело,
всю – вместе с телом.
И то, что видно, слышно,
и то, что не видно, не слышно,
о чем ты даже не догадываешься,
что оно в тебе есть,
и то, что ты в себе зачеркнула,
замазала, стараешься забыть.
Ты нужна мне вся
без пробелов,
без купюр.
7
Ночью подумал:
скорей всего, между нами
никогда не будет, как я хочу,
никогда не будет, как ты хочешь,
ничего у нас не получится,
наш толстый роман
состоит из одних первых страниц.
Ну и что – спросил я себя —
какие выводы?
Вывод один:
пускай еще долго
продолжает ничего не получаться.
8
Вот сижу
с неистраченной нежностью
в висках, в коленях,
губы размыкаются,
только чтобы что-то съесть,
руки вянут от безобъятий —
все предназначалось тебе,
которая вчера в 20.40 улетучилась,
превратилась в золотистое облачко,
подсвеченное заходящим солнцем.
Что будет с тобой без меня,
примерно знаю,
что будет со мной без тебя,
боюсь/гадаю,
надеюсь, Всеблагой не допустит,
чтобы я ушел из жизни
влюбленный в никого —
где-то за углом Малой Бронной
моя новая подруга
уже выставила загорелую ножку,
о которой через неделю-другую
я споткнусь.
9
Опять все спутывается, смешивается,
все время эта сгущенность
неразвернувшихся чувств,
не успевающих зацепиться за слова —
вспышки полумыслей,
намеки непонятно на что.
Боже, как мне нравится эта бессмыслица,
эта невыразимость,
эти напрасные попытки
все же начертать этот хаос обожания,
когда твое лицо я больше слышу, чем вижу,
глаза и уши
отнимают тебя друг у друга.
10
Чо-то ломается, что-то ломается,
никак не сломается,
наша встреча ничего б не стоила —
если б внутри ничего не сдвинулось,
не упало, не опрокинулось,
пусть сломается то, что ломается,
когда живое, вдруг, начинается,
что-то уходит, что-то кончается —
новая свобода от старой свободы
освобождается.
11
Если правда,
ты никого сейчас не любишь,
полюби меня, старика,
пусть ненадолго, не навсегда —
полюби меня хоть немножко.
Зачем впустую транжирить дни,
еще неизвестно, сколько этих дней уйдет,
пока там кто-то сведет тебя с ума,
а я, видишь,
стою с протянутой душой,
пусть ненадолго, не навсегда —
полюби меня хоть немножко,
все самое лучшее,
что во мне осталось,
все выкладываю перед тобой
без остатка:
пусть ненадолго, не навсегда —
забери мое всё
за твое немножко.
12
Спрашиваю себя:
это кончится еще при моей жизни
или только вместе с моей смертью?
А ты как хочешь? —
спрашивает меня мой вопрос.
Ой, это нехорошо —
когда мои вопросы
задают мне вопросы.
13
За окном чума бушует,
смерть гоняется за стариками,
люди прячутся от людей —
я спокоен, эта беда меня минует,
я по другому списку значусь —
я умру молодым, девяностолетним,
начинающим поэтом,
влюбленным женихом
без невесты.
Радуюсь тихо,
незаметно для посторонних,
никогда не мечтал
о таком празднике старости,
о таком подарке Всевышнего
за никакие заслуги,
за ничего,
просто так.
«О, эти промежутки «между»…»
О, эти промежутки «между»,
между оклеветали – извинились,
растоптали – покаялись,
выдворили – позвали обратно,
уничтожили – реабилитировали,
даже когда они очень короткие,
кто-то успевает озвереть,
сойти с ума, повеситься.
О, эти промежутки —
даже когда они очень короткие.
Но у нас они тянутся годы, десятилетия,
гибнут люди, книги, целые науки,
целые народы лишаются родины,
горы реабилитированных трупов
возвышаются над нашей судьбой.
О, эти промежутки «между»,
даже когда они очень короткие…
Сновидения старика
1
Я в рабстве, меня продают.
Рабовладелец мой – женщина,
она меня купила мальчиком,
использовала как мужчину много лет,
теперь я стал непригоден для ее забав,
продает.
Нахваливает:
какой я порядочный, умный, чистоплотный.
Врет! Врет, не стесняясь меня,
знает, я буду молчать, а то прибьет,
убить раба для нее,
как выплюнуть косточку вишни.
Покупатели меня осматривают,
поворачивают, велят раздеться,
я раздеваюсь,
велят трусы снять,
я снимаю.
Дама палочкой приподнимает мой член,
спрашивает у хозяйки: «Уже всё, угас?»
Хозяйка: «Я не вникала».
Даже покраснела от скромности —
она не вникала…
Щупают, щекочут,
щелкают по голове, как по арбузу:
конечно, пожилой мужик,
что с него взять,
разве что сторожем.
«За полцены отдашь?»
Не соглашается:
«Он гадать умеет, он предсказывает!
Я б его ни за что не продавала,
если бы не беда – у меня дом сгорел».
От такого вранья у меня щеки горят —
никакого пожара не было,
у нее между ног пожар, это да.
Подошла старушка-одуванчик,
еще я стоял голый:
«Одевайся, – сказала, —
поедешь со мной».
Заплатила сколько просили —
было похоже, я ей не нужен,
просто пожалела.
2
Я спал у мамы в животе,
и там мне снились буквы – О, А, Ю, —
только гласные,
и каждая имела голос,
вслух себя произносила,
чтоб я запомнил,
как они звучат.
3
Миша Жванецкий читает перед народом,
читает смешное, а народ не смеется,
читает еще более смешное,
а народ еще больше не смеется,
читает еще более, более,
более, более смешное,
а народ еще больше, еще больше,
еще больше не смеется.
Один я смеюсь, хохочу
и падаю со смеху
в какой-то черный колодец.
Миша прекращает читать,
подбегает к колодцу, кричит:
«Саша, ты живой?»
А я оттуда, из глубины, отвечаю:
«Я еще не долетел!»
Миша обернулся к народу:
«Он еще не долетел.
Если вы засмеетесь,
он взлетит обратно.
Смейтесь же,
спасите Сашу Гельмана!»
Ни одной улыбки ни на одном лице.
С воплем ужаса
я ударился головой
о бетонное дно колодца
и проснулся.
Вскочил с кровати, перекрестился,
забыл, что я еврей.
4
Я стоял перед надгробным камнем
на моей могиле,
долго смотрел
на даты рождения и смерти,
вдруг черточка, черная черточка
выпорхнула из промежутка
между двумя цифрами
и взлетела в небо.
Волнение захлестнуло меня:
эта черточка, этот промежуточек —
это все, что осталось от моей жизни,
это я, это я! Куда я лечу?
Черточка в небе заметалась —
в одну сторону, в другую,
выше, ниже,
она не знает, куда лететь, —
ее нигде не ждут,
ее никуда не зовут.
А в это время
оставленные на надгробном камне
две мрачные цифры поползли вверх.
Они добрались до бедной моей
дрожащей в воздухе черточки,
год рождения встал справа от нее,
год смерти – слева от нее,
цепкими ручищами
схватили мою черточку,
потащили вниз
и грубо ткнули ее в то место,
откуда она взлетела.
Я плакал.
Не вытирая слез,
покинул кладбище.
«С некоторых пор…»
С некоторых пор,
с некоторых горьких пор
утром ночь не уходит из глаз,
день не знает, как быть
с обнаглевшей ночью —
попробуй ее прогнать,
полную заговоров, угроз,
приклеенную к небу
густой, молодой спермой.
Изнасилованные дни —
вот что нам оставили,
вот что мы оставляем.
«Моя свобода стеснялась себя…»
Моя свобода стеснялась себя,
робела перед собой,
в свои силы верила/не верила,
пряталась, боялась…
Трусливая свобода – да, и такое бывает.
Боже, как я был счастлив,
когда моя несвободная свобода,
затоптанная зависимостями,
вдруг вырвалась!
Слова мгновенно откликнулись —
я не ожидал, не думал,
что возможно такое счастье слов:
запрыгали, завизжали,
сплетались то так, то этак,
сходили с ума, кувыркались,
обнаруживали невероятные смыслы,
неслыханные сложности
проявляли загадочную ясность!
Настоящий праздник речи
гудел у меня в голове.
Никогда не забуду ту ночь,
я боялся:
свобода моя сбежит обратно,
опять устыдится себя, испугается,
сломает свою удачу.
Ночь была жаркая, конец июля,
а я закутался в зимнее пальто,
просидел в нем всю ночь,
загородил путь назад,
в мою трусливую грудь.
Мне неслыханно повезло:
я был свидетелем невероятного события —
освобождения свободы,
моей свободы!
Не знаю, кого благодарить,
разве что двух-трех поэтов,
которых обожала моя свобода, —
не я, не я, она читала божественные строки,
читала и верила,
что и она могла бы, могла бы,
если бы не была повязана
веревками робости
еще в животе моей мамы,
которая впитала в себя дух покорности
из безымянных глубин
еврейских прапрабабушек.
Всевышний помог —
в ту ночь
он отключил колючую проволоку страха.
Спасибо, Всеблагой!
Я скоро уйду,
но моя свобода,
с таким трудом
вырвавшаяся из собственной неволи,
теперь будет долго жить
в сердцах моих сыновей, внуков и
пра-пра-пра…
пра-пра-пра…
Марату Гельману
Ясное смертно,
бессмертно загадочное,
бессмертно туманное,
блики бессмертны, намеки, сны,
полупришедшее, полуушедшее,
тени бессмертны,
тени останутся —
тени летучие, неуловимые.
«Вспоминаю то, чего не было…»
Вспоминаю то, чего не было, —
какая свобода мысли,
какие намеки, ужимки, вскрики —
обхожусь без запятых, без точек,
по яркости словосочетаний,
по невероятным соседствам событий
с правдой-скромницей никакого сравнения!
Боже мой, это же огромный мир,
к которому я почти не прикасался —
как радостно, как трогательно
вспоминать то, чего не было.
Какие сюжеты! Какие женщины!
«Победители любуются собой в зеркалах…»
Победители любуются собой в зеркалах,
машут себе руками,
посылают воздушные поцелуи своим лицам,
влюбленным в себя глазам —
ну, молодцы, ну, молодцы!
Неожиданно между их отражениями
всплывают изуродованные тела,
трупы победы.
Победители возмущены:
кто это сделал, кто дал право?!
Они закрывают глаза,
отворачиваются, уходят.
Но лица их остаются
на зеркальной глади
среди все новых всплывающих
убиенных.
Люди
люди убивают людей,
люди посылают людей
убивать людей,
люди награждают людей
за то, что они убивали людей,
люди возносят молитвы Всевышнему,
просят поместить в рай людей,
которые посылали людей
убивать людей,
люди готовы
по приказу людей
убить всех людей,
включая себя,
во имя победы.
«Люди выстроили баррикады…»
Люди выстроили баррикады
против себя,
против правды о себе,
бьются за то,
чтобы оставаться никем, ничем:
пыль истории,
взметнувшись, кричит «ура»!
Зимнее, 2018
О мой народ, русский мой народ,
мой, еврея, русский народ,
твой язык, буквы, звуки твоей речи
научили меня быть человеком —
распознавать, отличать,
идти навстречу, отворачиваться —
меня ты научил, себя не научил.
Веками жить
среди такого безмерного сочувствия
русского слова к человеку,
а на флаге своем написать:
«жизнь – копейка».
Слова твоих великих учителей
все еще ждут,
все еще надеются,
плачут.
«Ощущаю себя виноватым…»
Ощущаю себя виноватым
пред моим иудейским началом,
слишком долго оно молчало,
на удары не отвечало,
понимаю, что это чревато.
Тем не менее, тем не менее
не припомню такого мгновения,
когда мной овладело бы мщение —
не могу, не хочу, не умею
ненавидеть меня ненавидящих.
«Глазам необходимы лица…»
Глазам необходимы лица —
лицо Врага, лик Спасителя,
безлицый Бог глазастым не указ,
они ему лицо нарисовали,
и молятся лицу Безлицего
рабы видимости.
Отпуск
Все во мне повернулось спиной
ко всему во мне,
и глаза, и уши, и ум
повернулись своими спинами
к моей душе!
Беру отпуск
от озабоченности выразительностью
моего слова,
от проникновения все глубже
в свинцовые мешки моей памяти.
Беру отпуск
от ожидания последнего будущего,
главной свадьбы моей жизни —
когда Смертушка выйдет за меня замуж.
Беру отпуск
от новых попыток-пыток
доводить до сведения,
ставить в известность
о том, что все знают:
уже многие годы
запах гибели
дует нам в ноздри,
назревает слепая беда:
история оружия
завершила полный кругооборот:
от возможности убить одного человека
до возможности убить всех людей.
И что же? Народы празднуют
торжество смертоносности!
Пляшут, хвастаются, кричат «ура»!
Здесь, в Москве,
сегодня и надолго,
может быть, навсегда,
достигнут полный предел нелепости:
люди хотят того,
чего не хотят.
Беру отпуск
от стремления понять,
искать причины, обрести надежду —
зачем? для кого?
«Из всего, что Ты даровал нам, Господи…»
Из всего, что Ты даровал нам, Господи,
только вопросы не умирают,
из века в век обращаем к Тебе
одни и те же, одни и те же вопрошания.
Почему? За что? Доколе?
Потеряв надежду услышать ответ,
мы научились радоваться
отточенному трепету вопросов —
Ты вырастил великих мастеров
этого жанра.
«Сколько ушло поколений…»
Сколько ушло поколений,
уверенных в своей правоте,
печально мы смотрим им вслед:
как они ошибались!
Время – щадящее зеркало —
показывает, кто мы такие,
когда нас уже нет на свете…
«Там, в темноте, в темноте…»
Там, в темноте, в темноте
стану неразличим,
как вода в воде.
Юрию Погребничко
Начну старомодно:
сердце у него в груди
благоухает, как роза,
он дарит ее каждому зрителю,
когда тот выходит из его театра.
Он ставит спектакли о том,
что всё в нашей жизни повторяется, повторяется,
но каждый раз чуточку прибавляется
к тому, что было,
или чуточку отнимается
от того, что было.
Он любит эти чуточки —
чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше,
от этого мир может перевернуться
или, покачнувшись, сохранить устойчивость.
Он владеет подлинно русским воображением —
знает, что счастье в России
придумывают, а не строят,
русское воображение,
как, может быть, нигде в мире,
воспринимается не как фантазия,
а как то, что есть:
с воображаемым считаются как с реальностью,
а иначе вообще не с чем было бы считаться.
Когда Юра Погребничко
(какая прелестная фамилия!)
смотрит на вас,
он делает это, чтобы увидеть именно вас,
а не для того, чтобы увидеть, как вы
смотрите на него.
Когда он упирается в черту,
через которую переступить нельзя,
черта от него сама отскакивает.
Когда он оказывается в компании,
где беспардонных лгунов больше десяти процентов,
он тихо линяет.
У него маленький-маленький театр,
бóльшая часть которого несколько лет назад сгорела,
теперь у него крошечный театр – живая клеточка
в огромном, в значительной мере мертвом
мировом театре.
Мы с ним родились с один день —
25 октября, мы скорпионы.
Скорпион – это самоедство
во имя совершенства,
слава богу, он еще не всего себя скушал.
О чем говорит его театр,
если выразить это
в трех коротких предложениях?
Первое: страшнее смерти – не родиться.
Второе: история отвратительна, а жизнь прекрасна.
Третье: не бывает настолько плохо,
чтоб не могло быть еще хуже.
Юра ставит спектакли, спектакли ставят Юру,
эта творческая взаимозависимость,
даст Бог, будет продолжаться долго-долго,
вот уж кому действительно имеет смысл
прожить сто двадцать лет.
«Безгрешный поэт…»
Безгрешный поэт,
чтоб написать бессмертные стихи,
придумывает себе грехи,
придумывает сражения, которые проиграл,
женщин, которые ему изменяли,
задает кощунственные вопросы:
«Может ли Бог, поскольку он может всё,
сотворить еще одного Бога?» —
он готов обрушить на мир новый потоп
ради трех гениальных строк.
«Я боялся, что окажусь трусом, не посмею…»
Я боялся, что окажусь трусом, не посмею,
страх оказаться ничтожеством
научил меня смелости,
мужеству.
Один страх победил другой страх,
моя душа знает,
что такое война страхов.