Текст книги "Люди и праздники. Святцы культуры"
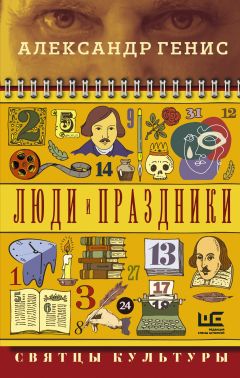
Автор книги: Александр Генис
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
27 марта
Ко дню рождения Квентина Тарантино
Гений – и на меньшее я не согласен – Тарантино в том, что он справился с гиперреализмом кино, утрируя и разрушая его.
Когда кинематограф был еще совсем молодым, первые мастера мечтали о том, что новое искусство вывернется из-под гнета действительности и научится ее искажать, как это было с живописью, в угоду автору и авангарду. Сегодня смешно смотреть на немые ленты с формальными изысками. Искаженные фигуры, зеркальные отражения, сумасшедшие ракурсы, привидения в дымке. Бунюэль, который первым жаловался на тягу кино к жизнеподобию, быстро отказался от формальных экспериментов с камерой. Его сюрреализм брал концепцией, восхищал абсурдом и маскировался под норму.
В определенном смысле Тарантино двигался туда же. Снятые им фильмы не отражают жизнь, а расходятся с ней – демонстративно, но незаметно. Этот парадоксальный прием не устает поражать, сколько бы раз мы ни смотрели его картины. Кажется, что на экране все по правде: люди, костюмы, пейзажи, но тут же и без всяких объяснений сцена превращается в гротеск, карикатуру, фарс.
Вот охотник за евреями, иезуит и палач полковник Ланда ведет допрос, и мы холодеем от ужаса, но вдруг он закуривает нелепую, как у Шерлока Холмса, трубку, и зритель нервно смеется от смеси эмоций. При этом автор нас честно предупреждает о своих намерениях, а мы все равно ему не верим и всерьез сопереживаем действию, хотя и знаем, что Тарантино все врет.
Так, фильм “Бесславные ублюдки” (2009) радикально сменил жанр. Батальное кино превратилось в трагедию мести, как, впрочем, и в ее комедию. Чтобы война была справедливой, жертвы должны стать безжалостными палачами, а мы – зрителями, которые им аплодируют. В этом трагикомическом повествовании он настолько расшатал наше представление о реальности, что мы уже готовы к невероятному финалу. Ведь он разворачивается в той альтернативной реальности, в которую мы постепенно погружаемся на протяжении всего фильма. Накопленные несуразные и часто комические детали всё настойчивее отдаляют нас от жизни, что позволяет без возражений и с восторгом принять безумную, но безупречно логичную концовку. Врагов у Тарантино уничтожает сам дух кино, выпущенный на волю режиссером.
31 марта
К открытию выставки “дегенератов”
“Дегенератами” они стали не сразу, а лишь по приговору фюрера. Чем же так бесил Гитлера модернизм? Тем, что он не преображал жизнь, а искажал ее, уводя от идеала. По Гитлеру хорошая картина – портрет Дориана Грея наоборот. Никогда не меняясь, он прятал под собой тот кошмар окружающего, который живописали с ужасом и талантом “модернисты-дегенераты” Веймарской республики.
Сам Гитлер предпочитал другое. Страстный поклонник античности, он повесил над камином панно Адольфа Циглера “Четыре элемента”. Все здесь знакомо. Пол в шахматную клетку – из Вермеера, девы – из Кранаха, груди из мрамора, фигуры напоминают кариатиды храма вечного покоя.
– Глядя на это, – заметила жена, – вспоминаешь Кашпировского, говорившего с телеэкрана: “Вам спокойно́”.
Любимец Гитлера навевал безмятежные думы о той идиллической вечности, которой не было места на картинах немецких модернистов.
Германский авангард, как все, что уцелело после Первой мировой войны, разительно отличался от искусства предшествующего ей “века надежности”. Новое перестало быть молодым, ибо не верило, что успеет вырасти. Не рассчитывая на проценты, жизнь торопилась прокутить добро. Порочная и бесстыдная, она не находила себе ни в чем опоры.
В этой живописи сосредоточились те черты экспрессионизма, которые отличали тевтонский стиль от галльского импрессионизма. Французы были экстравертами, немцы писали ландшафт души, увиденный внутренним взором и искаженный им. Считая экспрессионизм национальным искусством, нацисты сначала терпели этот грубоватый и напористый стиль. Но Гитлер не выносил живописи, меняющей реальность.
Выставка “дегенеративных” художников (1937), показавшая 650 полотен, украденных из 32 музеев, честно представляла искусство Веймарской Германии. Короткая, но отмеченная неслыханным со времен Веймара Гёте расцветом культуры, эта эпоха – бельмо на глазу истории. Возможно, потому, что эту немецкую республику, коррумпированную и беспомощную, никто не полюбил и не пожалел. Безмерно яркая и очень несчастная, она до сих пор соблазняет примером и пугает уроком.
Апрель
1 апреля
Ко дню рождения Николая Гоголя
Иногда мне кажется, что он не умел писать по-русски. А когда пытался, то выходил сплошной “Кюхельгартен”. Гоголь писал по-своему и был гениален тогда, когда его несло. Поэтому читать его надо, как контракт: медленно, въедливо, по много раз – и все равно надует.
Гоголь – восторг, которым нельзя не делиться. В моей жизни был счастливый месяц, когда мы с Довлатовым через день встречались в кафе “Борджия”, чтобы похвастаться открытием, неизвестно где скрывавшимся от всех предыдущих прочтений. Больше всего я гордился разговором Хлестакова с Земляникой:
“– Мне кажется, как будто вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли?
– Очень может быть”.
Гоголь для нас был лучше водки: он пьянил исподтишка. Мало проглотить фразу, надо дать ей всосаться. Только так, выпивая абзац за абзацем, учишься парадоксальному гоголевскому языку, опровергающему самого автора. Слова тут не помогают, а мешают тексту рассказать свою историю, создавая параллельный или даже альтернативный сюжет.
Такое случилось с “Тарасом Бульбой”, которого первым “проходят” и последним понимают. Настаивая вместе с автором на патриотическом содержании, повесть противоречит себе: героям важна не цель, а средства. Соответственно, пафос книги не в конце, а в начале:
“– Да сними хоть кожух! – сказал, наконец, Тарас, – видишь, как парит.
– Не можно, у меня такой нрав: что скину, то пропью”.
Казаки Гоголя, как мушкетеры Дюма или алкаши Венички Ерофеева, живут, пока пьют и дерутся на “вечном пире души своей”. Этот пир потому вечен, что накрыт в заглохшей, но неистребимой доисторической глубине, где Ницше находил белокурую бестию, Юнг – архетипы, Сартр – экзистенциальный каприз. Гоголевские казаки не вне морали, они – до морали, и это делает их зверски свободными.
1 апреля
Ко Дню билингвизма
Двуязычие было нормой большую часть истории. Образованные римляне говорили по-гречески, европейцы – на латыни, русские – по-французски, ну а сейчас все так или иначе изъясняются на английском; даже тогда, когда, путая слова из трех букв, пишут в подъездах sex, имея в виду совсем другое.
То, что в нашей голове помещаются два языка, еще не значит, что они так же легко уживаются друг с другом. Чужой язык притворяется слугой, а становится хозяином. Эту гегелевскую диалектику я каждый день испытываю на себе, живя в Америке. Здесь во мне, как в Печорине, два человека. Один говорит, что думает, другой не думает, что говорит.
По-русски мне обычно удается сказать все, что хочется. Но с американцами за меня говорит их язык. Этот диалект мы с женой-филологом называем Have a nice day. Оказывается, на чужом языке банальным быть проще, чем хамом. Шутки нельзя переводить, даже если очень хочется. Монолог уступает место диалогу. Ваты меньше, картону больше. Сальность нуждается в остроумии. Мат ничего не значит. Фамильярность не исключает, а подразумевает вежливость. Бродский долго не верил, что на английском можно сказать глупость. Это, конечно, не так, но вот напиться на английском, по-моему, никогда не получается. Неудивительно, что, говоря по-чужому, постепенно перестаешь узнавать себя. Язык исподтишка вползает в душу даже тогда, когда ее нет, как это случилось с газетой Moscow News.
От других печатных органов брежневского времени она отличалась тем, что умела говорить, ничего не сказав, на нескольких языках сразу. Из нее мне удалось (пришлось) узнать, как называется по-английски “передовик социалистического соревнования”. Все это кончилось, когда в редакцию взяли настоящего американца. Не меняя содержания, он так отточил форму, что у газеты появился вольный дух, сделавшей ее флагманом перестройки.
Ученые говорят, что всякий язык образует собственную Вселенную, путешествуя по которой, мы не можем не набраться ума и терпимости.
1 апреля
Ко Дню смеха
Смех универсален, юмор национален, первый принадлежит цивилизации, второй укоренен в культуре. Немого Чаплина понимают все, чужому юмору надо учиться, как иностранному языку.
Так, только с трудом и постепенно мне удалось полюбить дидактичный и пресный китайский юмор. Зато с тех пор я, как школьник, выписываю в тетрадку изречения его великого мастера Чжуан-цзы и привожу при каждом удобном случае: “Самого усердного пса первым сажают на цепь”.
Русский юмор лучше всего там, где он сталкивает маленького человека со Старшим братом: “Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленях не могли”. Понятно, почему мы выучили наизусть Швейка.
Юмор Германии витает в плотных облаках. Томас Манн считал комическим романом не только свою “Волшебную гору”, но и кафкианский “Замок”. С последним соглашались современники, покатывавшиеся от хохота, когда Кафка читал им вслух первые главы этого беспримерного опыта трагикомического богословия.
Чтобы заполнить Новый Свет, юмора нужно больше. Особенно в Техасе, где, как писал О. Генри, девять апельсинов составляют дюжину. Американская экспансия смешного не знает исключений. Герой Вуди Аллена такой утрированный ипохондрик, что его космический невроз требует не психиатра, а теолога.
Наиболее обаятельная черта британского юмора – чопорность. Она позволяет жонглировать сервизом на канате, не поднимая бровей. Комизм – прямое следствие непреодолимой неуместности, к которой, в сущности, сводится любая житейская ситуация, если учесть, чем она всегда кончается. Об этом писал самый мрачный из всех юмористов Беккет. Герой его романа “Моллой” говорил, что чувствует себя как больной раком на приеме у дантиста. Смерть ставит жизнь в ироничные кавычки. Вблизи смерти все становится неважным, несерьезным, а значит – смешным.
2 апреля
Ко дню рождения Ханса Кристиана Андерсена
В чужой стране лучшие друзья – литературные персонажи. В родной – тоже. С годами всё призрачнее становятся фигуры домоуправа, квартирной соседки, секретаря комсомольской организации. Но вот, скажем, Онегин не тускнеет. Кажется, что из всех российских знакомых остались только они: Мцыри, Чичиков, Витя Малеев в школе и дома.
Дания – маленькая страна, но датчане могут спать спокойно: мир их не забудет до тех пор, пока на земле будут дети. Бронзовая фигура Андерсена встречает вас у ратушной площади, Русалочка целыми днями сидит у моря, и главная улица Копенгагена названа, конечно, его именем.
Самим датчанам это настолько приелось, что однажды вандалы отпилили этой самой Русалочке голову. Но ничего не изменилось. Памятник восстановили, а туристическое агентство обзавелось новым девизом: “Дания так прекрасна, что каждый может потерять тут голову”.
В Копенгаген все пришло из сказки, прежде всего – королевские замки. Такие дети строят из песка: башенки, шпили, завитушки. Тысячу лет назад датская империя включала в себя и Норвегию, и Англию. Потом пришел остроносый человек с “Дюймовочкой” и “Гадким утенком” и одним махом заменил великое прошлое уютным. Поневоле задумаешься: какие солдаты важнее – обыкновенные или оловянные?
Из всех его сказочных персонажей мне нравится больше всего гадкий утенок. В этой истории есть благородство будней, притворяющихся чудом. Благая весть Андерсена состоит в том, что если, скажем, Золушка попала в принцессы, потому что упорно трудилась, то гадкий утенок просто не мог не превратиться в прекрасного лебедя. Он им стал благодаря могучему волшебству, которое взрослые зовут естественным ходом вещей. Только обыкновенное чудо бывает настоящим.
3 апреля
Ко дню рождения Вашингтона Ирвинга
Ирвинг нанес Нью-Йорк на литературную карту и помог ему обзавестись своей мифологией. Сражаясь за будущее, тогда еще молодая страна страдала от дефицита прошлого. Вот им-то Ирвинг и обеспечил любимый город, написав героико-комическую хронику “История Нью-Йорка от сотворения мира до конца голландской династии”. Понимая, что Нью-Йорк во всех отношениях проигрывает своим соперникам из Старого Света, Ирвинг сделал гениальный ход – он перевернул доску. В этой комически дотошной летописи ничего не происходит. Ленивая, сытная, сонная и счастливая жизнь его обитателей бережет их от потрясений Старого Света. Он изобразил Новый Амстердам убежищем от истории. Его растительная жизнь “зиждилась на широкой голландской основе безобидной глупости”. На этом фундаменте Ирвинг и строил свой миф Нью-Йорка.
Ирвинг сумел угадать главную черту нью-йоркского характера. Этот город всегда был принципиально частным, а не столичным. У него нет державных амбиций, он чурается исторической помпезности, и слава его растет не за счет государственного величия. И в этом Нью-Йорк не так уж сильно отличается от того Нового Амстердама, что стоял, как писал Ирвинг, на самом краю лесов и болот, которые простирались в тех местах, что ныне называются Бродвей и Уолл-стрит.
Ирвинга справедливо считают первым профессиональным писателем Америки. Он создал ее прозу, сплотив экзотику с иронией, фантастику с повседневностью и красоту с трезвостью.
3 апреля
Ко дню рождения Марлона Брандо
Самый мифологизированный актер Америки, Брандо умел подчинять зрителя своей брутальной харизмой. Его Стэнли Ковальски из “Трамвая «Желание»” – неотразимый неандерталец, который всегда будет сниться зрителю.
Мастер сырых, непереводимых на рациональный язык эмоций, Брандо заполнял собой всякий кадр, являя залу чудо чистого существования. Это была магия доминирующего присутствия. Когда Коппола снимал пробы для “Крестного отца”, он оставил Брандо одного в комнате со спрятанными камерами. Оглядевшись, актер стал молча причесываться. Но в этом обычном жесте было столько интенсивности, что на пленке Марлон Брандо напоминал тигра, запертого в ненадежной клетке.
6 апреля
Ко дню рождения Александра Герцена
Герцен презирал Маркса и его “марксидов”, не знал Ленина и не дожил до победившей революции. Это его извиняет только отчасти, потому что все равно мне трудно читать про то, как он мечется по Европе, стараясь ее поджечь, где получится. Если для XIX века Герцен – Овод, то в XXI мерещится Бен Ладен.
Чаще, впрочем, Герцен напоминает Чацкого: “Случалось ли, чтоб вы смеясь? или в печали? / Ошибкою? добро о ком-нибудь сказали?” И это правильно! “Былое и думы” – прежде всего комедия, причем даже не столько нравов, сколько характеров: автор никогда не пройдет мимо смешного лица. Уже этим отец диссидентов радикально отличается от их деда – Радищева, который тоже пытался острить, но неудачно, ибо его душила “ярость человечества”. Герцен умел ненавидеть не меньше, но его злость, как рапира, она уже и тверже. Поэтому русская часть книги полна злодеев, убийственно нелепых и в принципе смешных, начиная с самого царя.
Отечественная словесность от Фонвизина и Щедрина до Шукшина и Довлатова отдыхала на чудаках и чудиках, не способных вписаться в любую категорию. Откладывая гражданское негодование, Герцен замечает каждого и не отпускает, не перечислив всех диких черт и забавных примет. “Почтенный старец этот, – пишет Герцен об одном из родственников, – постоянно был сердит или выпивши, или выпивши и сердит вместе”. И уж конечно, Герцен не обошел отраду русского автора – “дикую поэзию кутежей”. Отмечая с помощью автора Новый год шампанским, ямщик насыпал перцу в стакан, “выпил разом, болезненно вздохнул и несколько со стоном прибавил: «Славно огорчило!»”
Издеваясь над русским абсурдом, Герцен заскучал по нему, когда навсегда простился с отечеством. Нерв заграничной части книги – разочарование. Герцен ждал свободы, а нашел трусоватых обывателей. Если дома он видел резко очерченные личности, которых трудно перепутать и нельзя забыть, то за границей Герцен искал типы, в которые вмещаются целые народы. И только в итальянце он нашел родную душу. “Скорее бандит, чем солдат”, итальянец “имеет ту же наклонность к лени, как и мы; он не находит, что работа – наслаждение; он не любит ее тревогу, ее усталь и недосуг”.
9 апреля
Ко дню рождения Хью Хефнера
Рыцарь сексуальной революции и защитник женского равноправия, Хью Хефнер мог похвастаться зашкаливающим коэффициентом интеллекта в 152 пункта. Машина для возбуждения зависти, он был лучшей рекламой своего “Плейбоя”. Окружив себя неревнивым гаремом, Хефнер жил так, как обещал первым покупателям журнала: в сказке для подростков любого возраста.
Явившись на сцену в пресные 1950-е, “Плейбой” раскрепостил фантазию и победил американскую почту, впервые позволившую доставлять эти грезы подписчикам. Но гений Хефнера заключался не в том, что его журнал открыл секс (в этом не было ничего нового со времен амебы), а в том, что он сделал эрос респектабельным. Хефнер продавал секс в комплекте с интерьерами, нарядами и другими аксессуарами красивой жизни, включая хорошую прозу. В таком контексте “Плейбой” – целомудренное орудие соблазна. Лишенный спонтанности, непредсказуемости и безыскусности частного опыта, стриптиз становится театром, девушки – куклами, секс – целлулоидным. “Алиби искусства”, как называл этот эффект Ролан Барт, убивал эротизм. Вот почему “Плейбой” перестал будоражить Америку. Чего нельзя было сказать о несгибаемом, как Джеймс Бонд, Хью Хефнере. Только он и жил в придуманном им мире. Чтобы никогда не расставаться с ним, Хефнер заблаговременно купил себе на калифорнийском кладбище склеп по соседству с тем, где похоронена его первая модель – Мэрилин Монро.
9 апреля
Ко дню рождения Эрнста Неизвестного
В первую встречу он ошеломлял напором философского красноречия: два лика Хрущева, черное солнце Достоевского, “красненькие” из Политбюро, битва богов и титанов. Лавина грандиозных концепций, клубки замысловатых метафор, крики пьянящих пророчеств – все это валилось залпом без перерыва. Примерно так я представлял себе Ренессанс. Неизвестный – тоже, ибо не скрывал своих амбиций, главная из которых заключалась в том, чтобы избавить искусство от пошлого “человека в штанах”.
К счастью, сломив собеседника своей непомерной личностью, Эрнст становился доступным и обаятельным. Несмотря на то что завистники обвиняли Неизвестного в гигантомании, в юности у него был трогательный роман с цирковой лилипуткой.
Студия Неизвестного располагалась в сердце Сохо, и он радушно принимал всех, кто заходил. Воспользовавшись этим, мы однажды забрели к нему зимним вечером. Впустив нас в мастерскую, Эрнст попросил подождать, пока он выскочит за угол по неотложному делу. Выходя, Неизвестный автоматически выключил свет, и мы оказались запертыми наедине с его скульптурами в почти полной темноте. Света от уличного фонаря хватало лишь на то, чтобы каменные монстры отбрасывали кошмарные тени.
Неизвестный именовал свои работы, как пишут в песенниках, “раздумчиво”: “Ожидание”, “Терпение”, “Одиночество”. Но не знавшие этого могучие скульптуры с обломками ног и рук сгрудились вокруг нас, как персонажи “Вия”, и, находясь посреди Манхэттена, мы не могли рассчитывать на петуха, разогнавшего бы криком нечисть. Тем более, что зимой светает поздно.
Как это часто бывает, нас выручила водка. Ползком и на ощупь мы пробрались на кухню и открыли холодильник. При свете его одинокой лампочки мы нашли бутылку “Камчатки”, возле которой Эрнст и нашел нас изрядно осмелевшими.
Шли годы, но Неизвестный, крутой утес авангарда, не менялся. Он всегда мыслил и творил с размахом.
– Из студии, – однажды сказал он, не скрывая гордости, – украли скульптуру в две тонны.
11 апреля
Ко дню рождения Тель-Авива
Двоевластие столиц – обычное дело: Москва и Питер, Рим и Милан, Мадрид и Барселона, Токио и Киото, Вашингтон и Нью-Йорк, наконец. Но в Израиле отличия особенно разительны. Издалека Тель-Авив с его небоскребами (и в каждом – бомбоубежище) напоминает Манхэттен. Это город рвется к небу, но Иерусалим – уже там: небо на него давит и сплющивает своей безмерной – неземной – тяжестью.
Тель-Авив тянется вдоль моря, как мечта курортника. Словно Рио-де-Жанейро, город жизнерадостно приник к пляжу. Чтобы вникнуть в его природу, я прошел все 14 километров легкомысленного променада. По пути мне встретились сёрферы, дельтапланеристы, пловцы, смуглые футболисты, ласковые собаки и охотившийся на воробья кот, которого, как всех их тут, звали чудным словом “хатуль”. Кроме него, вроде бы никто не работал. Но, наверное, я не прав, ибо все дела теперь вершат без отрыва от досуга с помощью мобильного телефона, который тут встречается чаще кипы. Необычной эту расслабленную толпу делали лишь частые вкрапления солдат в форме. Все солдатки мне казались красавицами, все солдаты – в очках. Стереотипы мешали рассмотреть реальность, но она мне все равно нравилась. Я нигде не встречал такой симпатичной армии. Как камни в часах, солдаты служили опорой для того ненормального, но привычного хода вещей, который в этих краях уже семьдесят лет зовется жизнью.
– Ты удивляешься, – сказал мне старожил Володя, – потому что не понимаешь простых вещей. Местные – не евреи, во всяком случае в твоем понимании. Они – не гонимые интеллектуалы, про них рассказывают другие анекдоты, они не входят в тайный клуб отверженных, не знают фаршированную рыбу, не поют песен сестер Берри и не тоскуют по Европе.
– Кто же тогда населяет Израиль?
– Израильтяне, библейский народ.
– А как он выглядел?
– Как израильтяне. Воинственное племя, выходцы из которого часто сражались наемниками в древних битвах.
На этом разговор прервался – я рассматривал загорелого парня в гимнастерке. На спине, где висел автомат, она протерлась до дыр.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































