Текст книги "Люди и праздники. Святцы культуры"
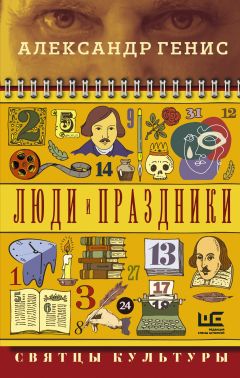
Автор книги: Александр Генис
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
13 апреля
Ко дню рождения Метрополитен-музея
Впервые я попал туда на второй день после переезда в Америку, и с тех пор не пропускал ни одной выставки. Мет – мой запасной дом, дача души, где я прячусь от политических новостей, домашних невзгод и плохой погоды.
Метрополитен, первый, самый большой и лучший музей Америки, настолько же характерен для этой страны, насколько он отличается от своих прославленных собратьев. Чисто американский феномен, как бейсбол и родео, Метрополитен – самый демократичный музей в мире. Культура здесь живет в вечном музейном согласии, без иерархии и без границ во времени и пространстве.
От моего дома полчаса езды до леса и столько же до Метрополитен. Я не устаю этому радоваться. Не путая природу с искусством, я одинаково люблю и то и другое, находя в них много общего. Мы знаем, что нас ждет в лесу и в музее, но всегда натыкаемся на непредвиденное и чудесное. И лес, и музей – альтернатива обычной жизни. Первый был до нее, второй – после. Один растворяет будни, другой перегоняет их, повышая градус, но оба дарят праздником. Поэтому мы можем бродить по галереям и тропинкам с одной и той же целью – отпустить вожжи и выбраться из обыденного, подставив себя под целительное излучение прекрасного.
Однажды за день, проведенный в Метрополитен, я посмотрел выставку исторических костюмов, картины символистов, сюрреалистические фотографии и папуасские пироги. Потом забрел в китайский садик, где первыми в Нью-Йорке распускаются цветы, и решил, что не прочь, как мумии из египетского отдела, остаться здесь навсегда.
13 апреля
Ко дню рождения Сэмюэла Беккета
Я не знаю другого автора, с которым было бы так трудно жить и от которого было бы так сложно отделаться. Войдя в твою жизнь, он в ней остается навсегда. Я уже перестал сопротивляться. Дело не только в том, что я люблю его книги, мне нравится он сам, и я без устали пытаюсь понять, как он дошел до такой жизни и как сумел ее вынести.
Лучше всего искать ответы в театре. Так ведь сделал и сам Беккет. Исчерпав прозу гениальной трилогией, он увел свою мысль на сцену. Драма помогает автору сказать то, чего он сам не знает. Раз актер вышел перед публикой, он что-то должен делать. Но если он ничего не делает, получается манифест.
Беккет – писатель отчаяния. Оголив жизнь до последнего предела, он оставил зрителя перед непреложным фактом нашего существования. Но сам он пришел к этой жестокой простоте путем долгого вычитания. Все его сочинения – эпилог традиции. Жадный до знаний, он разочаровался в том, что можно познать, а тем более – вычитать. Но человек, оставшись без интеллектуальной завесы, превращается в мизантропа. Пряча от себя разрушительные мысли, мы должны постоянно отвлекаться и развлекаться. “Например – в театре”, – добавил Беккет и открыл новую драму. В ней он поменял местами передний план с задним. Все, что происходит перед зрителями, все, о чем говорят персонажи, не имеет значения. Важна лишь заданная ситуация, в которой они оказались. Но как раз она-то ничем не отличается от нашей. В отличие от жизни в театре Беккета нет ничего такого, что бы отвлекало нас от себя.
Смотреть на этот кошмар можно недолго. Неудивительно, что пьесы Беккета с годами становились всё короче, пока он не ограничил себя одной сценической метафорой. В “Счастливых днях” – это время: земля, поглощающая свою жертву.
14 апреля
Ко дню рождения Петра Мамонова
Когда он умер, я подумал, что Мамонов лучше всех воплотил в себе всю русскую эксцентрику – и музыкальную, и театральную, и просто житейскую. Это – русский юродивый, который замечательно изображает чисто национальную стихию.
Я познакомился с Мамоновым в середине 1980-х, когда русский рок впервые привезли в Нью-Йорк и Мамонов выступал в Линкольн-центре. Там он показал балет абсурда. Дитя Франкенштейна со словарем косноязычия, Мамонов двигался уникальным образом. Его пластический язык позволял изобразить парад уродов на сцене.
Я пробрался за кулисы и подошел к обессиленному и босому Мамонову, снявшему насквозь промокшие кеды, в которых он плясал свой танец на сцене. “Что это было?” – спросил я. И Мамонов, который все еще не мог отдышаться после выступления, прохрипел: “Русская народная галлюцинация!”
17 апреля
К Пасхальному Воскресенью
Пятая авеню лучше всех сохраняет обаяние прежней роскоши. В праздники, когда власти прогоняют автомобили, она возвращается к идеалу, которому поклонялся довоенный Голливуд. Добротная ткань уверенного в себе бытия, надежная крепость старых денег, умеренное благочестие и бесспорное добродушие. Если Бродвею идут рассказы О. Генри, то Пятой авеню – исправившиеся богачи из Диккенса.
Именно такой я вижу центральную улицу Нью-Йорка каждую Пасху на ежегодном параде шляп. Начало этой живописной традиции скрывается в Средневековье, когда новую одежду полагалось надевать не раньше Пасхи. Делать это в пост считалось грехом расточительства и высокомерия. Зато выйти к празднику без обновы полагали дурной приметой. Отсюда пошел и переехавший в Новый Свет обычай: в пасхальное воскресенье дамы посещают церковь в новой шляпке.
В Великую депрессию эта деталь этикета стала мелкой роскошью. Женщины, которые не могли купить новое платье, вкладывали всё в новую шляпу. И чем хуже шли дела у мужей, тем пышней становились пасхальные шляпы их жен.
Собственно, такой и должна быть роскошь. Бесполезная и безрассудная, она – избыток при недостатке, что делает бедность гордой и приемлемой. Вспомнить только пиры наших тощих лет, после которых оставалось лишь сдать бутылки, чтобы дотянуть до зарплаты.
Зачатая в довоенные годы традиция со временем вышла из-под контроля и стала самодеятельным карнавалом. Шляпный парад – дичок. Город ничего не планирует, но никому не мешает рядиться и радоваться. В результате каждое пасхальное воскресенье Пятая расцветает клумбами шляп. И чем они больше и неудобней, тем лучше, ибо природа шляпы – нонсенс. Не панама, не ушанка, не тюбетейка, шляпа нужна лишь потому, что она не нужна. Предмет постоянных неудобств, она всегда мешает и тем не дает о себе забыть. Причиняя неудобства и замедляя путь к цели, как поцелуй, шляпа – инструмент цивилизации. Она служит воспитанию чувств, меняет походку и учит манерам.
17 апреля
К Международному дню цирка
Дядя Сема, мастер игры и виртуоз духа, был артистом оригинального жанра. Он играл в шапито на тромбоне. Главным в его номере была выдержка. Как только он принимался играть, на арене появлялся рыжий клоун. Он завидовал дяде, как Сальери Моцарту, и вел себя не лучше – пихался и толкался, пока от тромбона не отваливался кусок. Дядя Сема выводил свою песню на том, что осталось, только октавой выше. Свирепея от обиды, клоун вновь бросался на инструмент, но музыка продолжала жить даже тогда, когда дяде приходилось извлекать ее из огрызка не больше милицейского свистка.
Посрамленный клоун убирался за кулисы, а вместо него на манеж выбегала тетя Вера с тремя болонками – по числу граций. Делая вид, что не узнаёт мужа, тетя Вера пугалась дородного мужчины, свистящего Соловьем-разбойником, но собакам он нравился, и они крутились на задних лапах, пока всю компанию не уводил шпрехшталмейстер.
Цирк я с тех пор не люблю, но с циркачами дружил, особенно с воздушными гимнастами. По Шкловскому, цирк – публичное преодоление трудностей. Никто не станет смотреть на силача, жонглирующего картонными гирями. Артисту должно быть трудно, а нам страшно.
Перемножив обе части уравнения, мои приятели додумались кувыркаться над ареной с тиграми. Расчет был на простодушную публику, но другая в цирк и не ходит. Трапеция висела под куполом, и присутствие хищников ничего не меняло в раскладе: упавшим было все равно, а остальным животные приносили немалую выгоду на заграничных гастролях. Из украденных у тигров костей циркачи варили суп. От голода звери делались покладистыми, но вид их все же внушал такой страх таможенникам, что на обратном пути мои друзья прятали в клетке “Плейбой” и “Раковый корпус”. Солженицын, как джинн из “Тысячи и одной ночи”, возвращался на родину в сопровождении тигров и гурий.
17 апреля
Ко дню рождения Торнтона Уайлдера
Уайлдер вошел в американскую литературу без скандала. Хотя он и принадлежал к знаменитому “потерянному поколению”, сам он потерянным не был. Уайлдер не участвовал в социальных сражениях своего времени, стоял в стороне от идеологических распрей и писал о горячо любимой им истории, недюжинным знатоком которой был. Его девизом были слова: “Прошлое имеет больше величия, чем настоящее”.
За это ему доставалось от современников, особенно – левых. Писатель-марксист Майкл Голд говорил о его книгах так: “Это не настоящий мир, а музей, где движутся облаченные в романтические костюмы призраки. Где тут страсти и муки шахтеров?!”
Все это, конечно, чепуха. Уайлдер, как все большие писатели, сочинял книги на вечные темы, где и когда бы ни разворачивалось действие его романов. Поздно открыв для себя Уайлдера, я начал знакомство с исторического романа “Мартовские иды”. Вернее, это я думал, что роман – исторический. Хотя он и рассказывает о хорошо всем известных событиях – убийстве Цезаря, к историческому жанру эта книга имеет такое же отношение, как пьеса “Калигула” Камю или фильм “Сатирикон” Феллини. Фантастическое здесь в том, что мы погружаемся в духовный мир знаменитых и не очень людей, живших две тысячи лет назад. Они не стали нашими современниками, скорее мы – их. Не аллегория, не костюмная драма, не ученый трактат, а живая мысль, вселённая в персонажей и растворенная в словах и делах героев, в первую очередь – главного.
Диктатор Юлий Цезарь хочет стать королем-философом, но терпит поражение и в первой, и во второй роли. Царем ему не дал стать Брут, философом – неразгаданная тайна бытия.
– Жизнь – не прекрасная и не ужасная, – утверждает он, – не поддается оценке и лишена смысла, вселенная и не ведает о том, что в ней живут люди.
С таким набором сомнений трудно претендовать на сокрушительную роль личности в истории. И в этом – трагедия Цезаря, каким его с удивительным мастерством не воссоздал, а придумал автор.
17 апреля
Ко Дню поэзии хайку
Хайку удивляют своей неразборчивостью. Эти стихи не “растут из сора”, а остаются с ним. Им все равно, о чем говорить, потому что японскому поэту важна не картина, а взгляд. Хайку не рассказывают о том, что видит поэт, а заставляют нас увидеть то, что видно без него. Мы видим мир не таким, каким он нам представляется, и не таким, каким он мог бы быть, и не таким, каким он должен был бы быть. Мы видим мир таким, каким бы он был без нас.
Хайку не фотографируют момент, а высекают его на камне. Они прекращают ход времени, как остановленные, а не сломанные часы.
Хайку не лаконичны, а самодостаточны. Недоговоренность была бы излишеством. Это – конечный итог вычитания. Они напоминают пирамиды, монументальность которых не зависит от размера.
Сюжет в хайку разворачивается за пределами текста. Мы видим его результат: неоспоримое присутствие вещей, бескомпромиссная реальность их существования. Вещами хайку интересуются не потому, что они что-то символизируют, а потому, что они есть.
Слова в хайку должны ошеломлять точностью – как будто сунул руку в кипяток.
20 апреля
Ко Дню китайского языка
Китайская легенда приписывает изобретение иероглифов ученому министру Желтого императора. Мудрец придумал их, глядя на следы зверей и отпечатки птичьих лапок. Они подсказали ему очертания первых знаков.
Предание подчеркивает естественное происхождение китайской письменности, которое фиксирует не человеческую речь, а знаки, оставленные природой. Буква – условное обозначение, продукт нашей изобретательности. Но иероглиф – не знак, а след вещи в сознании. Он несет в себе память о том, что его оставило. Условность его не безгранична, ведь след не может быть произвольным, его нельзя изобрести. Иероглиф – отпечаток природы в нашей культуре, а значит, нечто, принадлежащее им обеим. Иероглиф – место встречи говорящего с немым, одушевленного с неодушевленным, сознательного с бессознательным. Не столько рисунок, столько снимок. Он сохраняет связь с породившей его вещью. Соединяя нас с бессловесным окружающим, он дает высказаться тому, что лишено голоса. Именно поэтому иероглиф всегда был самым интригующим элементом ориентального мифа на Западе. Ренессансные ученые верили, что в Китае сохранился язык, на котором говорили до вавилонского столпотворения.
Секрет иероглифов в том, что облаченное в прозрачную графическую форму слово хранит наглядную память о своем происхождении. Каждый иероглиф – это застывшая в веках метафора и незарастающая дыра в прошлое, живой колодец времени. В отличие от фонетического письма иероглифика не дает забыть языку о своем происхождении. Например, обозначающий человека знак “рен” – стилизованное изображение фигуры с расставленными ногами и гордой осанкой, которая подразумевает, что так можно стоять только на своей земле.
21 апреля
Ко дню рождения Михаила Эпштейна
Защитник словаря, Михаил превратил лексикографию в патриотическую дисциплину. Найдя параллель между населением России и числом русских слов, он предложил улучшить демографию, создавая новые лексемы. Много лет Эпштейн рассылал всем своим многочисленным поклонникам бюллетени “Дар слова”, присовокупляя их к тому богатству, что нам досталось от Даля.
Эпштейн любит слова почти чувственной любовью и сочиняет так, что фонетика у него работает на семантику. Он слушает все, что пишет, выискивая тайные, сокрытые привычкой смыслы, и сопрягает их в философемы, которые напоминают ученое рассуждение и шаманское заклинание.
Я долго не знал, как называется такая профессия, пока не наткнулся на определение, придуманное Ханной Арендт для своего товарища Вальтера Беньямина: “мастер поэтической мысли”. Эпштейну оно тоже подходит.
С Эпштейном интересно работать, читать и слушать его на конференциях. Но больше всего я люблю с Михаилом гулять. Так мне удается чуть ли не исподтишка взглянуть на его кузницу мысли. Работая без перерыва, она постоянно выковывает концепции. Без них мир для Эпштейна нем, гол и бесприютен, ибо неосмысленная реальность непригодна к употреблению. Я помню все его попутные реплики, каждая из которых могла бы стать зерном ветвистого трактата. Но и оставшись собой, эти беглые мысли годами работают – в том числе для меня.
Однажды, как это бывает со всеми приезжающими в Нью-Йорк соотечественниками, Эпштейн отправился на Брайтон-Бич, попросив меня сопровождать его в качестве старожила. По дороге туда он заметил, что только выходцы из России переходят на другую сторону улицы, заслышав родную речь.
– Мы себя знаем, – вздохнул Михаил.
На обратном пути Эпштейн сказал:
– СССР умер, а на его месте процветают или прозябают новые страны со своей судьбой. Только на Брайтоне СССР по-прежнему существует и ведет свою некротическую, но буйную жизнь.
22 апреля
Ко дню рождения Владимира Ленина
Впервые я с ним познакомился, когда пошел в школу. Хотя в Риге Ленин лишь однажды переночевал, памятник ему все равно поставили, и каждое 1 сентября школьники приносили к нему цветы. К вечеру их искусно выкладывали в беспартийную икебану, которой, не поднимая глаз выше постамента, приходили любоваться горожане. В Риге даже алкоголики любили цветы и воровали их с кладбищ.
Намного более внушительного Ленина я увидел в Москве 1967 года, когда страна с истерическим энтузиазмом встречала пятидесятую годовщину революции. После салюта в ночном небе появился дирижабль, тащивший за собой кумачовое полотно с портретом Ленина. Ветер играл с тканью, заставляя Ленина кривляться и корчиться. Голова вождя парила над умолкнувшей от ужаса Красной площадью. А Ленин хмурился под порывами ветра, будто знал, что его не ждет ничего хорошего.
В этом я убедился, впервые оказавшись с Лениным наедине в тревожное время сразу после расстрела Белого дома холодной осенью 1993-го. Кроме меня, в тот хмурый день не нашлось желающих навестить Ильича. Беспрепятственно добравшись до неохраняемого входа, я впервые в жизни спустился в партийный склеп, напоминавший языческое капище. В сакральной тьме поблескивали рубиновые искры финского гранита.
До этого мне уже приходилось навещать Мао Цзэдуна, но тот “маозолей” (как назвал его Бахчанян) не шел ни в какое сравнение с нашим. В Пекине из бетонной беседки открывался вид на заведение американского общепита Kentucky Fried Chicken.
В Москве меня ничто и никто не отвлекал от Ленина. Лежа в хрустальном гробу, он больше походил на Вия, чем на свои памятники. Волосы казались шерстью, ногти – обгрызенными, глаза – зажмуренными. От тела тянуло кладбищенской прохладой, и я, пугливо оглядевшись, натянул свою кепку и тут же об этом пожалел.
– Сними фуражку, – раздался с потолка голос, обратившийся ко мне на “ты”, хотя раньше мы с ним не встречались.
С облегчением поднявшись назад к живым, я простился с Лениным, решив больше к нему не возвращаться.
22 апреля
Ко дню рождения Владимира Набокова
Первая и самая внятная глава последней, оставшейся незавершенной книги Набокова “Лаура” описывает любовный эпизод, ненадолго соединивший героиню книги Флору-Лауру с ее любовником в чужом доме на одолженной постели. Эту, казалось бы, скабрезную сцену Набоков насыщает теургической энергией. Входя в силовое поле акта, материальный мир наделяется жизненной – животной – силой. Автор постепенно, незаметно и сладострастно одушевляет вещи, дотрагивающиеся до женщины. Ее ридикюль становится “слепым черным щенком”, в бауле лежат “сафьяновые ночные туфли, свернувшись, как в утробе”, “все полотенца в ванной были из толстой, сыроватого вида рыхлой материи”, у часов на запястье открывается “ониксовое око”. Страсти оплодотворяют натюрморт, делая мертвую природу живой, а живую – мертвой. В центральный момент герой (и автор) овеществляет объект своего желания, создавая и тут же разнимая возлюбленную на части, как анатомическую куклу: “Ее худенькое послушное тело, ежели его перевернуть рукой, обнаруживало новые диковины – подвижные лопатки купаемого в ванне ребенка, балериний изгиб спины, узкие ягодицы двусмысленной неотразимой прелести”. А чтобы у читателя не осталось сомнений при виде знакомого набоковского фетиша, в ход идет арифметика: “Груди этой двадцатичетырехлетней нетерпеливой красавицы… казались лет на десять моложе ее самой” – 24–10 = 14.
Построив книгу вокруг новой нимфетки, Набоков с неожиданной ясностью отвечает на проклятый вопрос. Что бы ни говорили интерпретаторы о символическом характере его эротики, для Набокова она – не средство, а цель. В литературе, объясняет он, не находится “выражение тому, что так редко удается передать современным описаниям соития, потому что они новорожденны и оттого обобщены, являясь как бы первичным организмом искусства”.
У секса – не любви! – нет языка, ибо он лишен культурного контекста. Нам нечем описать то, что происходит за порогом (спальни), потому что в ней открывается целостный, нерасчленимый, невоспроизводимый в слове опыт. Пытаясь вновь изобразить его, Набоков писал эту книгу до последнего дня.
23 апреля
Ко Дню английского языка
Перебираясь в Америку, английскому я давал две недели от силы, делая скидку на варварский американский диалект – три. В конце концов, я уже и так знал английский, изучая его по настоянию отца. Сам он выписывал и с отвращением читал газету британских коммунистов, которая сначала называлась “Ежедневный рабочий”, а потом обабилась до “Утренней звезды”.
Тем страшнее был удар, обрушившийся на меня в Америке, когда я впервые услышал по радио прогноз погоды. Ураганная речь диктора не показалась мне ни членораздельной, ни английской, ни человеческой. До меня дошла жуткая правда: как Паганель, перепутавший португальский с испанским, я выучил другой язык. С той, конечно, разницей, что мой английский существовал лишь в школьной реальности, где знали, как перевести “пионерский лагерь” и “передовой колхоз”.
В эмиграции я обнаружил, что лучше всего английский дается детям, таксистам и идиотам. Вторым язык был нужен для работы, первые и последние не догадывались о его существовании. Стремясь к общению и добиваясь его, они тараторили все что попало до тех пор, пока их не понимали. Но я, начиная фразу, уподоблялся сороконожке, задумывавшейся о том, с какой ноги начать свой марш и какой его закончить. Неудивительно, что вместо английского у меня изо рта вырывались “шум и ярость”.
Завидуя тем самым идиотам, которые начали с нуля и обошли меня на три круга, я понимал, что должен брать с них пример и пользоваться только готовым. Язык составляют не слова, а фразы, склеенные до нас и вместо нас ситуацией и телевизором. Общение на все случаи жизни напоминает обои с уже нарисованными ягодами, цветочками, а иногда (сам видел) библиотекой. Но я-то мечтал перейти на чужой язык целиком, а не в той обрезанной форме, что исчерпывается разговорником. Я стремился донести себя до собеседника, не расплескав, и вламывался в английский, избегая очевидного, натужно переводя шутки и комкая язык.
– Раз не Уайльд, – надеялся я, – буду Платоновым.
– Скорее уж Тарзаном, – говорили добрые друзья, включая детей, идиотов и таксистов.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































