Текст книги "Невольники чести"
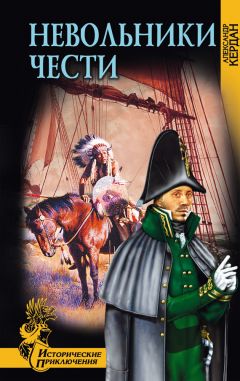
Автор книги: Александр Кердан
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Александр Кердан
Невольники чести
© Кердан А., наследники, 2002
© ООО «Издательство «Вече», 2014
* * *
Яне
Пролог
Рукопись
Камин к утру вовсе остыл. В кабинете воцарились холод, полумрак.
Александр Сергеевич, поеживаясь, подошел к окну.
Красногрудым снегирем, невесть откуда залетевшим в столицу, бился в окна дома на Мойке январский рассвет, такой неистовый и безнадежный, что больно смотреть.
Вот и святки прошли, пролетели, не принеся с собой былой радости, молодого ожидания чуда… Пушкин крепко потер ладонь о ладонь, повернулся к окну спиной, окинул взором кабинет.
Книги. Письменный стол – груда рукописей.
Задержал взгляд на оплывшем огарке свечи в потемневшем шандале…
Верный Никита не решился заменить иссякшую свечу.
Барин с вечеринки у австрийского посланника воротился за полночь. Прошел прихожую, неся за собой клубы студеного пара, и – не раздеваясь – прямо в кабинет. Пущать к себе никого не велел. Да и кто в этакое время зайдет-от?..
Сам Никита сунулся было с полученными намедни письмами, но, приметив, что хозяин, скинув медвежью шубу на кушетку, стремительно вышагивает от стола к окну и по детской своей привычке покусывает ногти на руке – верный признак дурного настроения, – положил бумаги на бюро и прикрыл дверь. Авось успокоится батюшка, отойдет ко сну.
А Пушкин не прилег в эту ночь.
У Фикельмонов был весел, шутил с Вяземским. С Барантом спорил о записках Талейрана. Отпустил комплимент очаровательной Долли.
Прекрасная хозяйка, добрые друзья, любопытный разговор – словом, вечер удался. Вечер, по мнению Тургенева, хоть бы в Париже!
Почему же все не проходит тяжесть в груди и, словно бесы, мечутся в голове горькие думы? Может, виноват рассвет-снегирь, роняющий окровавленные перья на вытоптанный снег под окном? Или это не рассвет, а сам он чужеродной птицей бьется в разноцветных силках условностей, долгов, семейных неурядиц? Бьется, задыхаясь, не в силах разорвать путы. Снова, как тогда, в двадцать шестом, появилось желание бежать в глухомань.
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег…
Туда, где ни дворцовых милостей, ни просвещенных уваровых, ни внимательных бенкендорфов, ни тупой критики, ни многолюдства! На свете счастья нет, а есть покой и воля. Да, уединение, чистый лист и перо – все, что нужно ему, теперь особенно, когда так захватила история Петра, когда наконец получено высочайшее соизволение о допуске в архивы…
Но где эта тишина? Куда бежать? Если даже отеческое Михайловское может пойти с молотка. Если вокруг каменные громады, такие же стылые, как улыбки людей, населяющих их…
Пушкин подошел к бюро. Из зеркала глянуло на него бледное, незнакомое лицо с заострившимися чертами. Сжатые губы, угрожающий взгляд.
«Нет, просто я зол на Петербург и радуюсь каждой его гадости! К черту хандру! Надо работать. Труд – первооснова всего, исцелит язвы души, успокоит сердце», – он протянул руку к письмам, оставленным Никитой, и широко шагнул к столу.
Народившийся день растолкал сумерки по углам кабинета – можно обойтись без свечи.
Первые два пакета Пушкин осмотрел быстро, не вскрывая. Один – от зятя и старого товарища Павлищева из Варшавы (наверное, опять по разделу наследства), другой – от книгопродавца и кредитора Беллизара. Заниматься денежными дрязгами не хотелось.
Взяв в руки третий пакет, Александр Сергеевич невольно насторожился – почерк незнакомый. В памяти еще так свежи раны, нанесенные подметными письмами, что захотелось этот серый пакет бросить в камин.
Но – внутри себя носим мы свой ад. Игра с опасностью – суть поэта. И в эти мгновенья борьбы трезвого расчета и поэзии поэт, как всегда, одержал верх.
«Милостивый Государь Александр Сергеевич, – зачем-то вслух прочитал первые строки, написанные старательным почерком, и вздохнул с облегчением: мерзости с таких обращений не начинаются. Но от кого это послание, что в нем? – Один из здешних литераторов, будучи у меня на квартире, прочитал писанное мною для себя введение в историческое обозрение Российских владений в Америке, и я не знаю почему, одобрив его, советовал напечатать в Вашем журнале, принимая на себя труд передать мою рукопись, – писал неизвестный корреспондент. – Не привыкши к посредничеству, я решил представить Вам, Милостивый Государь, эту записку, и если Вы удостоитесь ее прочесть и найдете достойною поместить в Вашем журнале, тогда предоставляю ее в Ваше полное распоряжение с покорнейшею просьбою поправить неисправимый слог человека, не готовившегося стать писателем и почти полудикаря…» – искренность писавшего подкупала.
Пушкин торопливо прочел последние фразы: «Извините меня, Милостивый Государь, что осмелился беспокоить Вас вызовом моим с предоставлением ничтожного марания.
Мое дело было и есть удивляться Вашим образцовым произведениям, с которыми ознакомился, проживая в Новом Свете, и которые обязали меня быть к Вам всегда с полным уважением и преданностью, Милостивый Государь, покорнейшим слугой.
Января 7 дня 1837 года. Кирилл Хлебников».
Фамилия ничего не говорила. Но странно, незамысловатые строки письма разбудили память, взволновали воображение, увлекли за собой в очарованную даль, к берегу отдаленному.
Америка! Сколько с этим названием связано в его жизни!
…Лицей. Сердечный друг Федя Матюшкин, с которым вместе не раз бродили по тенистым царскосельским аллеям. Однажды забрались в неказистый шлюпочный сарай на берегу озера. Знали по рассказам товарищей, что здесь хранятся не только старые лодки, на которых катаются с кавалерами фрейлины императорского двора, но и искусно выполненная модель военного корабля «Лейпциг», пирога островитян, привезенная из кругосветного вояжа Крузенштерном.
В сарае пахло смолой, прелым деревом и морем. В щели совал нос юркий сквознячок, а мальчикам казалось, что игрушечные паруса «Лейпцига» вот-вот наполнятся настоящим ветром и он, пробив деревянную перегородку, соскользнет на воду. Понесет их навстречу неведомым странам и приключениям.
Здесь-то Федор и открыл другу свою мечту стать моряком.
– А осилишь? – спросил тогда Пушкин.
– Осилю!
– И вокруг света проплывешь?
– Проплыву!
Если мечтать по-настоящему – мечты сбываются!.. По ходатайству директора лицея Энгельгарта знаменитый море-плаватель Василий Михайлович Головнин включил Матюшкина в состав экипажа своего шлюпа «Камчатка», уходящего в дальнее путешествие.
Сейчас Федор – на Черном море. Командует фрегатом.
Господи, как летят годы… Пушкин откинулся в кресле, прикрыл глаза рукою так, словно хотел заглянуть за горизонт, туда, где будущее норовит слиться с прошлым.
Ах, молодость, младость! Какими надеждами наполняла ты паруса души, какие высокие стремленья пробуждала. Вспомнить только, о чем говорили, спорили на заседаниях Вольного общества любителей российской словесности, организованного великодушным Федором Глинкой. Собирались и в библиотеке гвардейского штаба, и в гостиной у одного из директоров Российско-Американской компании – Прокофьева, в доме у Синего моста. Какой свод блистательных имен был здесь: Грибоедов, Рылеев, Дельвиг, братья Бестужевы, Кюхельбекер… Где они теперь?
Иных уж нет, а те – далече. Тень вновь набежала на лицо. Судьба представилась вдруг огромной обезьяной, которой дана полная воля, а она не ведает, что творит. Дергает людей за веревочки, будто кукол в шутовском балагане. Кто посадит это чудище на цепь? Нужно ли это? Люди живут, лишь делая, что предназначено им.
Так, Грибоедов. Когда расставались в Петербурге перед отъездом в Персию, он был печален и имел странные предчувствия. Свидимся ли?
Свиделись… Была еще одна встреча, последняя, на дороге в Арзрум.
Обезображенный труп Грибоедова, бывший три дня игралищем тегеранской черни, можно было узнать только по руке, некогда простреленной пистолетной пулей.
Говорят, смерть русского посла, постигшая его посреди смелого, неравного боя, не имела ничего ужасного, томительного. Она была мгновенна и прекрасна. Как жизнь поэта…
Может, оттого Пушкину все не верится, что нет больше в живых этого человека, добродушие, озлобленный ум, самые слабости и пороки которого как неизбежные спутники человечества были необыкновенно привлекательны! Или же оттого кажется немыслимой смерть Грибоедова, что осталась его комедия «Горе от ума»? Осталась и будет жить, как живет все истинно талантливое, побеждая хулу, непонимание и само время.
Пушкин вдруг неожиданно широко улыбнулся, повинуясь свойственной ему смене настроений. И впрямь: трагическое и смешное – рядом! Пришла на ум характеристика, данная Грибоедовым общему их знакомцу – графу Толстому, прозванному Американцем:
Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,
И крепко на руку не чист:
Да умный человек не может быть не плутом.
Когда ж о честности великой говорит,
Каким-то демоном внушаем,
Глаза в крови, лицо горит…
Что-что, а держать речь Федор Иванович – мастак! Говорит крупно, отчетливо, зернисто. Даже когда трунит или морочит дурака. Это свойство и привлекло когда-то к нему Пушкина.
Их познакомил много лет назад князь Вяземский. До отъезда поэта в Кишинев они с Американцем оставались добрыми приятелями. Потом эта глупая сплетня Толстого в письме Шаховскому. Ссора на расстоянии. Эпиграммы. А по возвращении в Москву желание очиститься окончательно – стреляться!
Слава Богу, дело уладилось. Соболевский, Чаадаев помирили их. Не потому, конечно, что Пушкин испугался. Он верил в свой рок, в Провидение.
Еще в годы службы в ведомстве графа Нессельроде баронесса Киргоф на знаменитой колоде «Тарот» нагадала юному Пушкину, что ему уготована очень долгая жизнь, если в тридцать семь лет он не будет убит на дуэли белым человеком, приехавшим на белой лошади… В канун ссоры с Толстым Александру Сергеевичу не было и тридцати. К тому же граф отнюдь не белокур, а черен, кучеряв, как цыган, и, самое занятное, – терпеть не может белых лошадей! Значит, не в его руку вложит Судьба смертоносный ствол… Хотя Толстой – прекрасный стрелок и далеко не робкого десятка. Подозревать его в трусости – нелепость! Весь свет знает черный список противников, уложенных Американцем наповал на многочисленных дуэлях.
Нет, не страх примирил их тогда.
Летом двадцать шестого – слишком велики были потери в кругу общих друзей и знакомых: казни, ссылки, каторга.
Глупо пополнять этот список бессмысленной жертвой!
Отношения восстановились быстро. После примирения Пушкин любил послушать побывальщины графа. А тот, словно искупая нанесенные поэту обиды, тешил его своими необыкновенными историями, софизмами и парадоксами, излучая какой-то магнетизм.
Александр Сергеевич и сейчас помнит, как, поигрывая двусторонним индейским кинжалом, Американец рассказывал ему о хвойных дебрях Аляски, о сверкающей вечным голубым льдом вершине вулкана Эчком, горячо уверяя, что лично взбирался на сию неприступную высоту. Тут же клялся образом святого Спиридона – покровителя рода Толстых, что во время странствий по Америке индейцы избрали его своим царем и никак не хотели отпускать от себя.
Пушкин, безусловно, был осведомлен о той неблаговидной роли, которую сыграл граф Федор Иванович в первой кругосветной экспедиции россиян, доходили до него слухи, что Американец-де вообще в Америке не был…
И все-таки Толстому хотелось верить. В буйных выходках графа, в полуправдоподобных его рассказах слышалась Пушкину какая-то родственная нота: удивившему развратом четыре части света человеку мерзко в удушливой пустоте и немоте русской жизни, он протестует, рвется на волю, по-своему откровенно и страстно.
Вероятно, и это обстоятельство тоже послужило их окончательному примирению, сделало его таким прочным, что именно графу поручил Александр Сергеевич самое сокровенное – сватать за него Наталью Гончарову.
Сватовство было не совсем удачно, но не по вине Толстого. И хотя напрямую Пушкину отказано не было, тоска сжала тогда его сердце своей когтистой лапой, заставила бежать из Москвы на Кавказ, под пули горцев. Но и опасности долгого пути не остудили мечты о неповторимой Натали.
Если мечтаешь страстно – желание исполнится!
Мадонна, чистейшей прелести чистейший образец, милая смиренница – она стала его женой, матерью его детей, подарила ему свою юность… А душу? Круг мыслей замкнулся, вернул Пушкина в кабинет в доме Волконской, к тем проблемам, от которых он попытался было удрать нынешним утром, вскрыв незнакомый пакет.
«Черт догадал меня бредить о счастии, как будто я для него создан!» – горько усмехнулся он.
Да и что такое счастье? Высшая гармония духа, озарение, ожидание милости Божьей или само течение жизни человеческой, со всем, что ее наполняет, от рождения до тризны?
День каждый, каждую годину
Привык я думой провожать,
Грядущей смерти годовщину
Меж них стараясь угадать.
И где мне смерть пошлет судьбина?..
Ему уже тридцать семь. Роковой, если верить гаданию, год. Белый человек где-то близко. Надо спешить, успеть – впереди еще столько замыслов, столько работы! И видно, сама фортуна посылает ему в руки рукопись путешественника, видевшего Новый Свет, переплывшего океан, который мечтал исследовать Петр Великий.
А может быть, от рукописи об Америке протянется какая-нибудь связующая нить на Камчатку, о которой сам недавно задумал написать статью, делая выписки из книги Крашенинникова?
Так уже не раз бывало. Стоит только начать углубляться в какую-то тему, как случай-Бог тут же подбрасывает ему самые необходимые материалы, факты, характеры.
Прав, кто сказал: история принадлежит поэту!
Пушкин извлек рукопись Хлебникова из пакета и положил ее перед собой.
Часть первая
На краю океана
Глава первая
1
Бобр неожиданно высунул из воды неподалеку от противоположного берега свою усатую морду. Степенно, важно, по-барски выбрался на сушу и застыл настороженно.
Абросим Плотников, проверявший устроенные поселенцами запруды, остановился поглазеть на редкого даже в этих девственных краях зверя. Присел на корточки: и впрямь – вылитый старый граф Иван Андреевич. Сытый, холеный… В какие дебри памяти увели бы Абросима воспоминания, неизвестно, но тут его внимание отвлекло другое: у ног работного быстрое течение пронесло белое орлиное перо.
Откуда оно здесь? Перо скрылось из виду, увлекаемое потоком. Досадуя на себя, Абросим вдругорядь посмотрел в сторону бобра. Но зверь исчез.
Повинуясь неясному чувству, Плотников отпрянул в заросли ивняка.
Мгновение спустя из-за речного изгиба на стремнину выскользнули три колошенских бата – лодки-однодеревки, в каждой по двадцать – двадцать пять тлинкитов с короткими широколопастными веслами.
Во встрече с индейцами ничего необычного не было. Сразу за речкой начинаются охотничьи угодья рода Ворона, и колоши вполне могли здесь выслеживать лося – они именно так и охотятся на лесных великанов, с воды, чтобы легче было доставлять туши к своим становьям.
Но что это? Обнаженные по пояс тела и невозмутимые лица покрыты узорами киновари – боевой раскраски. Смоляные волосы гребцов украшены перьями, точь-в-точь такими, как проплывшее у ног Абросима. У большинства индейцев за спиной – резные деревянные маски. Все вооружены.
Нет, это не охотники, догадался Плотников. Перед ним – воины, вступившие на тропу войны. У русских с тлинкитами – мир… Но против кого тогда нацелены стрелы и ружья колошей?
Что бы там ни было, решил Абросим, теперь не до запруд. Надо побыстрее рассказать об увиденном начальнику заселения.
Стараясь не задеть за ивовые ветки, промышленный выбрался из зарослей и через чащу бросился к крепости.
2
Черная птица кружит над Ситхой медленно и величаво. Завидя ее, белоголовый орел, ястреб-стервятник, казарка – обитатели этих мест – улетают прочь. Ворон – праотец и покровитель племени тлинкитов – безраздельно царствует здесь.
Никто не знает, сколько ему лет. На его клюве, остром как наконечник копья, зазубрины эпох. В потускневшем блеске иссиня-черного оперения отражается время. Но еще крепки и упруги крылья, зорок и пытлив глаз.
Давно, когда мрак и безмолвие пеленали мир, взмахом крыла Ворон создал твердь и море вокруг нее, рассеял по небу бисер звезд, зажег Луну и Солнце, одел скалистые берега в сине-зеленую парку лесов, прошил ее серебристыми нитями ручьев и рек.
Все сущее – от Ворона. По его воле зимы сменяются веснами. Рождаются, живут и уходят в леса предков сыны и дочери тлинкитов. Их место занимают другие – молодые и сильные.
Жизнь – мудра. Мудр священный Ворон.
По его воле и теперь изобилуют чащи архипелага лосями и медведями, бобрами и лисицами, а море не скудеет сельдью и чавычей.
Если ранней весной поклониться Покровителю, он поможет достичь желаемого. Олень подставит стреле охотника свой бок, рыба позволит остроге пронзить ее…
Бери от природы то, что нужно тебе и твоему роду для жизни. Природа щедра. Так заведено испокон веков. Так учит великий Ворон. Храня его законы, не смыкают глазницы деревянные идолы – тотемы на стенах индейских барабор. Они должны спасти и защитить жило от бед. Дети Ворона верят в могущество своего божества.
А сам Ворон? Все так же величав полет, неутомимы крылья. Трудно распознать тревогу в размеренном их движении. Ворон умеет хранить в себе свои заботы.
Все чаще мелькают в береговых туманах громадные, как ледяные глыбы, чужеземные пироги. Они привозят белых бородатых людей, палки в руках которых умеют извергать молнии. Но страшнее смертоносных палок – огненная вода, забирающая у тлинкитов память, заражающая их лихорадкой желания. Тысячами бобровых и сивучьих шкур выстилают индейцы ей путь в своих душах.
Что будет с детьми Ворона, забывшими заветы рода? Что ждет пришельцев, возомнивших себя способными изменить мир?
Черная птица молчаливо кружит над Ситхой.
…Основатель российских колоний в Америке, удачливый рыльский купец Григорий Шелехов, поручая управление делами Александру Андреевичу Баранову, наметил ему в своих инструкциях две главные цели: распространить владения компании по северо-западному берегу Нового Альбиона от Нучека до Нутки и усилить промысел там дорогих бобровых шкур.
Бывший приказчик по питейным сборам Баранов, будучи от природы человеком отважным и предприимчивым, решил добиться большего. В июле 1799 года он привел к Ситхе три парусных корабля и более пятисот алеутских байдарок, полагая во что бы то ни стало устроить здесь русское заселение. Множество попавшихся ему на пути сивучей, бобров и морских котов сулило невиданные доселе прибытки. Изрезанные заливами, изобилующие бухтами берега Ситхи, высокий строевой лес, покрывающий остров, делали удобным строительство здесь крепости, судовой верфи, которые, в свою очередь, открывали возможность присоединения к российским колониям новых земель к югу и юго-востоку от архипелага.
Несколько дней шел на побережье торг со старшинами индейцев. Ром, подарки и щедрые посулы русского правителя сделали свое дело: тойоны племени ситха – Скаутлельт, Скайтаагетч, Коухкан – уступили россиянам место для заселения. В бараборе главного тойона – вождя рода Ворона Скаутлельта – скрепили договор приложением рук и клятвой вечно жить в мире и дружбе.
Отправляясь на Кадьяк, в Павловскую крепость – столицу Русской Америки, Баранов оставил Архангельское заселение под начало Василия Медведникова – испытанного временем шелеховского передовщика.
С трудом одолевший несколько букв азбуки, грубый, порой жестокий Медведников был смел и надежен, служил компании, не щадя живота своего.
Ночь перед отплытием «Ольги» просидели они с правителем в черной бане, бывшей в ту пору квартирою начальника заселения.
Тускло светила коптилка, наполненная тюленьим жиром. Метались по низкому потолку угловатые тени. Веско звучал голос Баранова, дававшего последние наставления. Невысокий, лысеющий правитель рядом с плечистым Медведниковым казался еще тщедушнее. Но передовщик, сто раз глядевший в очи смерти, почему-то всегда робел перед ним и взирал на Баранова снизу вверх.
– Повода колошам к огорчению не подавай, даром ничего не бери, – наказывал правитель. – Старшин и тойонов, а такоже отличных из воинов угощай и одаривай. Почаще зазывай в гости, на игрища, однако ж блюди всевозможную осторожность. Коли достроишь казарму, кадьякцев с промышленными вместе не сели. Особливо присмотрись к чужеземцам, коих принял я на службу от американского корабля, – не лежит чего-то к ним душа! Памятуй, что ныне остаешься ты вершителем судеб людских и всего затеянного предприятия…
Почему все это вспомнилось Василию Медведникову нынче, в день воскресный, один Господь знает. Может, оттого всплыл в памяти давний разговор, что собрался начальник крепости попариться как раз в той баньке, которая служит теперь своему предназначению и с утра жарко натоплена по его, Медведникова, приказу.
Поглядев, как суетятся две крещеные колошенские девки, таская в бадьях воду, Василий улыбнулся, предвкусил удовольствие смыть недельную грязь, омолодить душу и тело паром. И тут же согнал улыбку: начальнику зубы скалить непозволительно. Потеребил мощной, как медвежья лапа, пятерней бороду, задумался.
Нелегко властвовать над людьми. Ожесточается сердце. На что сам главный правитель с виду благообразен и смирен, а норовом крут. Медведников видел, как повелел Баранов высечь караульного Еремина, заснувшего на посту, а провинится еще – обещался повесить. И повесил бы, вот те крест! Суров Лександра Андреевич, суров, но справедлив. И умен зело. На три аршина в землю видит.
Ан тут оказался не прав – снова припомнился последний разговор с правителем, – напраслину на принятых в компанию американцев возвел. Те служат дай бог нашим. Человеки толковые, обходительные. И про колошей зазря страхи посеял. Больше года живем бок о бок без распрей… Хотя и случались минувшей зимой драки у алеутов с тлинкитами во время игрищ, устраиваемых в заселении по заведенной Барановым традиции. Но до смертоубийства дело не доходило. Индейцы на пляски приходили без оружия. Один только Котлеан – племянник главного тойона – все норовил пронести под белым лосиным плащом двусторонний кинжал. Но сам Скаутлельт взял Котлеана под защиту: мол, обыкновение у ихних вождей такое – носить всегда при себе оружие… А коли обычай, так это еще и не злой умысел и не повод для вражды и подозрений. Словом, в какое стадо залетел, так и каркай.
Ближе к лету, успокоенный миролюбием колошей, Василий и сторожей стал назначать только на ночь. И караулы проверять перестал. Надеялся: стены у казармы крепкие, медный единорог есть – в случае чего, отобьемся! А если и шевелились в душе какие-то неясные страхи, так это не перед напророченными правителем врагами, а перед тем, чего нельзя объяснить, от чего не спрятаться за крепостными воротами… Вон приходивший к заселению прошлой осенью старый приятель Иван Кусков рассказывал, что видел близ устья Ледяного пролива, как, подобно раскаленному ядру, промчалась по ночному небу падучая звезда – тревожная примета! Потом алеуты из поселения, ходившие на промысел бобров к Кенаю, донесли: охотники изловили белую лисицу. И это – худой знак, сулящий несчастья…
Ну да леший с ними, с приметами! Авось нас лихо минует, – Медведников истово осенил себя крестным знамением и направился к бане.
3
Первым тлинкитов подле крепости увидел поляк Евглевский. Он последнее время обретался по плотницкой части и не был отослан на бобровый промысел с партией Урбанова. Тем паче справных мастеровых во всем заселении – по пальцам перечтешь. За сим поставлен сегодня Януш петли навешивать для новых крепостных ворот. Праца не пыльная, но требующая сметки, умения. И того и другого у Евглевского с избытком. Жизнь долгая за плечами, чем только не доводилось заниматься. Был и жолнешем, и ковалем, и пахарем. Теперь больше с деревом связан. Оно по летам и сподручнее: дело к домовине идет. И еще уразумел Януш: вшыстко едно труд, какой бы он ни был, – всегда труд. Равно холоп, как его ни кличь, все – холоп. Сам, к примеру, Януш: сколько ни бьется, а в паны выйти никак не сподобится.
Восемь весен назад Евглевский, в ту пору конфедерат войска Костюшко, был пленен под Брест-Литовском гренадерами суворовского авангарда. Стоявший на часах у повстанческого бивуака Януш нагрянувших русских заметил поздно. Успел только крикнуть своим: «Увага, врога!». Один из гренадеров достал его острым жалом трехгранного штыка. Память о нем – кривой лиловый шрам, изуродовавший лицо Евглевского. Швы наложили русские же лекари. Сказывали, генерал Суворов приказал: обид пленным не чинить. Раненых перевязать. Взять на довольствие. Как поправятся, отпустить по домам.
Рана Евглевского затянулась быстро. На том бы и закончились его беды, когда бы не один случай.
Перед выпиской из лазарета вступился Януш за молодого русского солдата, которого прямо в лекарской палатке стал за какую-то провинность избивать ротный командир. Пожалел ли Евглевский малого, вспомнил ли выпавшие самому панские побои, но взыграло в нем ретивое – хватил он капитана по киверу первым подвернувшимся под руку поленом! А тот возьми да и отдай Богу душу…
Зараз заковали Евглевского в железа. Посадили под замок. Готовился он к смерти. Ан вышло иначе: вечная каторга. Пошел Януш мерять путь шагами до заклятой Сибири. Однако до острога не дошагал – бежал с этапа. Долго блукал по таежному захолустью. Насмотрелся всякого, голодал, мерз. Потерял все надежды добраться до Речи Посполитой. Тут и решился податься в зверобойную компанию Шелехова. Благо вербовщику компанейскому никаких пашпортов не требовалось. Ставь крест или палец приложи на контрактном листе – и сделка состоялась. Получай от компании дармовое угощение, буйным хмелем затумань себе голову. А что будет потом? Про то в винярне думать – занятие пустое!
На Аляске поначалу Евглевский строил крепостцу в Чугатской затоке, промышлял нерп и сивучей. Не единожды участвовал в стычках с чугачами, отражал нападение зверобоев Лебедева – Ласточкина, заклятых шелеховских врагов-конкурентов.
Здесь, на Ситхе, Януш, почитай, с первой затеси. Вместе с Медведниковым начинали, спали в одной палатке, товарищами считались. Когда-то Евглевский отразил удар индейского ощепа, нацеленный Василию в грудь. Да, видно, разошлись стежки. Медведников нынче – начальник. Занесся гордыней, не подступись! Евглевский же и старшим промысловой партии ни разу не ставился: больно дерзок на язык. А коли так – махай топором да завидуй Медведникову, для которого и банька натоплена, и баклажка рому небось припасена – разговеться с устатку. При мысли о роме у Евглевского даже в горле запершило. Он с досадой вогнал топор в бревно частокола.
Двор крепости невелик, зарос травой. У казармы бродят две коровы, завезенные на выспу в прошлом году и чудом избежавшие ножа в эту голодную зиму. Отощали, нагуливают вес. Опасливо косятся на коров длинношерстные, колошенской породы лайки. Индейцы специально разводят этих собак ради получения густой белой шерсти. В русском заселении лайки появились вместе с колошенками, принявшими крещение и ставшими женами алеутов и промышленных.
Януш – холост, хотя еще и не стар. Дело не в седине волос или в немощи чресел. Неопрятные, с вывороченной, отягщенной деревянными лоточками нижней губой колошенские женщины не затрагивают его сердце.
Медведников тоже не женат. Но до баб охоч. Многие работные гневаются на него за своих туземных жен. Гневаются, но вслух высказать не дерзают. Злая память у начальника, ничего не забывает и не прощает. К тому же Медведников, как ни крути, здесь, на Ситхе, – всему голова, хозяин…
Вот он, легок на помине, вышел на крыльцо казармы в белой рубахе, таких же портах – в баню наладился!
Евглевский отвернулся, чтобы не видеть Медведникова: лучше уж смотреть на лес, окружающий заселение, чем на сытую рожу бывшего сотоварища!
Лес, как никакой человек, всегда успокаивал Януша. Великий, обновленный, зеленый – он совсем рядом. Сколько ни глядит на него Евглевский, не устает удивляться вековой природной мудрости. Высокие, под небо кедры и ели, словно родители детей, выпустили вперед, на солнце, молодую поросль. Евглевскому почудилось, что кусты и деревца опушки и впрямь не стоят на месте, движутся к нему. Он прикрыл ладонью, как козырьком, глаза, привстал, вглядываясь в сторону чащи. То, что он увидел, поразило его. Матка Боска!
Скрываясь за сплетенными из зеленых веток циновками, к крепости крались тлинкиты. Маскировка их была так умела, что менее опытный наблюдатель не смог бы разгадать индейскую хитрость. Януш с такими шуточками уже сталкивался в свою бытность среди чугачей. У местных племен весь военный маневр – и это хорошо уяснил бывший конфедерат – в том и состоит, чтобы незаметно подкрасться к противнику, выждать момент и малой кровью добыть как можно больше скальпов и рабов. Рабы у колошей жили хуже собак. Представить своим хозяином краснокожего Евглевский просто не мог. И свой скальп он легко не отдаст – ще Польска не сгинела! Промышленный потянулся к топору, шрам на его левой щеке налился кровью.
Индейцы, очевидно, догадались, что их секрет раскрыт. Передние воины отбросили плетенки и натянули луки. Колоши были отменными стрелками. У Януша осталось мгновение, чтобы спастись. Но он не хотел бежать. Зависть к Медведникову, прежние обиды – все отступило перед опасностью. Евглевский снова почувствовал себя жолнешем, который должен успеть предупредить сотоварищей любой ценой.
Он резко повернулся к казарме:
– Увага, врога! – и упал на землю, пронзенный двумя стрелами.
4
Неизвестное страшнее неотвратимого. Оно имеет власть даже над душами самых отчаянных храбрецов.
Медведникову однажды уже довелось испытать на себе его силу.
Прошлой весной больше ста алеутов из его промысловой партии отравились черными ракушками, собранными на берегу океана. Эти ракушки, считавшиеся съедобными, прежде не раз выручали промышленных в голодное время. Экономя запасы пшена и муки, распорядился тогда Медведников воспользоваться морскими дарами.
Через полчаса у первых попробовавших варево из ракушек начались судороги, рвота. Потом наступала смерть. Не помогали ни мыльный раствор, ни снадобье из трав. В жестоких корчах работные гибли один за другим. Тех, кто не участвовал в трапезе, охватила паника. Оставшиеся в живых алеуты бросились врассыпную от гибельного места.
Медведников, к счастью сам к еде не притронувшийся, один метался между умирающими промышленными, не в силах помочь им…
Вот и сейчас, в длинной сумрачной казарме, испытал Василий то же тягостное чувство беспомощности и неясной вины перед сгрудившимися в центре жилища молчаливыми поселенцами, готовыми заголосить бабами и беспечно возящимися в куче шкур и тряпья малыми детьми.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































