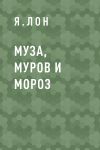Текст книги "УГОЛовник, или Собака в грустном углу"

Автор книги: Александр Кириллов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
На западе из тучи вывалилось и засияло солнце – холодным, слепящим светом, тоскливо освещая сумерки, будто голая лампочка в углу пустой и темной залы.
VI
Как только они переступили порог комнаты, первым, что бросилось Лизе в глаза, были цветы, её тюльпаны в хрустальной вазе, одиноко вянущие в жаркой полутьме. «Из этой комнаты им одна дорога – в мусоропровод», – подумала Лиза, и это её поразило.
– Надо переменить воду, – сказала она.
Но сделать это забыли. Не пили чай. Ужинать не стали. Сима, сославшись на головную боль, разделась и легла в постель, не зажигая света.
Еще недавно нежно-алые тюльпаны – потемнели, крепкие свежие бутоны незаметно раскрылись. И чем дальше, тем всё больше будет меняться их цвет – до натужной красноты, всё суше, всё тоньше станут лепестки, все дальше вывалятся из раскрытых глоток игольчатые тычинки, будто узкое горло вазы удавкой всё туже затягивает их гибкие стебли, пока с задохнувшихся цветов не осыпятся желто-багровые лепестки.
Лиза выставила тюльпаны на подоконник и, едва касаясь, поглаживала пальцем их бархатную кожицу. Мглистый свет с улицы ел глаза. Тускло отсвечивал гладким могильным камнем ночной город. Из настежь раскрытого окна – ни дуновения, ни звука. Не дрогнет на ветке даже обвислый, едва державшийся на сухом стебле лист. Над сквером прорежённой марлей белел тонкий облачный слой, будто волоча запутавшуюся в бинтах ослепительную луну. «Шлёпнуться б счас об асфальт, – вдруг услышала себя Лиза, – и исчезнуть навсегда». Она подалась вперед, набрав полной грудью воздух, и выдохнула разом, когда соскользнула вниз. Улица бросилась в лицо, перекувыркнулась, перехватив дыхание… Лиза упёрлась руками в подоконник – ее снова качнуло вперед и она, действительно, едва не вывалилась из окна. «Распорядились моей жизнью, меня не спросив, и мне во благо».
– Лиза, – сказала она себе вслух, – знай, этого уже никогда не будет, то был конец. Не будет, ушло, упустила – всё.
Она сняла с гвоздя ключ, вышла в коридор, толкнула входную дверь, спустилась по лестнице.
Улица кишела людьми – из кинотеатра, после ночного сеанса расходились зрители. Их раскрасневшиеся от духоты лица всё еще сохраняли оцепенелое, сомнамбулическое выражение.
Лиза перешла дорогу и остановилась у церкви. Сколько-то лет назад тут венчался Пушкин. Она присела на паперть… Ей почудилось, что на неё из переулка идет свадебная процессия. Впереди всех шли Пушкин и Натали. Он в парадном черном фраке, она в подвенечном платье. Они оба смотрели на Лизу пристально, с интересом, при этом не переставая исподтишка щипать за локти друг друга – с ожесточением, до крови. Их лица ей показались счастливыми. Они приближались, были уже рядом, в двух шагах – её школьные боги. И вдруг она ощутила в своей руке холодную тяжелую монету. Она замерла – не в силах шелохнуться, а мимо всё шли и шли нарядной вереницей – званные на свадьбу гости…
VII
Разбуженная, сонная, Сима зло обругала сестру, и теперь белой слонихой бродила в полутьме комнаты – взлохмаченная, заплывшая, ворчащая.
– Я думала, ты сбежала или вывалилась из окна.
– Не я, – раздеваясь, отвечала ей Лиза спокойно. – Таня Ларина, слыхала о такой, нет? Умерла сегодня.
Сима пила из графина воду, пялясь на сестру мутными глазами, стараясь припомнить, о ком ей та говорит.
– Я видела, – весело продолжала болтать Лиза, – они шли венчаться, а Гончарова щиплет его за локоть.
А когда они улеглись рядом в кровати, Лиза тихонько спросила: «А почему бы нам не жить теперь втроем: тебе, мне и Александру?» Сима насторожилась: «Александру? – переспросила она. – Я его знаю?» – «Его все знают». И уже засыпая, Лиза пробормотала сонно: «Пушкин ничего не писал о своем детстве в Москве. Странно, куда же ухнули из его памяти эти счастливые дни?» И как только наступил мрак, глухой и бесцветный, Лиза почувствовала, что кто-то идет за нею в темноте. Несколько раз хватали её за руку чьи-то цепкие пальцы. Она вырывалась и изо всех сил бежала от него на ватных пудовых ногах, бросаясь то влево, то вправо, чтобы сбить его со следа, затерявшись, растаяв в темноте, но тут же ощущала легкий толчок в спину, тепло его влажной ладони – и в беспамятстве бежала дальше…
Сима проснулась от её крика, пыталась её растолкать. Но та вдруг сбросила одеяло, перевернулась на спину, схватилась за сердце, громко сказала:
– Не хорошо мне что-то! Пусти, – хотела встать, но снова в бессилии повалилась на подушку, – не хорошо, правда. Ой, как мне плохо.
– А что? Что плохо? – испугавшись, в растерянности допытывалась Сима.
– Не знаю, – жаловалась она, – нечем дышать, руки свинцовые, не могу их сдвинуть. Понимаешь, и будто жизнь утекает из тебя. Страшно, боже, как мне плохо.
Глаза у Лизы потемнели, губы ссохлись, а колени, высоко поднятые, будто в сладостной истоме – дрожали.
– Душно мне, Сима. Слышишь, нечем дышать. Открой окно.
Не дожидаясь, когда Сима раздвинет шторы, она судорожно потянула на себе сорочку, та треснула и расползлась на груди. Лиза села в постели, спустила на пол ноги, встала, её качнуло, занесло. Тычась по комнате как слепая, она двинулась к окну. Сорочка, соскользнув, упала на пол. Лиза стояла у окна, глядя на спящий город, бледно-зеленая, как призрак, как русалка в холодном неоновом свете. Накрапывал дождь. Погода резко переменилась. Молоденькие деревца, млея под настырными порывами ветра, томно раскачивались из стороны в сторону, оголяя из-под задравшихся веток тонкие стволы, и бесстыдно блестели на свету исподней дрожащих листочков.
Сима подошла с халатом, хотела набросить ей на плечи, Лиза отвела её руку: – Мне душно, жарко…
– Да ты вся ледяная, – обняла сестру Сима, прижавшись.
– Уйди, не трогай, жарко… Плохо мне… Что со мной, что?
Лиза пыталась освободиться из её сильных горячих рук, но Сима, где уговорами, где силой, уложила её в постель; отлучившись только на минутку, принесла ей горячего чая и убеждала успокоиться и немного потерпеть. У дома остановилась машина, громко на всю улицу тарахтя мотором. Сима выглянула из окна, задернула штору и пошла открывать.
В полутьме комнаты ахнули и протяжно заскрипели пружины. Штора вздрогнула, раскрывшись разгорающимся веером. Темное пятно женской фигурки, беззащитно прижавшееся к стене, проплыло по комнате искаженным силуэтом – и угасло. «Пропала я, пропала».
Мотор под окном заглох, а минуту спустя комнату ошпарил белый электрический свет.
1988
Гошка
Во время съемок на улицах небольшого северного города пристала к артистам дворняга – длинная, бесшерстая, с аккуратно поджатым хвостом, голо торчащими, как у тифозных, ушами и доброй израненной мордой.
Ранним утром, как только артисты показывались в дверях гостиницы, она выползала из-под кустов вся в колючках и репьях, потягивалась, выпятив кверху зад, и преданно трусила за ними к автобусу. Её костлявое туловище нервно подпрыгивало, слегка припадая на переднюю лапу, и очень походило на долговязую фигуру Егора Михайловича, уже не молодого актера с настороженными собачьими глазами.
Дворнягу прозвали Гошкой. И, встречая по утрам у входа в гостиницу, баловали остатками сосисок или вареной колбасы – лакомствами неслыханными для бродячих собак в глухом заштатном городишке, затерянном среди синюшных болот покрытых топляком и сухостоем.
«Ну и дыра – ворчали артисты, обойдя за полчаса холодными вечерами узкие темные улочки с деревянными постройками, за которыми, словно призраки, маячили на сером небе белоснежные башни монастыря. «Бог терпел и нам велел» – поглядев в окно, вздыхали они, вспоминая свои семьи и уютные московские квартиры.
Кротостью и смирением отличались в этом городе и собаки. Тихие, ненавязчивые, они никогда не лаяли, бегали осторожно, хромые, или с оторванным ухом, или еще с каким-нибудь изъяном – одним словом, калеки.
Часами просиживали они у входа в «Пирожковую», деловито ожидая своего куска, будто город обязался их кормить. И город их подкармливал: каждый, кто выходил из «Пирожковой», что-нибудь бросал. Нельзя было без уважения смотреть на их одинокую – и даже в попрошайничестве – полную достоинства жизнь. «Это вам не наши породистые подхалимы», – вздыхали артисты, вспомнив о своих четвероногих любимцах.
Время от времени по городу проезжала запряженная лошадью странного вида телега с крепко сколоченным ящиком. И отовсюду, где бы она ни останавливалась, доносились отчаянные, панические вопли.
Встревоженным артистам разъяснили, что ничего страшного не происходит. Это живодер отлавливает бродячих собак.
Металлическими щипцами живодер хватал за морду доверчивое животное и закидывал его в ящик. Разинув рты, следили за живодером артисты, кипя от возмущения, не решаясь вмешаться. «Кто его знает, – думали они, – может так и надо». Пока однажды не забился в его «железных клешнях» их Гошка.
Первым выбежал из гостиницы Егор Михайлович. Догнав живодера, он стал молча отбирать у него щипцы. Тот сопротивлялся. Звал на помощь. Привлеченные скандалом останавливалась поодаль местные.
– Вы не смеете этого делать, – возмущались артисты, наступая на живодера, – какой пример вы подаете детям!
– Не отдам, – защищался живодер, не выпуская из рук щипцы, – это самоуправство… хулиганство… Мы проводим плановый отлов собак, – кричал он, призывая в свидетели местных, наблюдавших за скандалом, – это государственное дело! Собак на пункте усыпляют уколами. Мы действуем гуманно.
Как отчаянно живодер ни сопротивлялся, собаку у него отбили.
Ругаясь, так ничего и не поняв, убрался он восвояси. Но артисты еще долго не могли успокоиться. «Не может быть, – удивлялись они, – чтобы существовал такой закон? Как же так: закона об уголовной ответственности за причиненные животным увечья, не говоря же об убийстве, – нет, а закон бесчеловечного отлова – есть?
Одна тетя Дуся, дежурившая в гостинице, ничему не удивлялась.
– А что, – рассуждала она, – дело нужное. Город от заразы избавит и на воротник себе заработает.
Опасаясь за Гошкину судьбу, Егор Михайлович, с молчаливого одобрения съемочной группы, стал на ночь впускать его к себе в номер.
Дни стояли холодные, конец октября. Гошка, вымокший, грязный, неслышно перебирался среди ночи с половика на пустовавшую кровать соседа и там, блаженно вытянув лапы, засыпал. К утру на белоснежном пододеяльнике образовывалось черное сигарообразное пятно. И тёзке, проснувшись, приходилось лихорадочно отстирывать его в раковине под ледяной водой, а потом сушить, развесив сырой пододеяльник на чуть теплых батареях.
Так продолжалось изо дня в день. И напрасно взбешенный Егор Михайлович стыдил Гошку, стащив с кровати и глядя в его виноватую морду. Пёс мучился, но терпел – дожидаясь, когда можно будет вспрыгнуть тезке на плечи и лизнуть его в гневное, недовольное лицо.
Однажды, отчаявшись, взял Егор Михайлович кусок мыла, накинул Гошке на шею веревку и потащил перед сном мыться в озере. «Пусть потом валяется на постели».
Редкие уличные фонари зажигались в городе поздно. Глухие, тихие улицы душила зыбкая ледяная мгла. В сумерках алело только озеро – в гаснущих отсветах заката.
Гошка упирался, скулил, никак не желая лезть в гладкую, точно стекло, воду. А выбравшись из неё, мелко дрожал и всю дорогу отряхивался, обдавая тезку ледяными брызгами. «Ничего, – говорил ему на это Егор Михайлович, – не к живодеру в руки попал… не сахарный, не растаешь».
Долгими вечерами, уединившись в номере, смотрели они друг на друга и о чем-то мечтали. Гошка лежал на полу, вытянув лапы и вывернув на Егора Михайловича голову, а тот сидел на не разобранной кровати и крепко сжимал коленями худые длинные руки. «Что смотришь, артист?» – печально спрашивал он Гошку, и пёс с готовностью приподнимал с пола морду, насторожившись, весь внимание… По стеклу секли холодные капли, сумрачно горела на столе зеленая лампа. Гошка вздыхал, и опять улегшись мордой на пол, тут же задрёмывал. А тёзка, раздевшись, гасил свет и еще долго ворочался в постели, чертыхаясь и что-то бормоча себе под нос, – не замечая, как его голова дергалась при этом, будто он хотел исказившимся лицом укусить кого-то.
В дождливые дни, когда съемочная группа, злясь, томилась в «простóе», дверь в номер неслышно приоткрывалась и, трусливо ища глазами Гошку, входили двое: коренастый блондин в брезентовом плаще и щупленький администратор в фуфайке и жокейской шапочке. Оба смущенно улыбались хозяину и, как бы подражая фокусникам, извлекали из рукава «белую». Егор Михайлович морщился, быстро выпивал протянутый ему стакан и отворачивался к окну, глядя, как желто вспучивало под дождем улицу: будто закипал, пыхая и затопляя город, густой липкий гороховый суп. А Гошка глухо рычал из угла, и те двое, заискивающе подмигивая ему, поспешно отступали к дверям, произнося с восхищением: «У-у, зверь!»
Этот удивительно добрый и отзывчивый пес не выносил запаха спиртного и вообще пьяных, на которых набрасывался как на лютых врагов. Заметив на съемочной площадке тщедушную фигуру конюха, нетвердо ступавшего впереди тёзкиной лошади, Гошка настораживался, скалил зубы, и на глазах у всей группы, из тихого улыбчивого пса превращаясь в бешеное, брызжущее слюной чудовище. Перепуганная насмерть лошадь рвалась из рук конюха. Тот чертыхался. Егор Михайлович пятился, не зная как к ней подступиться. Режиссер нервничал, требуя директора. Кто-то давал советы, держась на всякий случай от лошади подальше. А хилый администратор в жокейской шапочке под общий хохот и свист срывал с себя фуфайку и, крадучись, заходил Гошке в тыл. Улучив момент, он с победоносным криком накрывал пса, и пока Гошка приглушенно тявкал у него под фуфайкой, Егор Михайлович успевал судорожным движением влезть в седло.
– Ты, полегче, полегче, – нервно предупреждал его конюх, удерживая лошадь, которая, оседая на задние ноги, норовила встать на дыбы, – уздечку отпусти и каблуками ей в бока не ширяй, а то она хоть и колхозная, трудовая, а сбросит в момент.
Едва отогнали Гошку от камеры, как его воинственный лай уже слышался на другом конце площадки.
– Сичас ишо борзых спустют, – оглядываясь, наставлял конюх Егора Михайловича, – так ты… это… держи ее от них подале, а то… как бы лошадь не распалилась и не зашибла собак до смерти.
– Ладно, понял, – ворчал Егор Михайлович, которого дрессировщица втайне от конюха уже предупредила, что борзые, заслышав пальбу, могут войти в раж и разорвать лошадь.
Когда приходило время возвращаться в гостиницу, Гошка, набегавшись за день по болотам и кустам, грязный и жутко кашлявший, первым влетал в автобус и по-хозяйски занимал у окна место кондуктора. Автобус швыряло, туловище Гошки артистично извивалось, цепляясь лапами за кожаное сидение, неподвижной оставалась только голова, будто парившая над суетным телом.
– Вы посмотрите, как он величественен, – с любовью посмеивались артиста, – ни дать ни взять – Рамсес II.
Измотанные длинной однообразной дорогой все безмятежно дремали под мерное урчание мотора. Вдруг раздавался оглушительный грохот, сотрясая автобус, и откуда-то снизу, как из преисподней, доносился хриплый предсмертный вздох. Это Гошка, задремав на сидении, бухался плашмя на железное дно автобуса. Мгновенный страх, с которым просыпались разбуженные артисты, сменялся дружным хохотом, с оханьем и аханьем над изумленно озиравшимся псом. Гошка поднимался на дрожащих лапах, отряхивался и укладывался в ногах у тезки, дергаясь от судорожно вырывавшегося из груди хрипа.
– Тебе чего, плохо? – склоняясь над ним, поглаживал его Егор Михайлович, – ну, потерпи, потерпи. – И пёс, высоко взметнув брови, затихал, не спуская с тезки больных желтых глаз.
О Гошку, развалившегося поперек прохода, артисты спотыкались, бесцеремонно ступая по задним лапам, хвосту – ему всё было нипочем; лишь, когда кто-то, в высшей степени нахально, задевал ботинком его морду, Гошка нехотя отрывал от пола голову и смотрел ему вслед, будто хотел сказать: что? совсем ошалел?
Съемки затягивались, непредвиденно, но предсказуемо.
Задули ветры. Стало по-настоящему холодно. Солнце выглядывало из-за туч редко, в самые ранние часы, и тут же скрывалось за низко движущимися облаками, которые шли и шли – непрерывным потоком.
Накануне отъезда снимали озеро. По сценарию в кадре должно было плавать бесчувственное тело Егора Михайловича.
Засветло все были на месте. Хрупкие белые пятна замерзших луж с хрустом ломались под ногами сновавших туда-сюда людей. В предрассветной тишине, по ту сторону озера, за сизой деревней с силосной башней на окраине, заметно розовело небо, обещая ясное солнечное утро.
Егор Михайлович, кутаясь в теплый полушубок, сидел с Гошкой у автобуса и смотрел на восход.
Над озером белокаменной крепостью высился древний монастырь. Не так давно он был открыт для туристов, и с тех пор стал предметом тихой ненависти горожан. Холодное безмолвие еще смутных очертаний монастырских стен – завораживало.
– Силище какая, – восхищался Егор Михайлович, адресуясь к конюху, трезвому и потому неразговорчивому. – Слышал, никому его взять не удалось.
Конюх уныло курил, сидя на ступеньках раскрытой дверцы автобуса, и ждал восьми часов.
– Ни татарам, ни полякам, – размышлял вслух Егор Михайлович, вспоминая, что он сам, лучшие свои годы, отсидел по чьему-то доносу за такой же неприступной безмолвной стеной, – стоит себе пять сотен лет и еще столько же стоять будет.
Докурив, конюх сплюнул себе под ноги и встал.
– Я б эти памятники, будь моя воля, своими бы руками завалил. Понаехало вас тут, – услышал Егор Михайлович, – не прокормишь.
Сутулясь и волоча по земле ноги, конюх неторопливо шагал шоссейной дорогой по направлению к городу.
С восходом солнца съемочную группу залихорадило. Съемки еще не начались, а небо опять затягивало с севера низкими тучами. На площадке шумели, скандалили, вспоминали невысказанные обиды, невыплаченные «суточные»… И лишь двое по-прежнему смотрели на всё философски: Егор Михайлович и Гошка, да еще низкое солнце, белым неярким шаром зависшее над морщинистой синью озера и сахарной белизной монастырских стен.
– Актера в кадр, – услышал, наконец, Егор Михайлович властный голос режиссера, а вездесущий администратор уже карабкался за ним по скользкому склону.
Сняли полушубок. Выдали стакан водки и объяснили, где лечь в озере. От воды шел легкий пар.
Егор Михайлович с отвращением выпил порцию водки и полез в озеро.
– Что артист, готов? – нервничал режиссер.
– Готов, – бойко отрапортовал администратор, растирая себе руками покрасневшие уши.
– Давайте снимать.
Оператор похрустывал у камеры тонким ледком. Тело Егора Михайловичав в намокшей одежде жгло огнем. Усердные водяные, обступив, дружно распиливали его на тоненькие ломтики. Вокруг буднично суетилась группа: поправляли свет, бранились.
Гошка долго наблюдал за ними сверху. Потом нехотя спустился к воде, с опаской лизнул её, протяжно по-волчьи завыл, и вдруг, вцепившись зубами в одежду тезки, стал яростно тащить его на берег. Окоченевший администратор коршуном налетел на пса и руками, ногами пытался отогнать его от артиста. Но Гошка так на него рявкнул, что тот в страхе попятился.
– Не трогать! снимать! – кричал режиссер. Вспыхнул свет, заработала камера, и… Гошка был окончательно признан.
– Молодец, – хвалил его режиссер, – артист, настоящий артист.
И Гошка благодарно вилял ему хвостом.
Ночью у Егора Михайловича поднялась температура.
Проснулся он от мертвой беспробудной тишины.
Первым вскочил Гошка и бросился к окну. Егор Михайлович видел, как собачья голова с настороженно торчащими ушами выросла в светлом проеме окна. Раздался крик, звякнуло стекло, кто-то грузно спрыгнул на землю. «Уходим, серый здесь», – услышал Егор Михайлович и открыл глаза.
Ночь, светлое небо, всё зыбко и тревожно.
Рядом у кровати мирно спал Гошка.
Егор Михайлович вслушивался в ночную тишину, всё еще не сознавая: был ли то сон или нет?
– Гошка, – тихо позвал он.
Потом выскользнул из постели и, стоя босыми ногами на холодном полу, старался закрыть распахнутую настежь форточку. Его бил озноб. Разбуженный Гошка недовольно бегал по номеру, топоча лапами, зло фыркал и, останавливаясь, громко лаял на окно.
– Сядь тут, посиди, – ухватил его за холку тёзка и уложил рядом с кроватью, сжимая в кулаке тяну́чую бесшерстую шкуру.
Сон напомнил детство, отца, и то, как их действительно едва не ограбили когда-то. Была тихая лунная ночь, звенело стекло, и чей-то голос предостерегающе кричал за окном: «Уходим, Серый здесь». А «Серым» была их собака Тина, рыжая, как все ирландские сеттеры. Её не раз передавали из рук в руки. И отец, зная об этом, любил её подразнить. Провожая к трамваю очередного гостя, он дожидался, когда тот перейдет улицу, подзывал к себе Тину и говорил ей: «Тина, а я тебя продал, иди, вон твой новый хозяин». Губы у неё тотчас же обвисали, она жалко опускала голову и покорно плелась через дорогу. «Не надо, папа, не надо», – просил Егор, понимая, что отец так шутит, и никому не нужна его дряхлая собака. Отец смеялся и, довольный, подмигивал ему.
В свой последний день она шла на прогулку как обычно, чуть забегая вперед, оглядываясь и поджидая Егора. Вдруг она застыла на полпути, будто услышав что-то. Потом рванулась, и как безумная понеслась к дому. Она бежала изо всех сил, не разбирая дороги, и, добежав, свалилась под дверью их подъезда. Когда Егор, задыхаясь, догнал её, Тина долго не поднималась, тяжело дыша и блуждая испуганным взглядом. «Что с тобой, Тина?» – спрашивал он, гладя её по тусклой рыжей шерсти, но она только беззащитно жалась к его руке и закрывала налитые кровью глаза. А ночью его разбудил чей-то беспокойный, нетерпеливый толчок. Тина взобралась передними лапами на кровать и в паническом ужасе тянулась к нему в темноте хрипло дышащей мордой. «Тина, – звал он её, – Тина», – еще не сознавая, что случилось, не смея шелохнуться, – Тина, Тина»…
«Никто не избавлен от смерти близких, – думал Егор Михайлович, придерживая рукой Гошку, – никто, у кого они есть».
– Никто, – сказал он вслух, – кроме нас…
В эту ночь Гошка не спал до рассвета: сидел у постели тезки, бегал по номеру, и, взобравшись передними лапами на подоконник, недовольно фыркал в окно.
Весь следующий день Егор Михайлович, совсем больной, кутаясь от озноба в пальто, ходил от дома к дому, упрашивая хозяев взять к себе Гошку.
– А чё за ним смотреть, вон их, сколько дармоедов бегает. Пусть инспекция за ними смотрит, – как один отвечали ему все.
А на утро, в день их отъезда, всё выбелил первый скупой снег. На дорогах закружило поземку. Дыры и щели засыпало порошей. Нарядными теремами вытянулись вдоль улицы резные деревянные постройки. Засеменили по скользким дорожкам прохожие. Полетели в толпе детворы первые снежки.
Автобус посигналил у гостиницы и зазывно раскрыл двери.
Гошка первый радостно влетел в него и уселся на своё место. Он часто дышал, вывалив из раскрытой пасти ярко-розовый язык.
Автобус шумно загружался. Возбуждение, смех передавались от одного к другому. Егор Михайлович нетерпеливо раскуривал на ветру первую утреннюю сигарету, прикрывая её рукавом от косо сыплющихся снежинок.
– Сюда, садитесь сюда, – то и дело слышалось в автобусе.
– Ну, а тебе, артист, придется потесниться, – шутливо толкала Гошку в бок костюмерша, запихивая между сидениями узел с одеждой.
– Все? – крикнул с подножки автобуса администратор, – поехали.
Он натянул на уши жокейскую шапочку и захлопнул дверцу.
– Стойте, а Гошка? – спохватились артисты. – Завезем его на станцию, он дорогу домой не найдет.
Мотор учащенно работал.
Администратор полез через сумки и чемоданы к Гошке, что-то показывая ему руками и причмокивая. Но Гошка даже головы не повернул: он важно восседал на кожаной подушке и ни на кого не обращал внимание.
– Ну, давай прощаться, – протянул ему руку администратор. – Дай лапу.
Гошка подумал и дал.
– Ну, а теперь… отъезжающим занять свои места, а провожающих, как говорятся, просим, – подтолкнул он Гошку в бок. – Да не нужнá мне твоя лапа, чудак-человек. Я не прошу, а он сует мне её и суёт.
– Это он у тебя теперь лапу просит, – объяснила ему костюмерша.
В автобусе засмеялись.
– Давай, проваливай, – рявкнул на пса администратор, явно обидевшись, и стал силой спихивать Гошку с сидения. Но сделать это оказалось не так-то просто.
– А что мы стоим? – заволновались артисты. – Так и опоздать можно.
– Егор Михайлович, – взмолился администратор, – пожалуйста, вы с ним как-то ближе, объясните, что нам пора ехать.
– Нет, нет, – отвернулся Егор Михайлович, – нет, нет, вы уж сами.
– А, может быть, возьмем его с собой? – предложил администратор.
Все нервно засмеялись. Шутку приняли, но нашли её неуместной. Пришлось ему хватать пса под мышки и волоком тащить к двери, при этом пёс дико дрыгался и недовольно скулил.
Когда отъехали от гостиницы. Гошка еще долго бежал за автобусом по скользкому белому шоссе. Время от времени артисты оборачивались и с удивлением убеждались, что тот еще не отстал и из последних сил мчится за ними. «Вот он я! стойте! это я! я! – говорил им его хриплый лай, и он надрывался в отчаянии, что его не слышат.
Дома Егор Михайлович затосковал. Часто во сне он видел, как Гошку, сонного, ничего не подозревающего, ухватив за морду щипцами, волочит к себе в каталажку краснощекий живодер. И тезка вскрикивал, открывал глаза, и тут же порывался ехать за ним. Он зажигал свет, звонил на вокзал, но… «Справочное» не отвечало, сон улетучивался, страх понемногу отпускал и он, успокоившись, снова гасил свет.
Ночь. Куда уедешь ночью?
А утром, проснувшись, он торопился на студию, каждый раз уверяя себя, что обязательно в первые же два-три свободных дня съездит за ним. Обязательно. Но этих двух-трех свободных дней у него никогда не было. Съемки, озвучание, освоение, опять съемки. Однажды в экспедиции, измученный долгим свинцовым днем очередного простоя, он напомнил администратору в жокейской шапочке о Гошке, сокрушаясь, что надо бы, мол, съездить, забрать собаку, но тут же осёкся, глядя в его округлившиеся глаза. А ночью ему снова мерещилась остроухая голова пса, слышалось, как он топочет, бегая по номеру, и вспоминалась та страшная ночь, когда Тина, учуяв смерть, лезла к нему на постель, ища защиты… «Нет, – испуганно мотал он головой, – нет, еще раз пережить такое, нет. Лучше не знать… не видеть… забыть».
А Гошка каждое утро ждал его у гостиницы. Поначалу он терпеливо сидел у входа, радостно бросаясь на каждый скрип двери или шум автобуса. Потом начинал нервничать, скулить и норовил воровски прошмыгнуть в гостиницу с кем-нибудь из жильцов.
Дежурная, заметив его, тут же поднимала несусветный крик:
«Уйди, уйди, бесстыжий! Нету твоих артистов, уехали. Пошла вон, страшила!» – и ногами или шваброй выпихивала его, упрямо упиравшегося, в дверь.
Со временем к Гошке привыкли, и, завидев у гостиницы, показывали на него друг другу и усмехались: «Смотри, артист наш опять сидит, ждет „своих“. Ну, жди их, бедолага, жди».
1974
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?