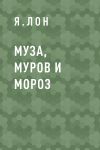Текст книги "УГОЛовник, или Собака в грустном углу"

Автор книги: Александр Кириллов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Первый встречный
Перед заходом солнца от старого бревенчатого дома, пиная собственную тень, шел человек с шишковатым лицом – в фуфайке, сапогах и черной замусоленной кепке.
Дом стоял на отшибе, на высоком берегу реки. И с каждой минутой, как солнце уходило за дом, тени удлинялись, и резко свежело.
– Извиняюсь, не знаю как вас по батюшке, – еще издали обратился мужичок к актеру одетому в форму белогвардейскую офицера, – бабы между собой толкуют – вы самый главный тут. Так прикажите забор на место поставить. А-то ваши поленницу разобрали, свалили в огороде на грядки… обещали сложить обратно и бросили. Жердины от забора отломали. Окно в комнате высадили, и кто мне теперь его вставит. Вы уж прикажите им. Негоже нас обижать. А мы для вас баньку истопим. Бабы бумагу от вас просят, так мы и закуску сделаем.
Офицер с изумлением смотрел на длинного, как жердь, мужика.
– Так не обижайте, велите поправить забор, – переминался тот с ноги на ногу, тыкая рукой в сторону своего дома, вокруг которого остались торчать только редкие столбики, а оторванные жердины валялись на земле.
– А за окно, может уплотят. За что нам такие убытки на себя принимать. Нашей вины тут никакой нету. И ваш… этот, – мужик что-то изобразил руками, – божился, что уплотит.
– А при чем тут я? – наконец отозвался офицер, ежась от студеного ветерка, потянувшего с реки.
– Бабы к вам послали, как вы, говорят, у них самый главный.
– Нет, я не главный. А вон стоит в кожаной куртке, он у нас главный.
– Нет, – отмахнулся мужик, – к нему не пойду. Он ругается. Вы уж прикажите.
Смуглое, с кулачок, лицо мужичка подергивалось как бы перекатывавшимися под кожей горошинками. Глаза слезились, следя за офицером продолговатыми, как зависшая капля, черными зрачками.
– К сожалению, ничего не могу для вас сделать. Я тут не распоряжаюсь, – вежливо извинился офицер.
Поднявшийся внезапно ветер крепко ударил в лицо. Еще заманчиво сияло небо за темным силуэтом дома, но тени там, где стоял офицер, уже исчезли, как и на той стороне реки, где темнели копны скошенного сена.
– Тогда дайте бумагу, – приставал мужик к офицеру.
– Какую бумагу? – сердился офицер.
– Красненькую. Мы баньку истопим, и закуску сделаем, и стекло вставим.
– Это вы с нашей администрации требуйте, и, вообще, не мое это дело. Я артист, понимаете. Нет у меня денег.
– Значит, никто забор не поставит? – загрустил мужичок. – Они и проводку на доме обрезали, – вдруг ахнул он, показывая пальцем на голые фарфоровые чашечки.
Провод свисал свободным концом со столба длинной петлей.
– Как же мы будем? – спрашивал он, стоявших поодаль стариков и старух
– Ну, что опять тут за разговоры, – накинулся на него администратор в кожаной куртке и желтой кожаной кепке.
– Зачем свет отрубили?
– Ты чего дурачком прикидываешься?
– Вон провода нам оборвали.
– Оборвали, значит так надо. Кино, ты понимаешь? Понадобиться, и дом твой снесем.
Мужичок, не мигая, растерянно смотрел на администратора. Обожженное солнцем лицо сморщилось, обрубленный нос повис. Он сел на бревна и сдавил голову руками.
У бревен собралась массовка. Ждали автобуса.
Офицер вздрагивал от набиравшего силу ветра, не стихавшего ни на минуту, и натягивал на запястья короткие манжеты кителя.
– Едет, едет, – закричали из толпы. И все головы повернулись к скошенному лугу, красному в лучах заходящего солнца.
– Нет, это не к нам, – разглядели артисты ползший по дороге автобус.
Небо над речкой померкло, сошла краснота со скошенного луга. Замычали по дворам коровы. Кое-где затеплился в окнах свет.
Администратор в желтой кепке, как дорожный знак, торчал на краю высокого берега и смотрел в сторону дороги. Молчаливыми тенями бродили в ожидании автобуса артисты.
Автобус пришел, когда высыпали на небе звезды.
– Места не занимать, – кричал администратор, втершись в самую давку и маяча над толпой желтой кепкой, – тут сидят артисты.
– Черт знает, это что такое! – возмутился офицер, когда в автобус, набитый до отказа массовкой, стали впихивать артистов. – Не поеду я, – тихо сказал он, весь побагровев.
– Садитесь, – кричал ему из автобуса администратор, – мы их сейчас поднимем. А ну-ка, освободите места для артистов.
– Мы не поедем, – кричал офицер. – Отвезите людей и пришлите за нами машину. И закажите на завтра билет. Я улетаю в Москву.
Автобус, как утка, тяжело переваливаясь на ухабах, выполз на дорогу и, тычась в неё белым пятном света, медленно покатил к городу. На голом пустыре стало еще темнее и тише.
– Свет отключили, – бормотал на бревнах мужичок, – изгородь сломали, огород завалили дровами, боже, что мне теперь делать?
– И еще окно разбили, – вставил раздраженно офицер, будто он смертельно обиделся на мужика за всё это.
– Да, да, вы так не оставляйте, – поддержали офицера артисты. – А то, дай им волю, камня на камне у вас не оставят.
Мужичок застонал, покачиваясь из стороны в сторону.
– Лично я завтра улетаю в Москву, – самолюбиво заявил офицер.
Мужичок отнял руки от лица и грустно посмотрел на них.
– Может быть, в баньку желаете?
– Какая там, к черту, банька, – ругнулся офицер, – околеешь тут на холоде. А впрочем, можно и в баньку… как вы?
– Нам что, в баньку так в баньку.
Мужичок поднялся с бревен и первым двинулся к дому, вызывая жену.
– Поди, остыла совсем, – извинялся он, когда, минуя его дом, они спускались узкой улочкой к озеру.
– Под ноги смотрите, а то… как бы не споткнуться в такой темени.
Шли молча, шуршали в траве, и вздрагивали от холода.
– Далеко еще?
– Да нет, вон она, – указал мужичок.
Темными скатами крыш темнели на фоне озера деревенские баньки.
– Тут, – сказал он, остановившись. – Как, есть пар? – спросил он у голого мужика, вывалившегося из бани.
– Напаришься еще, – обнадежил мужик, – и красный, как рак, бултых в воду.
В тесном предбаннике отовсюду веяло влажным теплом плесневелых бревен и старой одеждой.
Мужичок разделся догола и, вздрагивая худым морщинистым телом, белым, как сметана, вошел в парную. За ним заспешили остальные.
Парная была такой же низкой, как и предбанник. В большом черном котле остывала вода. У стенки, покрытой сажей толщиной в палец, на широкой полке стояли две шайки и лежал веник.
Мужичок плеснул на камни теплой водой. Камни слабо зашкварчали, наполняя баню паром.
– Эх, хорошо, – сказал офицер, окатив из шайки худощавое тело, обросшее волосами от пупа до горла, плечи тоже покрывала темная поросль.
– После такой баньки, – вздохнул мужичок, – и беленького чайку выпить не грех.
– А магазин далеко тут? – ухватился за эту мысль офицер.
– Далече, – махнул рукой мужичок, – надо в город ехать или в Хатынку.
– А где эта Хатынка? – не отставал от мужичка офицер.
– А на другом берегу. Но там уже закрыто, и ехать не на чем. Была б лодка, а она у меня течет. Когда брат приезжал, мы тут с ним попарились. И он, возьми, да скажи: «Эх, где бы нам белую головку достать?» Ночь на дворе точь-в-точь как сейчас. Если б я знал, что он приедет, съездил бы в город. А он и папирос не купил. Известное дело – городской, у них там всё есть. А у нас тогда ничего не было, и Хатынки еще не было – пустошь. Давай, говорю, съездим в город. Может, «попутку» какую встретим по дороге.
– Подожди, как «белая головка», – перебил его офицер.
– Так это ж… когда было. Я брата долго искал. Как война началась, его в армию призвали, а я с матерью в селе остался.
Вдруг он побледнел, глаза сильно заслезились.
– Пороли они нас нещадно, – пожаловался он артистам. – И нам это непонятно было. Село как село, люди на работу ходили, всё было. Тут как всех соберут, и давай нас перед всем народом… пороть… партизаны… юды… лопочут…
И он горько заплакал, вытирая крючковатым пальцем слезы, морщась и вертя головой от смущения.
– А мать… так и не дожила до освобождения, померла.
Он сидел на верхней полке, свесив ноги, худые, в узловатых венах, и плакал.
– Разденут, баб сгонют, и давай лупцевать. Поначалу стыдно, лежишь голый, смотришь на девок, за которыми на гулянках… на мать в толпе – она вся трясется. Сцепишь зубы, и молчишь. А он гад чует, что терпеть уже невмоготу, и еще подлюка наподдаст, да с оттяжечкой. Лежишь, считаешь – еще малость выдержу, а дальше нет. Кричать охота, ерзашь… как на сковороде, а он, знай, вжаривает и вжаривает. Да с передыхом… Сил больше нет, а он, будто токо начал, и хлещет, и хлещет… и начинаешь орать, страшно, из утробы, голоса не слыхать, токмо рот разрывает от крика, и кровь во рту, и глаза из орбит лезут, дергаешься, визжишь, воешь, трясешься, всё тело кровью набрякло, онемело, будто ошпаренное кипятком. А он гад, поймал раж, и ему тут самое удовольствие. Он еще тормознет чутя, и смакует – врежет со всего маху по кровянистому месту и замрет… еще раз, и снова замрет, и так пока не истекёт удовольствием. А когда уже насытится, отбросит кнут… и отвалится.
Мужичок не мылся. Его трясло, ноги ходили ходуном, руки скрючило, лицо подергивалось, и глаза полубезумные.
– Как не рехнулся тоды, и сам не знаю. Его не видал, но чую, как он стоит надо мною и причмокивает, и дышит так, будто бабу в сенце наяривает.
В деревне залаяла собака. Ей отозвалась другая, им третья, и началось на все лады – и тявкают, и гавкают, и заливаются, и тяжело бухают хриплыми голосами.
– Кто-то всполохнул, – прислушался мужичок, сказавшись Никитой, – чужой к кому забрался али машина проехала.
Артисты заторопились. Офицер, пристроившись с краю лавки, явно стесняясь своей буйной растительности, обросший, как медведь, хлестал по спине веничком и терпеливо счищал с себя пот крышкой от мыльницы. Двое других – лысоватый с белой бородкой и совсем молодой парень плескали воду на камни, поддавая жару, и терли друг другу спины.
– Вы не очень-то размывайтесь, – крикнул им офицер, – а то нам ничего не останется.
– Холодной воды можно еще принесть, – встрепенулся Никита, – а горячая вся тут. Мы только паримся, а моемся прямо в озере. Тут намылишься, а смывать в озеро бежишь.
– Холодновато, – поежился офицер.
– Нет, ничего. Мы до поздней осени кунаемся.
– И ночью?
– А-то как же, чтоб бабам не видать. Ночью вода аккурат теплее кажется. Я, когда с братом моюсь, он… нет, ни в какую не идет. А вечера здеся теплые, тихие. В озере, как в парном молоке плаваешь. А он – нет, не понимает, городской. Щеточки привез с собою, сел вон тут, даже наверх не полез, «жарко», говорит. А я старался. На радостях баню натопил, что ни продохнешь. Сперва ножницами долго стрижет ногти, потом их щеточкой трет, и пятки, и подошвы, а ужо потом мыться. Весь котел один и выплескает. А мы из этого котла вшестером моемся. А в озеро так и не идет.
– Ну, а «белую» достал ты ему? – вспомнили артисты.
– Достал
– Где? – подскочил артист с бородкой, стукнувшись головой о полку.
– В город поехал, там и достал.
– А черт, – вздохнул артист, потирая ушибленное место.
– И так неловко всё получилось, что и вспоминать тяжело. Вышел я на улицу, ни одной попутки. Через час догоняет меня полуторка, что «кино» нам привозит. До города добрался, а магазины уже закрылись. Ну что, думаю, пешком идти назад, так к завтрему приду? А брату и папирос надо, и, может, из продуктов что, хлеба там и еще чего. Я и остался переночевать. Утром, думаю, магазин откроют, я куплю всё, а на попутке вернусь в деревню. Брат меня уважил, приехал, костюм мне привез. Новый, только с год он его и носил. Хороший, двубортный, по три пуговицы с двух сторон – сам серый и полоски на нем черные. Вот брюки широковаты на мне. А жена говорит, ничего, ушью их тебе. Я надел костюм, очень им понравился в братнином костюме. А то, что пинджак свободный, даже хорошо, летом не жарко, воздуху есть где быть, а зимой поддевку можно теплую надеть. Брат у меня мужчина крупный. Приехал мордатый – у них там, на севере, и еда хорошая, и плотют им хорошо. Такое нарассказывал про ихонюю жисть, нам и не снилось. Рыбу, говорит, мы руками берем. Встанем поперек речки, расставим ноги, и только черпай в корзинку. Рыба скользкая, одна уйдет, другую подберут… И трудно ж его было найти. И бумаги, кажись, много я извел, и начальству у нас надоел, а нашел-таки брата.
– Что ж он умер? – спросил офицер, стоя по уши в мыле.
– Спаси, господи, живой, а как уехал – ни письмеца, ни какого другого известия. Я звал его, хотел сам поехать. Да, боязно. Далёко. Я из своей деревни только в город и ездил. А как там у них живут, и не знаю. Я ему говорю тогда, что ж ты про мать не спросишь, а он махнул рукой: «А зачем спрашивать, зря душу травить, царствие ей небесное». Во, как рассуждать умеет. И на работе его, сказывал, уважают, хоть и в городе живет. И все слушаются. А как его не послушаешься. Я и малым всё у него на побегушках был. Только крикнет: «Никитка, сбегай за огурцом в огород», и уже тащишь ему огурец. Как же это я заявлюсь к нему без папирос и без «беленькой». Нет, думаю, дождусь утра. Кругом темень, я в какой-то сарай залез, привалился в потемках к стене, пинджак подстелил и задремал. Озяб за ночь так, будто трясучка на меня напала – бьет меня, трясет. Зуб на зуб не попадает. А ночь, кажись, не холодной и была, а так – свежо было. Утром дождался, когда магазины открылись, купил папирос, «белую», колбасы, хлеба – и домой. Бегу шоссейкой что есть мочи, оглядываюсь. Ждет меня брат, не дождется. А по пути хоть бы одна машина попалась. Не ел я со вчерашнего дня, в голове шумит, тело ломит, а солнце поднялось уже высоко и жарит. Кругом место открытое – поле. Снял я сапоги, чтоб ногам легче было. Сопрели в сапогах, болят. Ну, думаю, дойду до дому, там и отдохну. Хоть… как вот увижу деревцо у дороги, так и тянет лечь под него и лежать, пока не стемнеет. Пришел в деревню, шатает меня, ослабел доро́гой – на жаре, не емши, но, думаю, аккурат к обеду подоспел. Вхожу в дом и прямо в горницу. А брат сидит за столом в одних портках, в галошах на босу ногу, насупился, и смотрит на меня: «Где, – говорит, – черти тебя носили? Так-то ты брата своего уважаешь. Я денег не пожалел, с севера к тебе приехал, костюм тебе привез, а ты шляешься где-то пьяный». Я и вправду стоять не могу на ногах от слабости. «Вон, – кричит, – пьяная рожа! Видеть тебя не хочу!» Я ж как лучше сделать хотел. Разве я его не уважаю. Кажись, всё б для него сделал. Пять лет его искал, думал, что в живых уже нет. Что ж я лиходей какой, чтоб брата рóдного бросить, и пьянствовать. Я к жене, «заступись», говорю. А она рубашку ему стирает, а на меня не смотрит. «Иди, говорит, от меня подзаборник». Всё ему выстирала, высушила, выгладила. Брат пообедал, выпил вина, что я принес, обулся, забрал костюм и с попуткой уехал. Мы и не простились. Она потом всю жисть меня им попрекала: и какой он хороший, и работящий, и видный. А как-то крикнула: «И мужик он половчее тебя», и в рёв. Жалко ей было его, а мне как его жалко и слов таких нет.
В предбаннике хлопнула дверь, чьи-то скорые шаги. Дверь распахнулась, на пороге стояла женщина, свирепо глядя на них.
– А-ну, выметайтесь отсюда. А там, кто сидит? Оглохли? Сигналят вам уже час как полоумные. Я жаловаться буду. Никто вам права не давал дом разорять. И чтоб через пять минут и духу вашего тут не было.
Все, кроме Никиты, вскочили с мест, прикрывшись чем попало, и со страхом смотрели на женщину. А она спокойно оглядела каждого, сплюнула, дойдя до волосатого офицера, и громыхнула дверью.
– А ты… еще явишься домой, – услышал Никита её голос уже из предбанника.
Артисты засуетились. Кое-как смыв с себя мыло остатками мутной тепловатой воды, они, мокрые, в пятнах черной сажи, влезли в одежду, и в таком виде поспешили к автобусу. Им казалось, что они всю ночь просидели здесь в мокрых кустах.
Еще снизу услышали они, как сигналит на пустыре автобус.
– Это она из-за меня, – оправдывался Никита. – Как брат уехал, она меня ненавидит. Это из-за меня.
Запыхавшись, выбрались они тропкой на пустырь. Свет фар ослепил. Им что-то кричали. Потом они увидели администратора, бежавшего навстречу.
– А мы уже беспокоимся. Думали, что разминулись с вами по дороге.
Наконец артисты забрались в автобус, а Никита, заглядывая в дверь, с тоской смотрел на них, шморкая носом.
– Ну, прощай, Никита, – сказал ему офицер, – не поминай лихом.
– Спасибо за баньку, – послышались голоса из автобуса.
Сноп света выхватил из тьмы дом Никиты, который казался заколоченным и брошенным. Автобус вздрагивал, неуклюже разворачиваясь, но Никита держался за дверь и не отпускал её.
– Тебе же сказали, мы оплатим твои убытки, – не выдержал администратор. – Завтра приедешь к нам в гостиницу и получишь за всё, понял? Ну, привет.
Никита стоял, держась за дверцу, и смотрел на них, а все молча смотрели на него и ждали, когда он отпустит двери. И он понимал, что все этого только и ждут, мучился, но удерживал вздрагивающий автобус.
– Поехали, – махнул администратор.
Шофер потянул на себя дверь. Задев Никиту и заставив его отшатнуться, дверь закрылась.
Автобус заплясал включенными фарами по темным избам, кое-где заколоченным с осени, резанул по одинокой фигуре Никиты, с опущенными руками и с белым пятном вместо лица, выбрался на дорогу, покойно замурлыкал – и покатил в город.
А фигурка Никиты осталась на пустыре, растворившись и исчезнув в сумраке ночи – одна, посреди спящей деревни, на высоком холме.
– Вы завтра ему всё восстановите или выплатите, – вдруг крикнул офицер громко на весь автобус. – Слышите?
– Да, да, – зевнул администратор, – всё сделаем.
1977
Михайловское
Телефон звонил… звонил… звонил…
Сима встала, надела халат, вышла в коридор, нащупала в темноте телефонную трубку.
– Да.
– Сима?
– Да.
– Я это.
– Да.
– Как ты?
– Нормально.
– Разбудила тебя?
– Да.
– Я сейчас не приеду.
– Угу.
– Хочу махнуть на Воробьевы горы. Слышишь?
– Да.
– Ты с утра на работе?
– Да.
– Позвоню, жди.
– Кто это?
– Лиза.
– Лизка, сукина дочь. Где ты?
– На вокзале. Я только что приехала. Не могу с тобой болтать, светает. Хочу посмотреть на Москву с Воробьевых гор, пока солнце не взошло. Позвоню, – и положила трубку.
– Ненормальная.
Сима вернулась в комнату, легла. Теперь ей не заснуть, а вставать еще рано. Разбудила, взбудоражила. Она заложила руки за голову, прикрыла глаза. Сквозь узенькую щелочку между веками смутно угадывалась панорама комнаты: сервант, письменный стол с чертежной доской и белым листом ватмана, довоенные стулья с округлыми спинками, шкаф, обеденный стол – всё как у всех. Рассветная явь, растопив белоснежную вязь гардин, мягко лилась в глаза, в душу ровным белым светом. «А хорошо, что Лизка приехала, – сказала вслух Сима, громко, в пустой комнате, – выдать бы её здесь замуж. Мы бы часто виделись, в гости друг к другу ходили. И вспомнить нам есть о чем. Выдам – вот увидит. Меня уже никто не возьмет – стара. А Лизка другое дело, ей можно еще попробовать. Почему не сразу ко мне с вокзала? Куда ее понесло? И чего она не видела на этих горах?»
II
Лиза дремала в вагоне метро еще полупустом в этот ранний час. Хвостатыми кометами черкали по черным окнам лампы тоннеля. Внезапно, отделив свет от тьмы, вспыхивали грозовыми зарницами просторные станции. Давно, как в полусне, промелькнули «Красные ворота». Лиза клевала носом, обхватив сумку. Спать не хотелось, но она чувствовала себя оглушенной после бессонной ночи на жесткой полке, толкавшейся всю дорогу то в бок, то в спину.
Лиза стряхнула дремоту и вопросительно уставилась на женщину, которая продолжала ей что-то говорить в полной уверенности, что её слышат. Поезд нырнул в тоннель, забросав пассажиров грохотом, как скачущая во весь дух лошадь комьями грязи. Лиза улыбалась, давая женщине понять, что ничего не слышит. Станция «Воробьевы горы». Поезд плыл по огромному голубому аквариуму,
Лиза вышла на платформу. Двери поезда захлопнулись. Медленно потянулись, обгоняя её, вагоны. Лиза оглянулась – не идет ли следом женщина. Нет, та сидела на том же месте, продолжая жестикулировать и разговаривать сама с собой.
Прозрачно-серые глаза женщины, траурно обведенные тушью, не отпускали Лизу. О чем она говорили, чего от неё хотела? Лиза испытывала странное чувство беспокойства, удивления и вины. Испугалась. Как только кто-то, забывшись, ищет участия, мы боимся и позорно бежим.
Густой туман закрыл всё пространство – от края смотровой площадки до неба. Лиза оперлась о балюстраду, ощущая разгоряченным лицом, идущую от реки, утреннюю свежесть. Ей казалось, что она ступила на землю, где реальность – из деревьев, кустов, реки, лестницы – отделена ясно видимой глазу границей от мира, где свободно живут фантазии, мечты, души людей.
Солнце взошло. Его плавящийся диск смутно угадывался сквозь плотную массу тумана. Пронизанный солнцем туман ожил, клубился, как пар перемещаясь в гигантском котле, расслаивался, редел, вдруг разверзшись перед Лизой воздушной бездной, и снова вырастал, поднимающимися снизу матовыми глыбами.
Небо прояснилось, местами голубело – чистое, умытое. Замаячил вдали сквозь легкую дымку горизонт. Блеснула внизу река. Туман расползался по швам – рвался к небу, стелился по реке, растапливаемый солнцем, ярко сверкавшим над городом. Лиза слепла от молниеносных вспышек на золотых куполах. Ей стало жарко невыносимо и ярко до черноты. Она закрыла глаза и блаженно стояла одна в золотистом мареве.
На обратном пути, изнемогая от духоты и давки в переполненном вагоне метро, Лиза отчаянно цеплялась за поручень, чтобы не быть вынесенной толпой на очередной станции. Услышав долгожданное: «Красные ворота», она разжала пальцы, и её тут же смяло, завертело, потянуло и выбросило на платформу.
Выбравшись из-под земли, Лиза остановилась перевести дух. Каждый раз, переходя «Садовое», ей невольно мерещилось кольцо из белоснежных цветущих яблонь, но удушливая вонь выхлопных газов тут же разгоняла навязчивый мираж. Захватив Лизу посреди широкой магистрали, ревущая колесная армада с грохотом устремилась на неё с перекрестка. Лиза ойкнула и припустила к тротуару.
В Б. Харитоньевском, запыхавшись, Лиза сбавила шаг. Еще долго тянулась глухая стена автохозяйства.
У Харитонья в переулке
Возок пред домом у ворот
Остановился…
Двухэтажный дом, – обшарпанный, с выпиравшими из-под штукатурки кирпичами, точно ребрами дистрофика, с треснутыми стёклами, отбитой лепниной, – так и не потерял в своем драном рубище прежнего благородства и достоинства. Сердцем Лиза сразу же потянулась к нему, но тут же поняла – это не он, а оглядевшись, вынуждена была остановиться перед красно-белыми теремами под высокой зеленой крышей, обнесенными чугунной решеткой, и с дежурным благоговением разглядывать «ряженых» – вот где жил Пушкин.
Она шла дальше через Чистые пруды в Кривоколенный переулок, с недоумением отмечая названия соседних улиц – слева улица Жуковского, вон бюст Некрасова, а впереди дом Веневитинова.
Еще на Воробьевых горах она решила, что сегодня наконец-то пройдет этой дорогой, по местам ей памятным, где не была уже много лет. Еще за миг до того, как она это решила, ей казалось, что всё для неё кончено, и жизнь кончилась, и годы утекли… А тут как-то сразу что-то затеплилось в душе, пробирая изнутри нервной дрожью, как если бы её придавило и медленно, по частям, отпускало…
Она шла, опасливо поглядывая по сторонам, как вор или злоумышленник, проникший в чужую квартиру, стараясь унять сердце и ничего не пропустить. Мешало солнце (тот день был пасмурный), резкие расщелины теней, новые дома, подмявшие под себя розовые ветхие флигельки; не так одетые люди, не то время года, не то настроение – сердце стучит, перехватывает дыхание… «Моё, – думает она, – моё! Не отдам, никому!»
Дом Веневитинова не изменился, только улицу за ним перегородил дощатый забор метростроя. Лиза повернула к дому. «Нельзя этого делать! А! Хочу!» Вошла во двор, остановилась – всё как было. Её взгляд перескакивал с одного на другое. Много лет это место как наваждение преследовало Лизу в воспоминаниях, в её снах. Даже появление здесь Пушкина не показалось бы ей сейчас таким невероятным, как этот нетронутый временем реальный московский дворик. «Как? – думала она. – Жизнь прошла, а он – их дворик – вот он, перед нею, как ни в чем не бывало». Можно опять сесть на ту же скамейку, где они грелись в ту ночь, обхватить те же деревья, покачаться на той же скрипучей качели… и, запрокинув голову, взглянуть на кроны старых тополей, еще помнивших, может быть, Пушкина.
Она всё оглядывалась, покинув двор, миновав дом. Шла как сомнамбула. Уже остался позади Армянский переулок, Покровка, Садовое кольцо… И опять проблеск в памяти – сквер у красно-белой барочной церкви против Гороховской. Лиза поднялась к церкви, посидела в сквере и пошла дальше. Постояла у дома В. Л. Пушкина, заглянула во двор – и вышла к красной кирпичной школе, где бюст и мраморная доска: «На этом месте стоял дом, в котором родился А.С.»… Ночью здесь безлюдно, темно и холодно. Они жались друг к другу, перешептываясь, ощущая на щеке горячее дыхание, и вдруг замолкали, обнаружив вокруг себя зябкую предрассветную тишину. Где-то далеко за домами с характерным перестуком жила ночной жизнью железная дорога и как раненное животное кричал в ночи электровоз.
Отсюда уже совсем близко до МВТУ. Еще на Воробьевых горах Лиза поняла, что пойдет туда. Она шла поплакать над тем, что ушло вместе с молодостью, неведением, с отболевшими чувствами.
Наискосок через дворы шаг за шагом приближалась она к училищу. Было жарко. И точно так же, как в тот раз, она могла бы проскользнуть на территорию училища в толпе абитуриентов. Но Лиза осталась стоять на улице, глядя на них сквозь прутья чугунной решетки.
…Он то и дело с кем-то здоровался (разговор им предстоял не из приятных, он явно оттягивал его, готовился), но Лиза терпеливо ждала, пока он не переговорит со всеми, и когда он всё-таки был вынужден обратить на неё внимание, прямо спросила: «Ты согласен на развод?» Он растерялся, хотя ждал этого вопроса. Губы омерзительно пересохли, дышать было нечем. «А ты этого хочешь?» – услышала она. Лиза зло усмехнулась. «Я за этим приехала». – «Ты окончательно решила?» И оба почувствовали облегчение, когда она сказала: «Да»…
Лизу опять удивило, что не исчезли как призраки – ни этот сквер перед училищем, где в последний раз они виделись, ни это здание (старый московский особняк), ни скамейка, на которой она сидела, ни дверь, из которой он вышел – в общем, всё то, что она запомнила. Здание и казармы военного училища через улицу – их она не помнит, они ничего не говорили сердцу, но и не обдавали могильным холодом. Лиза шла этой улицей, будто впервые, потому что тогда, едва выйдя за дверь проходной, она ослепла от слез и обиды… Улица «Радио» – смешно, нелепо. Нижний сусальный переулок. Скорее уж нижне-посусальный. Она ревела всю дорогу, но слезы не «истекали» из души, облегчая её, а как воск налипали, застывая и превращаясь в давящий на грудь камень.
Сейчас слез не было. А было чувство, будто идут они по Нижне-сусальному переулку вдвоем, – та Лиза и теперешняя, – идут рядом, хотят сблизиться, слиться в одну не могут. Так ей казалось. От жары, наверное. Казалось ей, и что их общая с Митей жизнь не оборвалась с разводом, а продолжается, только теперь в новых условиях – разлуки и одиночества… Казалось? Или она пыталась так оправдать своё ничем не примечательное, скудное, одинокое существование?..
По дороге к Садовому ей попадались заброшенные особняки старой Москвы. Такие ободранные, обнищавшие, ветхие, будто шла она не в центре столицы, а где-то в забытом Богом и брошенном людьми грязном городишке. Прикроет глаза – и замаячит в её воображении выжженная степь на сотни километров вокруг. Это всё от жары. Лиза отважно преодолела ближайший солнцепёк по мягкому асфальту, где нещадно пекло затылок, липла к телу кофточка и огнем горели подошвы. И снова оказалась в тени высотного дома, где её обдало ветерком, дав капелькам пота подсохнуть, а мыслям залететь в затененную комнату – с сифоном газированной воды на столе и убаюкивающим шорохом вздувшейся пузырем белой балконной тюли. До Никитских совсем недалеко, еще одна улица, бульвар, но тень закончилась и пе́кло оглушило… Надо было спешить, чтобы с ходу, не запнувшись, не упав в обморок, проскочить этот ад.
Сима еще не вернулась с работы, ключ лежал под ковриком. Лиза вздохнула с облегчением в полутемной прохладной комнате. Она подошла к большому зеркалу и уткнулась в него лицом, провалившись в бездонную шахту собственных зрачков. Стекло приятно охладило лоб, оба глаза незаметно слились в один, еще стремительней унося её в собственную прорву. Успокоилась. Оторвала от стекла лоб. Морщинки в уголках рта, мешки под глазами, впалые щеки. Отклонилась, вот так еще сносно – глаза красивые, невеселые, недоверчиво разглядывают её, улыбка сквозь слезы… Расстегнула блузку, попятившись от зеркала. Сбросила бретельки, спустила под грудь лифчик. Грудь упругая, не обвисла, еще торчит сосками вверх. Живот без жира, кожа гладкая, не морщинит. Подняла юбку – ноги стройные, без изъяна, спустила трусы до чулок – и тут всё аккуратно, не раздолбано, как у девушки никогда не рожавшей… Мужчинам это нравится..Всё сохранила нетронутым – для кого? Она вдруг зажала руки между ног, чтобы унять острое желание. Хочу, хочу, я опять хочу мужчину, с чего бы это.
III
– Я не люблю Москву летом, – сочувственно выслушав рассказ Лизы, призналась сестра.
– А я люблю летом и зимой – всегда, – перебила её Лиза, охая под освежающим душем. Она то замирала, расслабленно бросив вниз руки и свесив на грудь голову, то вытягивалась, сцепив руки над головой, по-кошачьи изогнувшись мокрым худым телом.
– Это потому что…
– Сима, как Арбат изменился. Вымостили, фонарей наставили, политическими матрешками на каждом шагу торгуют – таким чужим стал. А дом, где Пушкин жил с Натали после свадьбы, просто не узнать. Выкрасили, напомадили, вокруг подметено, огорожено. Вход по часам – от и до – инвалидам без очереди. Был состарившийся, но живой. Был друг, а теперь как памятник на могилке их любви. Здесь покоится «медовый месяц» А.С.Пушкина и Н.Н.Гончаровой. Уж лучше бы в нем жили люди… Дай полотенце.
Полная шумная Сима с профилем фараонихи, на котором странно блестел живой открытый рыбий глаз, хлопотала возле маленькой Лизы.
– А мне кажется хорошо, что сделали музей – память.
– Нет, Сима. Не каждый дом может быть музеем. Один музеем становится сам собою, еще при жизни хозяина, как дом Толстого в Хамовниках. А другой, пока стоит без присмотра, пока живут в нем люди – он и прежнего хозяина помнит, и тех, кто к нему приходит поклониться, привечает. А высели жильцов, обнови, отреставрируй – из него дух и вон, и вместо живого старичка – раскрашенная мумия.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?