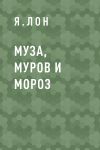Текст книги "УГОЛовник, или Собака в грустном углу"

Автор книги: Александр Кириллов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Хватит о Москве, о себе расскажи.
– Сима, как ты располнела.
– А, – отмахнулась она, – ты же знаешь мой девиз: лучше в нас, чем в таз. Ну, а ты совсем усохла, в чем ещё душа держится. Так нельзя.
– Устала сегодня, в дороге плохо спала и…
За ужином снова болтали. Лиза села на скрипучий жесткий стул, вытянув налитые свинцом ноги, которые горели, зудели, грузно упираясь в пол бесчувственными пятками.
Сима зажгла свет, но светлее от этого не стало, разве что освещение комнаты теперь казалось более ровным, желтовато-теневым, не меняясь поминутно от позднего заката над храмом Большого Вознесения.
После ужина зашумел электрический самовар. Свет за окном померк. В комнате, будто сократившейся в объеме, стало светло и уютно. В стеклянной вазочке рубином горело вишневое варенье. Чай обжигал губы, горчил душистой заваркой. Сима обхаживала сестру, накладывая варенье, намазывая булочку маслом… После третьей чашки выступила испарина. Лизу разморило, стало клонить ко сну. Свежесть летнего вечера не проникала в комнату. Но стоило выставить за окно руку – и рука окуналась в неё, как в прохладу морской воды.
– Так и не могу привыкнуть, – Лиза присела на подоконник, – не вмещает мой слабенький разум, что у тебя под окном церковь, где венчался Пушкин. Провинциалка. – Она засмеялась. – Хорошо ты устроилась.
– Хорошо, если б не коммуналка… Какая ты всё-таки молодец, что приехала, – радовалась Сима. – Ты помнишь, как я тебя нянчила? Вытащу из коляски, пока мама в магазине, и таскаю. Ты давай реветь, ножками сучишь, распеленаешься, и подметаю я твоими пеленками тротуар. А когда приходили гости и начинали над тобой сюсюкать: «Ах, какая девочка. Ах, какие глазенки». Я только улучу момент, когда все займутся разговором, тебя тихонько уволоку из кроватки и у себя под шкафом спрячу.
– Боже… во как она издевалась надо мной, оказывается. А я еще в гости к тебе езжу, гостинцы привожу, цветы дарю.
На столе, в хрустальной вазе стояли тюльпаны, будто только что срезанные – нежно алые, еще в капельках росы, сочные, тугие.
– Это что, – хвасталась Сима, – это любя. А вот в первые дни, когда мама только принесла тебя из роддома, я так изревновалась, просто до ужаса, как на жабу на тебя смотрела. Уснут все, я тебя хватъ из коляски и у входной двери положу, мол, заберите её кто-нибудь, нам её не надо, или – шла бы ты девушка на все четыре стороны. Мама проснется, а коляска пустая. Спросонья по дому забегает, всех поднимет, сама в слезы. Никто понять ничего не может. Смотрят, а ты преспокойно дрыхнешь на половичке.
Обе смеялись, обнявшись, как в детстве.
– А сейчас куда положишь, тоже на половичок?
– А куда ж, не к себе же в постель.
– Я как мышка, – клянчила место в кровати Лиза. Она грустно улыбалась одними глазами, пронизанными светом и от этого совсем прозрачными, русалочьими.
Пока Сима возилась на кухне, ссорясь с соседкой из-за света, по рассеянности не выключенного в коридоре. Лиза, сбросив халатик, забралась в постель в широченной ночной сорочке. Она блаженствовала, ощущая отток крови из натруженных ног, которые становились легкими бесплотными.
Сима вернулась в комнату, обругала зануду соседку, убрала со стола хлеб, стерла крошки и подошла к чертежной доске.
– Я немного поработаю, – извинилась она, – а ты спи или поболтай со мной, если хочешь.
Комната погрузилась в полумрак – густой и дремотный, там, где лежала на тахте Лиза, и зыбкий, едва уловимый, вокруг освещенного письменного стола с ярким белым листом ватмана на доске.
– Да, забыла тебе сказать, – не оборачиваясь и не прерывая работу, заговорила Сима, – получила на днях письмо, угадай от кого?.. от Клавы «Верыоко». Потеха. Уже и Веры Ивановны нет, и Клава давно не школьница, а прозвище осталось. Пишет, сын здесь в институт поступил. Ну, чего бы она вдруг вспомнила? Конечно, нужно в Москву, негде остановиться. Ты знаешь, как обидно бывает. Пишут, звонят. И люди-то все приятные, и повидать их рада. А вот обидно, что не к тебе едут, не из-за тебя, а так – в Москву разгонять тоску; шучу, по делам, конечно. Иногда думаю, нашли б они мой телефон или адрес, живи я где-нибудь в Пензе или Костроме? Суетятся, заигрывают, будто извиняются, гостинцев привезут, о прошлом поговорят, вроде как за постой этим расплачиваются. И всё не в радость, разговоришься, а потом оборвешь себя – может, дела какие у них неотложные, а ты своей персоной их задерживаешь… Завидую провинциалам, уж если к ним едут, то к ним.
– Это ты слишком, Сима, – сонно отозвалась из постели Лиза.
– И не слишком. Я же знаю, что им не терпится из дому вырваться, а сказать мне неловко, и мучаем друг друга. Ты знаешь, о ком она мне написала? Митю Андрианова в Москву перевели. Вот тебе и… Ты спишь?
– Нет, – через паузу отозвалась Лиза.
Чистая наволочка пахла лавандой; глаза закрывались, тотчас же отдаляя все звуки, предметы, Симу у чертежной доски – на многие километры, на целые века.
– Ты слышишь? Пишет, что спрашивал о тебе. Или это тебе неинтересно?
– Слышу.
Глаза открылись, и Лиза снова вплыла, врезалась со всего маху засыпания в полутемную комнату.
В желтом кружке света, где восседала на высоком табурете Сима, легко порхала над белым листом ватмана её рука с рейсфедером.
– Я тебя, Лизок, понимаю, не всё время лечит. И я бы не простила.
– Ну-у, ты бы!
– Мы с тобой удивляемся, что взяли в Москву? Такие вот и добиваются. Живут только для себя, кругом хоть трава не расти. Самовлюбленный эгоист.
– Остановись, Сима.
– И не подумаю.
– У тебя хорошо, уютно, пахнет лавандой – я только расслабилась.
Сима отложила рейсфедер, подошла и присела на край тахты. Лиза свернулась калачиком под простыней, утонув головой в пуховой подушке, и смотрела на сестру кротко и жалобно.
– Жалко тебя, зла не хватает. Вспомню, сколько кровушки твоей выпил и…
– Ложись, Сима, спать, не мучайся. У меня глаза слипаются, – зевала Лиза. – Ну, что смотришь, злюка. Я и сама теперь не знаю – было это, нет. Трясет меня что-то, от усталости, наверное.
– Было. Если ты забыла, я помню.
– А зачем? Говорится же: не суди и не судима будешь.
– Нас с тобой судить не за что.
– Как знать… от тюрьмы и от сумы…
– Я ничьей жизни не сгубила.
– Так ведь и он.
– Сравнила! Да он… ни с кем ужиться не может. Женился, развелся, опять женился, и снова холостой.
– И я тоже.
– Ты!.. Ты женщина.
– Женщина, мужчина, женился, развелся, изменял, не изменил – ерунда всё это. Хочешь знать – люблю его и поныне. Да притерпелось всё – ни боли уже не чувствую, ни увидеть не хочу. Хочу спать, потому что устала. Ночь в поезде тряслась, весь день по городу шлялась – устала… И кто кому жизнь поломал, еще неизвестно, и не будем…
– Так-так, интересные вещи открываются. Это, значит, мы ему что ли?
– Сима, ложись. Мы ему, он нам – какая разница. Кто это знает.
– Нет, почему же…
– Да потому!
– Нет, подожди, дай я скажу.
– Сказала уже. И чего ты его приплела на ночь глядя, сцепились как дуры. Всё, я сплю!
Лиза отвернулась, натянула на голову край простыни и затихла. Сима постояла над ней, в раздражении подыскивая слова, вздохнула и вернулась к работе.
«Всё забылось, – возмущалась она, – вот бабы, прошло время, забыли, простили и себя же еще винят. А он… Чтоб молодой жене, которая ждет его по полгода из Москвы, пока он там учится, совсем еще девчонке, так бесстыже заявить: „увлекся он“, видишь ли, „он думал, что серьезно, но…“ Глаза его бесстыжие! На этот раз, к счастью (для кого?), жена ему показалась лучше, а завтра? а через год? Гнать, гнать его надо было… и правильно они сделали – с корнем вырвать. Расчувствовалась. Замуж её надо, замуж».
Час спустя она легла в постель, потеснив к стене Лизу, но заснуть не могла. Через окно проникал с улицы холодный раздражающий свет фонаря. Пришлось встать, задернуть штору. Стало душно, темно. Мглистый полумрак душил, беспокоил. Откуда-то снизу, с трудом пробиваясь сквозь толщу тишины, томно вилась, выпеваемая саксофоном, джазовая мелодия. Из хаоса обрывочных мыслей вдруг соткался в воображении и, как живой, встал перед глазами Митя Андрианов. Странный он был. Найдет на него – всем уступал, на всё соглашался, домашнюю работу так и рвал из рук. Мама глянет, смолчит – пусть, если ему охота. А то… смотрит затравленным волком – ничего, кажется, не сделали плохого, ничем его не обидели… Ну, предостережет его иногда мама, просто так, по-родственному, чтоб не забывал, что он муж. Так что ж, сразу за шапку, и куда? Мальчишка сопливый, а гонору. Мама ему это и сказала прямо в глаза. Он сидел в передней на полке для обуви, вжался спиной в соседские пальто и молчал, пока мама костерила его на всю коммуналку. А она стояла в дверях комнаты и тряслась от страха, что у матери вот-вот схватит сердце. Митю она… знать не хотела, презирала, брезговала им, когда мыла за ним тарелку или купалась после него в ванной. И с первого же дня, как он появился в их семье, мечтала, чтобы он поскорее ушел. И он ушел – пробкой вылетел из квартиры. Сима видела из окна, как он мчался по улице, обгоняя прохожих, как вскочил в троллейбус, с трудом протиснувшись в закрывавшиеся дверцы. Больше он у них в доме не появлялся. На суд не пришел, прислал письменное согласие на развод. Она торжествовала. Ей мешал чужой человек в семье. К тому же ревновала к нему сестру, привязавшуюся к ней сызмальства как собачонка. И снова они спали в одной комнате. Вместе ходили в театр, на выставки, болтали за полночь. А чтобы стереть всякую память о Мите, уговорили Лизу сделать аборт. Зачем рожать без мужа, успеет еще, молодая. «Эх, оставила бы ребенка. Митя большой человек теперь, хорошие бы алименты получала». Сима даже разозлилась на себя – и что ей лезет в голову, не нужны им его алименты, причем здесь он?.. вспомнила…
Лиза спала лицом к стене, дышала тихо, ровно. Сима разглядела седые нити у сестры в волосах, вздувшиеся вены на сухой, как бумага, цыплячьей коже, торчащие ключицы – не удержалась и нежно провела ладонью по её волосам. Лиза открыла глаза, повернулась и инстинктивно, по-детски, уткнулась головой ей в грудь. «Это ничего, – сдерживая слезы, нашептывала ей Сима, – всё у тебя будет, все сладится. Переедешь в Москву, будем ходить друг к другу в гости, снимем на лето вместе дачу. Ты помнишь, как мы жили в Елатьме? Песчаный пляж белый-белый до слепоты в глазах. Выскочим голые из воды, зароемся в горячий песок, а вокруг ни души…» Сима обняла сестру, ощущая, как дрожащие ресницы Лизы приятно щекочут ей шею.
IV
Проснулись они от несусветного птичьего галдежа. Из вязкой трясины сна Лизу выпихнуло наружу – в просторную, заляпанную солнечными пятнами комнату, в компанию бодрых детских голосов, о чем-то споривших в коридоре. Окно уже было расшторено: в ясном небе одиноко сиял золотой православный крест. «В этой церкви венчался Пушкин», – вдруг опять вспомнила Лиза и занемела вся от загнанного внутрь восторга.
– Вставай, невеста, – торопила Сима, – умываться, завтракать. У меня отгул, едем знакомиться. Не ударь лицом в грязь, покажись ему во всём блеске.
Пока Сима стряпала на кухне завтрак, Лиза, сбросив с себя одеяло, дремала, раскинувшись, блаженствуя на едва ощутимом сквозняке. Предстоящий день был для неё только в этом солнечном блеске, в прохладе утренних бульваров, и в этом блаженном ощущении себя наедине с сестрой и Москвой…
– Ты еще лежишь? – возмутилась Сима, – нет, так мы не выйдем замуж.
– И не выйдем, – подхватила весело Лиза, – на кой оно нам.
– Ну, нет, – Сима взглянула на часы, – мы так просто не сдадимся, еще попляшем на твоей свадьбе, если, конечно, продерем глаза и вылезем из постели.
За завтраком она придирчиво оглядела Лизу и осталась довольна. Вчерашней усталости, подавленности не было и в помине. Лиза отоспалась, глаза блестели, кожа разгладилась, порозовела.
– По пути зайдем в парикмахерскую, – распорядилась Сима.
Солнце стояло в зените, когда они, выйдя из парикмахерской, отправились на свидание с Литием Ивановичем.
– Хороший мужик, – возвращаясь к разговору о нем, подумав, решила Сима. – С высшим образованием. Гараж для машины отделал любо-дорого. Дверь – автомат: нажмет кнопку – закрывается, дневное освещение. Инструменты как на выставке – один к одному. В доме паркетные полы, стены обшиты деревянными панелями… Ты меня слышишь?
Лиза кивала, щурилась, запрокидывая голову.
– Цветы выращивает. Тридцать рублей за цветок. Хороший мужик, – подвела черту Сима, – не пожалеешь. Пришел к нам на работу, всем приглянулся. Но я его тут же к рукам прибрала – для тебя. Фотокарточку твою показала, слова, которые надо было сказать – сказала. Теперь покоя не дает, ждет, когда приедешь. А шьет как! Если придет в сером в полоску – его, сам сшил. Веселый, поёт, анекдотами сыплет. На день его рождения послала телеграмму: поздравляю, мол, с юбилеем. Не любит, когда спрашивают, сколько ему.
– А сколько ему? – и Лиза рассмеялась, нет, не от вопроса, и не над Литием Ивановичем – от счастья, что она в Москве, идет по её улицам, жарится под её солнцем.
– Прости, – хохотала Лиза не в силах остановиться, – это не то, что ты думаешь. Хорошо мне, понимаешь. В Москве я, понимаешь? Там у себя это и вообразить невозможно, что она где-то есть: с этими улицами, Красной площадью, музеями. Ты еще помнишь, что у нас в городе одна достопримечательность: на вечерние прогулки мужчины выезжают на велосипедах, а женщины, придерживаясь за руль, идут рядом пешком, некоторые, представь, с детскими колясками. Забыла?
Но Сима всё же обиделась и долго молчала.
– Ты не очень задирай нос, а то я тряхну стариной и возьму его себе.
– Да ради бога, Сима, и на здоровье. И правильно сделаешь.
Улица дышит огнём как из печки, ошпаренная ослепительным солнцем, а то вдруг сыро пáрит мокрым асфальтом после очередного полива. Лиза окунается, точно в море, в спасительную тень – и от остроты ощущения у неё холодеют мочки ушей, как бывало в детстве при падении с высоты, когда отец подбрасывал ее до потолка.
– Выходи замуж, я рада только буду. Уйду на пенсию, приживалкой к вам попрошусь.
– Не дури, – придержала ее Сима у перекрестка, перед пронесшимся на «красный» грузовиком. – Всё равно я не успокоюсь, пока не увижу тебя замужем.
– Да зачем это мне?
– Ненормально, Лиза, в твоем возрасте жить одной. Был бы у тебя кто-нибудь, слова б не сказала. Замужем, не замужем – мне без разницы. Только тебя без ЗАГСа в постель к мужику не затащишь.
– И что это ты, Сима, говоришь, – смеялась в ответ на её ворчанье Лиза. – А знаешь, я бы предпочла сейчас поехать в Сокольники, покататься на «американских горках» или, в крайнем случае, на русских качелях.
– Не увиливай, сеструха, не выйдет. Хода назад нет – нас ждут.
– А почему я должна. Мне никто свидания не назначал.
– Я его тебе назначила и оно состоится.
– Никогда не была в Архангельском – поехали?
– Вот он пусть тебя и свозит.
– Не хочу с ним. Хочу с тобой.
– Нужно, Лиза. Нельзя упустить шанс. Сегодня он есть, а завтра?
– Знаю я всё. И пусть. Не по душе мне это – вот что хочешь.
– Дура! Пойми, еще год-два, и кому ты будешь нужна. Я на восемь лет тебя старше, помру, с кем ты останешься? И душу отвести будет не с кем.
– Вот именно, Сима. Не с кем будет, чужой он мне, чужим и останется. Не те годы. Как у нас с Митей было – никогда не будет. Либо люди одно целое, либо это всё никому не нужно. И будет дудетъ он у меня над ухом, а я скалиться на него как собака. Смолоду влюбленные и пахнут одним запахом. А сейчас уже… Меня воротит, когда в трамвае рядом со мной стоит или сидит мужчина и дышит на тебя… как из могилы, ей-богу. Я задыхаюсь, отворачиваюсь, мучаюсь, и если некуда перейти, выскакиваю на остановке из трамвая – иду пешком. А тут не только вдыхай его запахи, но и слушай его целыми днями, ходи за ним, подноси ему – да на кой оно мне сдалось! Жить хочу свободной, в своей комнатёнке, спать в своей постельке. Есть настроение – всё в доме приберу и обед сварю, винца куплю. Нет настроения – целый день валяться буду и хоть бы оно всё… Не люблю, Сима, бабьи посиделки. А с мужчиной говорить – и совсем не знаю о чем.
На площади перед станцией метро, откуда уходили пригородные автобусы, было удушливо и синё от выхлопных газов. И где бы сестры ни останавливались, автобусы, будто нарочно тут же поворачивали к ним свои задымленные зады и бесстыдно пыхали клубами черной гари.
Лиза поскучнела. Она всё еще надеялась отговорить сестру.
– Чего захотела, – тащила ей за собой Сима, – и не подумаю тебя слушать. Человек ждет, а мы… Свихнулась? Не выдумывай, и не сбивай меня – мне надо еще вспомнить, каким автобусом нам ехать.
Но расспрашивать им не пришлось. В толпе пассажиров показался мужчина, лет около пятидесяти, и призывно замахал им рукой.
– А я не усидел дома. Выйду им, думаю, навстречу, а то… как бы не сбились с дороги.
– Литий Иванович, вы, как всегда: не успеешь о вас подумать, а вы тут как тут.
Он смущенно улыбался, когда пожимал Лизе руку, стараясь не смотреть ей в глаза.
– Пошли, пошли, – суетился он, не зная с какой стороны пристроиться к ним, и пошел рядом с Симой. – Там под козырьком не так жарко, я и место занял.
Лизу поразили его белые мягкие руки, будто поролоновые, и мучнистой белизны лицо с глубокими морщинами. Глаза, когда-то голубые, а теперь выцветшие, показались ей добрыми, и весь он в кремовом костюме выглядел домашним, своим, может только излишне хлопотливым. При ходьбе Литий Иванович слегка горбился, но не от груза лет, а от вечной, ему свойственной, спешки. Лиза отстала, чувствуя на себе его беглые взгляды, и, прячась за сестру, мучительно придумывала, о чем с ним говорить.
– Пассажиров, отправляющихся в Михайловское, – нагнал их голос диспетчера, – приглашаем в автобус номер…
Мгновенно замерев, Лиза прислушалась, взглянула на сестру, и вдруг, словно очнувшись, расцвела, засияла и не терпящим возражения голосом объявила:
– Мальчики, девочки, нас приглашают в Михайловское, – и немедля ни секунды помчалась к автобусу.
Растерявшись, Сима даже не нашлась, что сказать, а Литий Иванович развел руками:
– Раз приглашают, надо ехать.
У автобуса на Михайловское уже толпился народ – с сумками, мешками, кошелками, ничем не напоминая туристов. Они терпеливо ждали, истекая пóтом, щурясь, покрыв головы кто чем, глядя на автобус разморено и безжизненно. Но едва дверь в автобусе приоткрылась, как все вдруг рванули в неё с ожесточением людей, захваченных во сне пожаром. Лиза, работая изо всех сил локтями, протиснулась к стеклу водителя и там, уцепившись за поручень, зависла. Симу зажали в дверях. Литий Иванович толкался снаружи, пытаясь втиснуть между телами хотя бы ногу, чтобы закрепиться на ступеньках.
– Не очень-то нас приглашают, – кисло улыбнулся он Симе.
Ехали два часа. Народ вокруг хмурый, посеревший от пыли, оцепеневший от жары, сидел и стоял в автобусе единой уродливой глыбой, и только Лиза, прижатая этой «глыбой» к ветровому стеклу, улыбалась, счастливая, что едет в Михайловское. Она тянула шею, вертела головой, чтобы не пропустить что-то примечательное. Ведь этой дорогой ездил «он». Может быть, останавливался вон у того камня, где теперь у развилки с указателем «Племенной совхоз 2 км» высилась скульптура женщины с пальмовой ветвью на вытянутых руках. Дышать было нечем, пыль у каждой колдобины застилала глаза, гугнил над ухом сосед: «Я её маленько стукнул головой о стену, чтоб очувствовалась. Она и сомлела». А в мозгу у Лизы, повторяясь, просились на язык его стихи: «Подъезжая под Ижоры, я взглянул на небеса…»
Наконец оборвалось однообразное жужжание мотора, автобус споткнулся и встал. Люди не двигались, измотанные дорогой. Потом стали медленно выходить один за другим, молча, не толкаясь.
Когда Сима, спускаясь с подножки, оперлась о плечо Лития Ивановича, на пиджаке четко отпечатался след от её пухлой пятерни.
– Сима, – кричала ей из автобуса Лиза, – давай спросим… Только бы в перерыв не попасть.
«Конечная» представляла собой загаженный коровами пустырь с казенным строением на краю поля. Пыльная тропинка вела от неё в село Михайловское.
– А где же музей? – удивленно спросила Лиза.
Местная колхозница с еще большим удивлением оглянулась на неё.
– Музей? – Это слово долго полоскалось в ее мозгу, пока она обвешивалась сумками. – Музей, – повторила она. – Да у нас отродясь никакого музея не было.
Лиза оббежала глазами пустырь, ища хоть какой-нибудь указатель исторического места. Но кроме вгрызшегося в сухую землю ржавого трактора и привязанной к нему чьей-то лошади, всхрапывавшей и передергивавшей кожей от кусавших её мух и слепней, ничего не нашла.
– Послушайте, – Лиза поднялась на ступеньку автобуса, – здесь музей Пушкина, вы не… подскажите, как к нему пройти.
Шофер закурил, и ничего не ответил.
Стояли на солнце, глотая пыль, Сима и Литий Иванович. Он стряхивал, сползавшие ему на нос, капельки пота, а Сима с застылым выражением, будто окаменев, подняла руки, как та статуя с пальмовой ветвью у развилки.
– Садитесь, – окликнул их шофер, – я уезжаю.
Они забрались в автобус, растерянные, пряча глаза. Уселись впереди. Сима с Литием Ивановичем, Лиза напротив, и все смотрели в окно в ожидании, когда шофер докурит.
Наконец он положил на «баранку» руки, хмыкнул, качнул головой и включил зажигание.
И вдруг в горле у Лизы что-то булькнуло, глаза влажно заблестели, а крепко стиснутые губы стала кривить и разрывать улыбка. Губы не сдавались, вытягиваясь в трубочку, но уже трещали по швам в уголках рта, обнажая зубы, и лопались, расползаясь до ушей.
Лиза хохотала как безумная, не в силах остановиться, заражая своим смехом сестру, Лития Ивановича, даже шофера, снисходительно улыбавшегося им в боковое зеркало.
– … «отродясь не бывало», – не могла унять извергавшийся из неё смех Лиза.
– Мальчики, девочки, нас приглашают… ой, не могу! – тряслась всем телом, хохотавшая до слез, Сима., – нас… в Мих… мих… хайл… ское.
Литий Иванович только покрякивал, с улыбкой поглядывая на одну, на другую, не решаясь открыто смеяться, чтобы случайно не оскорбить их чувств.
Отсмеялись, поостыли и замолкли. И опять ехали долго, черепашьим шагом, теряя на ухабах равновесие, и, как эквилибристы, вцепившись в шест, удерживали взглядом горизонт. Вид у них был такой убитый, что шофер посмотрел, подумал и не взял с них ни копейки.
V
К дому, где жил Литий Иванович, надо было идти через железнодорожный переезд, мимо двухэтажного «универмага» и кафе «Турист». Лучами разбегались, усеянные хвоей, улочки с затерявшимися среди сосен тесовыми домишками.
– Был пивной бар. Открыли рядом турбазу и переименовали бар в кафе «Турист». Но пиво, слава богу, оставили, – объяснил Литий Иванович.
А к новоявленному кафе уже стекались со всего поселка группы «туристов» с таранью, сольцой – потолковать, пошуметь, отвести на людях душу.
У обочины фырчал экскаватор с высоко поднятым ковшом, которым экскаваторщик пытался как молотом вбить в землю железный кол, но ковш только цеплял его краем и, чиркнув, соскальзывал.
В саду Лития Ивановича их ждал накрытый стол. И пока хозяин хлопотал на кухне, Сима повела Лизу показать дом.
– Да никого нет, не оглядывайся. Он вдовец и живет один.
Слово «вдовец» дохнуло могилой. «Оставь надежду всяк сюда входящий», – процитировала Лиза вслух, следуя за сестрой. Пахло краской, новой клеёнкой. Единственно приятный теплый запах шел от мебели, старой, захватанной от долгого употребления.
– Мебель будет новая, – нашептывала Сима, – он давно уже заказал, вот-вот получит.
В ванной массивная чугунная колонка с печуркой для дров. Лиза, как только представили себе, что она моется тут под душем, ей стало знобко и стыдно, как если бы она делала это посреди двора на холодном ветру и при чужих.
– Колонки этой не будет, ему поставят «АГВ», – успокоила Сима, – уже есть договоренность.
В «укромном уголке» на двери сумочка для бумаги с вышитым гладью мальчиком на горшке – он ухмыляется, глядя прямо на них, глаза узкие-узкие.
– Это убрать, – сморщилась Сима, – что за радость смотреть на эту наглую рожу. Его матери рукоделье.
От стен, из углов, со всех сторон – хмуро, по-хозяйски пялились на неё: шкафчики, стулья, буфет, горка для посуды, безделушки на полках, фотографии в рамках, «белые лебеди», самовар. И будто ей говорили – каждый со своего законного места – «не тронь нас». В спальне заступила дорогу широкая никелированная кровать с высокой панцирной сеткой, как гамак, вбиравшая в себя отяжелевшие во сне тела. Лиза представила в этой кровати себя, зажатой к стене, глухой темной ночью, без сна, задыхавшейся в её пуховых перинах, подушках, одеялах… Ни повернуться, ни встать, ни открыть форточку, ни крикнуть – лежать неподвижно всю ночь до обморока, до полной немоты…
– Что ты так смотришь? – испугалась Сима, не сразу сообразив, что сестре дурно. – Ну, ты и дохлятина, – снова услышала Лиза её голос, уже оказавшись в саду, хватая ртом воздух и радуясь жаркам, слепящим лучам. Она дрожала, обхватив себя руками, будто побывала в ледяной пещере или отсидела ночь в подвале.
Литий Иванович сорвал прямо с грядки крупную алую клубнику. Расхваливал её, угощал сестер. Он уговаривал их съесть еще и еще по одной. Лиза отказывалась, ссылаясь на аллергию, а Сима ела, причмокивая, и покачивала от удовольствия головой.
Литий Иванович взял с тарелки ягоду.
– Для меня вырастить такую красоту уже радость. Я и сам «викторию» не очень люблю, но вы полюбуйтесь (он поднес ягоду сначала к лицу Лизы, потом Симы), как такую не съесть (и положил себе в рот). Вот и груши, яблоки, всё сам высаживал. У меня и малинник свой есть. Я и ёлочку на участке посадил и выходил, вон она. На Новый год её во дворе украшу: и е́лка как бы в доме и губить дерево не надо.
– А наливочки попробуйте, – хлопотал он, довольный, что всё у него есть. – Огурчиков откушайте, вон – все в пупырышках и с мохнатыми хвостиками, а какой запах, острый, свежий, – и он пододвинул к Лизе тарелку.
Лиза ничего не ела, только пила сок, разбавленный компот, вперемежку с наливкой. Литий Иванович беспокоился и старался во что бы то ни стало уговорить её съесть хоть что-нибудь. Сам, съедая кусочек, показывал ей, как это вкусно, будто маленькой; вскакивал, приносил из кухни новую закуску, доливал рюмки наливочкой, доставал из холодильника в кувшине клубничной компот.
На стол как-то незаметно из-за спины Лизы навалилась тяжелая тень от дома.
Сима вызвалась убрать посуду и заварить чай, оставив их умышленно наедине. Литий Иванович говорил о своей маме, ныне покойной, как им хорошо вместе жилось. Глаза у него слезилась. Он то и дело протирал их носовым платком и машинально приглаживал кустики бровей.
– Слепая, видела плохо, – вспоминал он мать, – а не могла усидеть на месте. Всё перестирает, перегладит, обед приготовит, в комнатах подметет. «Ничего, сынок, скажет, я потихонечку, я не торопясь. А ты женись, женись, а то умру я, кто за тобой присмотрит, кто вкусно накормит, не с кем и словом будет перемолвиться».
Лиза ёрзала, ощущая, как впивается в неё шляпка гвоздя на табуретке, сколоченной хозяином. А Литий Иванович склонялся к ней всё ближе, и вдруг дохнул ей в лицо, будто захлопнулся у неё перед носом плесневелый том.
– Мы с вами уже не дети, – заметил Литий Иванович. – Этот дом будет ваш, если… вы понимаете. Я человек спокойный, непьющий, нетребовательный. Себя и сам обслужу – и стирка, и питание…
– Нам пора, – извинилась Лиза. – Сима, – позвала она сестру и, войдя в дом, услыхала, что та возиться на кухне. Лиза содрала с неё передник, – брось ты это, – и потащила сестру из дома, ничего ей не объяснив и не отвечая на ее протестующие взгляды.
Они шли улицей, проложенной среди сосен, шли, не оборачиваясь, зная, что Литий Иванович, проводив их до калитки, смотрит им вслед.
– Притворство, сплошное притворство, – в бешенстве выговорила Сима. – Это назло мне, это подло. Я сразу поняла. Андрианов тебе нужен – так позвони ему, упади в ножки, покайся, глядь и простит, пенсию назначит, как несгибаемому ветерану ваших с ним… и учти, я ни в чем не раскаиваюсь, поняла? Ни в чем!
– Мне и он уже не нужен. Я ведь, Сима, видела его как-то. Узнала, что он приехал к родителям. Целый день его подкарауливала – хочу видеть, нет сил. А увидела… Думаю, что ж это я, столько ждала… бесчувственной стала? И не надо меня сватать, пожалуйста. Молодые были, Сима, парным молоком пахли, а сейчас половины зубов нет, кожа вся сморщенная. Разве это кожа – шкура; одеколоном до костей пропитаны, ей-богу, как полутрупы накаченные физраствором. «Жизнь прошла, – напел мне твой Литий Иванович из какого-то романса, – как медленный пожар». Пепелище, Сима. И у меня всё выжжено, перегорело, отмерло. Ты говоришь, мне мужчина нужен. Да мне противно подумать, что к моему чистому телу кто-то рукой даже…
Они вышли к железнодорожному переезду. Площадь у кафе опустела, пиво кончилось. Одуревший экскаваторщик упорно пытался вбить в земли железный кол, приподнимая и роняя тяжелый, неповоротливый ковш, бесполезно брякавший об исцарапанную шляпку.
Автобус шел пустой. Сестры молчали, сидя рядом, не замечая друг дружку.
– Ну, хватит, Сима, кончай дуться. Я всё-таки твоя гостья.
Симу передернуло, будто по телу пробежала судорога, но она старалась из всех сил сдержать себя..
– Это всё истерика. Да, истерика, – упрямо повторила Сима. – А как еще это назвать, если образованная женщина на пятом десятке ищет музей «Михайловское» в московской области?
– Ты же понимаешь, это затмение.
– Очень много затмений для одного человека. Восторженность – это хорошо для пятнадцатилетней девчонки. Ты бы видела себя в автобусе, когда мы тряслись по твоей милости в эту дурацкую деревню. Глаза горят, вся светишься, что-то бормочешь, хохочешь, нам подмигиваешь – невменяемая и всё. Да, именно невменяемая, а кто ж ты? Даже, если бы ты ехала действительно в это самое «Михайловское». Ну и что там такого особенного? Тýт он сидел, тýт стоял, тýт сплюнул. И что тебе до него? Невмоготу – выучи стишок, но не теряй разума. Ты же, когда о нем говоришь, становишься помешанной, понимаешь? Это уже кликушество. Держи себя в руках. Никто не обязан терпеть твои заскоки… даже я, твоя сестра. Не хочу этого. От твоего смеха, сестричка, иногда мороз продирает по коже, понимаешь? Брось ты это! Или лечись, если сама с собой не можешь справиться. Я тебе всё сказала. Жаль мне только, что хорошего человека мы обидели. И зря я, дура, перед ним из-за тебя… Лучше б о себе подумала. Может он нравится мне, а я – тебе, на, бери.
Она замолчала, глядя в окно на тлеющее закатное небо. Лиза долго не отвечала, потом сказала: «Спасибо, сестричка».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?