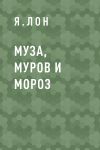Текст книги "УГОЛовник, или Собака в грустном углу"

Автор книги: Александр Кириллов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Ку – ку – у – ку
За стол на свободное место сел грузный мужчина в замшевом пиджаке вишневого цвета. Он подмял внушительным задом пискнувший стул, выложил на белую скатерть двухпудовые руки и огляделся.
В столовой санатория сумрачно. Всю ночь лил дождь, который не только не унимался с рассветом, но еще и усилился.
На завтрак собирались лениво, поеживаясь, и жалея, что вылезли из теплых постелей. Пол был затоптан мокрыми следами. Из двери столовой тянуло сыростью, и те, кто сидел за крайними столиками, просили плотнее прикрывать за собой дверь. Зачем-то включили свет.
– А-а, у нас новенький, – отметила полная дама, присаживаясь за стол вместе с двумя спутницами.
– Лось Виталий Михайлович, – представился мужчина.
– Вы уж меня извините, – улыбнулась ему дама, – вымыла хной голову, и видите, что с нею сделалось, или я передержала, или хна стала неважной… Хорошо молодым, – взглянула она на одну из своих спутниц, женщину лет тридцати, – им еще невдомек, что их ждет с возрастом.
– Молодежь, – согласился Лось, поскрипывая шатким стулом. – Живи – не хочу.
– А здесь такая тоска, – по секрету поделилась с ним дама, – будто на необитаемом острове. Мои подружки совсем заскучали.
– Ваша правда, Марья Ильинична, – затараторила вдруг скрипучим голоском старуха, тощая, с согнутыми по-птичьи руками, и с такой же, как на лапках у курицы, кожей, зернистой и белой, – кормят нас, бог знает чем, на экскурсии не возят, и телевизор сломался. А я не привыкла по вечерам дома сидеть. Как стемнело, меня уже тянет на люди. Все, обычно, с работы, а я на работу.
– Она у нас аккомпаниаторша, знаменитая, – похвасталась восьмидесятилетней старухой Марья Ильинична. – С Лемешевым знакома была.
Очки на костистом носу аккомпаниаторша запрыгали, она чихнула, и всё её вислое тело от щек до живота едва не переломилось.
– Ваша правда, – полезла она за платком.
– Любаша, – обернулась Марья Ильинична к молодой своей спутнице, сидевшей напротив Лося, – вы опять не повязали поясницу платком. Ведь у вас почки больные, возьмите мой шарф.
Любаша безропотно повиновалась ей, повязав шарф на бедрах.
– Какие они легкомысленные, – улыбнулась дама Виталию Михайловичу. – Нам что, мы старухи, – лицемерила она, – а Любаше надо бы кавалера. Ну-ну, ничего я такого не сказала. Виталий Михайлович всё правильно понял. Мне бы лет двадцать сбросить…
Между столиками двигались тележки, заставленные тарелками с паровыми котлетами и свекольным пюре. На столах блестели чайники с жидким чаем и общее блюдо с кусочками масла и сыра.
– Да не густо, – взяв обеими руками свою тарелку, выговорил Лось. Казалось, он скомкает её сейчас как бумажный стаканчик и выбросит в окно. – Я в прошлом году в санатории министерства обороны отдыхал, вот там только птичьего молока не было. Ешь от пуза: апельсины, лимоны, куры, гуси, жареное, пареное… (Лось говорил немного в нос, как это бывает у людей с застарелым гайморитом) Кино, театры, пожалуйста, каждый вечер на летней эстраде музыка, танцы. Но… выходить за территорию категорически не разрешалось. Всё время под контролем. И водочка и коньячок были, и всем хорошо, все здоровы. Вот, говорят, пьют. Пьют и закусывают мануфактурой – вот в чем дело.
– А вы, Любаша, есть не хотите, – весело подмигнула ей Марья Ильинична, – вот у вас всё и болит.
– Я ем, – покорно пробормотала она.
– Ешь, дусечка, ешь. – Аккомпаниаторша с аппетитом уплетала свой завтрак, всё мелко искромсав в тарелке, и один за другим отправляя кусочки в темный морщинистый рот.
– Я когда пела…
– Марья Ильинична оперная певица, – сглотнув, вставила аккомпаниаторша.
– … в день спектакля есть не могла, но потом… наедалась на ночь до отвала.
– Это нездорово, – попеняла ей аккомпаниаторша. – Есть надо часто и умеренно.
– А вы, по какой части служите? – обратилась бывшая певица к Лосю.
– Не служу. В отставке.
Он подобрал хлебом соус в тарелке, прожевал и отвалился от стола с чувством исполненного долга.
– Теперь мы, старики, не в моде. Не дослужишься до полковника к сорока, всё – в отставку.
– А я вам скажу, – прервала его Марья Ильинична, – в пятьдесят лет мы уже консервативны.
– А опыт? Вот в чем дело, – настаивал на своем Лось. – Мы уже раздумывали и так и сяк, ломали головы. Во время войны три месяца отучился и на фронт – вот она академия. Месяц в окопах посидел – и звездочку на погоны.
– Но как-то надо их поощрять, чтоб солдат в атаку водили, – резонно заметила оперная певица.
Любаше нравилось, с каким собачьим серьезом слушает Лось оперную певицу, поддакивая ей или не соглашаясь; нравился его энергичный хозяйский взгляд, под которым чувствуешь себя раздетой или ляпнувшей несусветную глупость. «Надо держаться от него подальше, пусть только посмеет», – и она легко и весело вздохнула.
– А ведь он на протезе, – ахнула оперная певица, когда, раскланявшись, Лось шел к выходу. – Жаль, очень обаятельный мужчина.
– Для мужчин невелика беда, – проскрипела аккомпаниаторша, – вы меня понимаете, девочки?
Девочки заулыбались, они её поняли.
II
Из-под свинцовой тучи, медленно отваливавшей от санатория, показалось солнце. Ослепительно заблестели дорожки, крыши домов, заломило голову от сбежавшихся у переносицы морщинок. Курортники потянулись от корпуса к корпусу на лечебные процедуры.
– Я, Марья Ильинична, только на почту забегу, – предупредила Любаша, – талон хочу купить, вечером мужу позвоню, я скоро, – и она торопливо зашагала сосновой аллеей к блочному зданию почты.
Холодные капли, срываясь с деревьев, падали на неё, щекоча лицо или скатываясь за шиворот. Эта аллея всегда оставалась сухой, пропуская всю влагу сквозь битый кирпич, утрамбованный катком. Любашу обгоняли, ей улыбались встречные знакомые. У киосков толпились очереди за газетами и мороженым. |
– А жим-жим, нет? Стой, куда идешь! – окликнул ее дерганый прыщеватый человек, приставучий и занудный тип, который лез ко всем женщинам в доме отдыха. – Ну, иди, тварь, своей дорогой!
Он всё взмахивал руками и что-то выкрикивал ей вдогонку, но она, заткнув уши, бежала что было силы, едва не плача от унижения.
Виталий Михайлович, затенив лицо ладонью, жарился в очереди за газетами. Любаша промчалась мимо, и вдруг, остановившись, оглянулась. Полуобернувшись, он тоже смотрел ей вслед. Даже на расстоянии ощутила она волнующую тяжесть его взгляда, и ей захотелось, чтобы он купил, наконец, свои газеты и окликнул её. А что, разве она перестала уже нравиться мужчинам?
В длинном коридоре лечебного корпуса у каждой двери сидело по два-три человека в ожидании своей очереди. Виталий Михайлович, не снимая плаща, из-под которого выглядывал вишневый пиджак, громко спорил с медсестрой.
– А я вам так скажу, сестрица, женщина приехала на курорт – припудрилась, подкрасилась, распушила перья – и уже она птица, щебечет, смеётся, и на всё готова. А мужчина нос повесил, плечи опустил, сидит пень пнём – тоскует.
– Прямо. Скажите тоже, уж такие вы тихони.
– А что нам прикажете делать, если вы так в глаза нам и прыгаете?
– А вы не смотрите, отвернитесь.
– О, женщины лукавый народ, – подмигнул он медсестре. – Мне моя говорит: «Я для тебя готовлю, стираю, за детьми присматриваю, а ты – только деньги приносишь». Вот ведь как, и не слышит, что говорит.
Любаша вжалась в стул, надеясь остаться незамеченной, и ловила каждое его слово.
– А ей, может быть, не деньги нужны, – заступилась за женщин медсестра.
«Да, действительно, – тут же согласилась с медсестрой Любаша, – внимание ей нужно».
Виталий Михайлович погулял по потолку взглядом.
– Покажите мне такую женщину, которой не нужны были бы… Конечно, не деньги, а то, что на них покупают. Даже самая, что ни на есть разучённейшая, и та белье в цветочек предпочтет белому. Уж такая женская натура – себя приукрасить. А для чего, спрашивается? Для себя? Нет, вы посмотрите, какой лахудрой она ходит у себя дома. Для мужчин, а зачем? Чтоб эстетически воспитывать их? То-то и оно. И получается, как волчицу ни корми, а она…
«Нет, не согласна, – хотелось возразить Любаше. – Семья для нас важнее»
– Пожалуйста, – пригласила медсестра Виталия Михайловича, – примите душ и полезайте в ванную.
– Вот-вот, – задержался он в дверях, – мы принимаем здесь радоновые ванны, а они лунные, и в этом разница – вот в чем дело.
Он ушел, а Любаша всё спорила с ним, мысленно заступая ему дорогу. Даже погрузившись в теплую ванну, она не могла успокоиться. Ей хотелось плакать, и слезы, действительно, навернулись на глазах. Узкая кабинка с круглым оконцем под потолком расплылась. Солнечные блики прыгали на воде, тело приятно пощипывало, веки буквально закрывались, сморенные сонной одурью.
Она никогда не задумывалась – счастлива она или нет? Ложась с мужем в постель, просила всякий раз – ты недолго, устала я, спать хочу. День отнимал все силы, а нетрезвый муж мог провозиться с нею и до полуночи.
Истомная дрожь вдруг накатила от заледеневших ступней и горячими пузырьками щекотно растеклась по бедрам и груди. Ей даже показалось, что от этого всколыхнуло и зарябило воду. Любаша очнулась с сознанием стыда. По потолку и стенкам белой ванны подрагивали солнечные блики. В ушах приятно шумело, кружило голову. Она испытала желание и слегка сомлела под его тяжестью. «Прав он, – подумала, – хороший он человек, а я…»
Когда её подняли из ванны, Любаша ощутила такую легкость, что готова была оттолкнуться и вылететь в оконце под потолком, а там понесет её ветер как пушинку над санаторием, полем, за горизонт, бог знает куда. Вся одежда на ней стала свободной, будто она вдвое похудела за эти полчаса.
Любаша вышла в коридор, раскрасневшаяся, счастливая, и лицом к лицу столкнулась с Виталием Михайловичем, от которого шел тот же теплый и свежий дух.
– И вас искупали, – шутливо заметил он.
– Знаете, так хорошо, – засмущалась Любаша.
III
Из лечебного корпуса они побрели, не торопясь, вглубь территории. Глинистые канавки, тянувшиеся с той и другой стороны, были затянуты ползучей травой. Пряный запах нагретого на солнце кирпича стыл в воздухе и будоражил нервы.
– А дальше парк, что ли? – оглядываясь, спросил Виталий Михайлович.
– И большой, – подтвердила Любаша.
– Вы мне пока́жите его, а то я заплутаю сам. Здесь река?
– Нет, озеро. Пойдемте к нему.
Сойдя с главной аллеи, они ступили на длинную деревянную лестницу, круто спускавшуюся вниз. На них пахнуло дождем и сырой землей.
– Это осень, – сказала радостно Любаша. – Я в первый раз в санатории, и так жалею, что не бывала здесь раньше. Всё заботы, знаете, страшно одной. А приехала, вижу и здесь люди. И такие добрые.
– А я каждый год езжу. Мне положена бесплатная путевка. И развеяться не мешает.
– А меня почки замучили, – пожаловалась Любаша.
– Всё от нервов, – махнул он рукой. – Нервы надо лечить, и ни в чем себе не отказывать – вот в чем дело.
Они вышли к озеру. Черную гладь зеркальной воды обступали, отражаясь в ней, серебристые старые ивы. На противоположном берегу, на вершине склона, виднелась каменная церковь, кривобокая и асимметричная.
– Пойдемте туда, – потянулась Любаша к церкви, – я и забыла, что всё это есть еще на свете. Только и знаешь – дом да работа, одна улица, по которой бежишь в магазин, и плита. Детей у нас нет, а всё равно с мужем нигде не бываем. Спасибо, что надоумили прийти сюда. Это же чудо какое!..
Лось молчал, пыхтя сзади, поскрипывая протезом, и послушно шел за нею, загребая воздух огромными ручищами. Они взобрались по узкой тропинке с выдолбленными в земле ступеньками и, запрокинув головы, смотрели на разоренную церковь. С шумом упал сверху камешек. Любаша вздрогнула, со страхом вглядываясь в гнилые ребра ободранной крыши. Кто-то завозился там, и по закомарам друг за дружкой чопорно проследовали три голубя.
– Смотрите, смотрите, как чуднó они ходят, – рассмеялась Любаша, – то головой, то лапками, видите, шажок головкой, шажок лапкой, будто уцепятся клювом за воздух и подтянут к голове всё остальное. Сколько раз видела голубей и никогда этого не замечала. Надо же. А небо какое! Купол с крестом, видите, будто плывет среди белых барашков, а ты как врыт в землю. Ой, даже качает, вам не кажется?
– А не хотите заглянуть, что там внутри?
Она, с опаской поглядывая на притолоку двери, вошла в храм. Стены зияли черными дырами, осыпавшейся штукатуркой и колотым кирпичом. Из щелей подклети, из углов, никогда не просыхавших, шел тяжелый плесневелый дух. Все окна, с серыми потрескавшимися рамами, были заколочены деревянными щитами.
– Жутко здесь, – съежилась Любаша, подойдя к окну. Она слышала у себя над ухом сиплое дыхание Виталия Михайловича и боялась шелохнуться, чтобы не оказаться с ним лицом к лицу. – А вон, видите, за озером, шоссейная дорога? Это в город. Мой муж часто ездит по ней. Он шофер. Какими игрушечными кажутся отсюда машины, да?
Ей вдруг захотелось, чтоб он взял её за плечи. Захотелось увидеть его лицо.
– Уйдемте отсюда, замерзла я, – спохватилась Любаша.
– Знаете, – сказал он раздумчиво, – от удара можно уйти, а от намерения никогда – вот в чём дело.
Любаша торопливо выбралась из церкви, больно сбив о камни ноги.
– Вы куда так бежите? – удивился Лось.
– К обеду. Боюсь, что опоздаем. А куда идти… теперь не знаю, – едва не плача, призналась она, – заблудилась.
– А вон мы у мужиков спросим.
Навалившись и придавив собой кусты, беспомощно раскинулась на земле могучая, береза, ещё свежо пахнувшая вянущей на солнце листвой. У её корней копошились, треща на весь парк бензопилой, двое рабочих, обсыпанных стружкой, и резали её на дрова. Любаша с болью подумала: «такую красавицу мучают, пришибла б она их сейчас, как мух». Но береза лежала неподвижно, разметав по сторонам вздрагивавшие на подушке из кустов тонкие ветки, и смотрела в небо.
– Зачем срубили, неужто мешала кому-то?
– От одной леса не убудет, – философски заметил рабочий, и показал, как им выйти к санаторию.
IV
После обеда жизнь в санатории затихла.
– А мне Виталий Михайлович очень понравился, – укладываясь в кровать, завела разговор Марья Ильинична, – такой выдержанный, внимательный, крупный мужчина. Я люблю людей решительных и сильных.
– Грубиян он, ваш Лось, – проскрипела аккомпаниаторша, – гнусный тип, а манеры… Я каждый раз вздрагиваю, когда он глотает кусок, жутко. Как только он нас с вами еще не слопал за обедом. И с нашей Любочки глаз не сводит, и так дурно на неё смотрит. Фу. Когда я ездила в машине Сергея Яковлевича, чтоб он так, даже нечаянно, посмотрел на вас или, упаси боже, задел неосторожно. Мне никогда с ним не было страшно, а красивый он был, и женщин… да-да… любил.
Аккомпаниаторша подлезла под одеяло, при этом матрац даже не шелохнулся под нею.
– Слюнтяй он, ваш Сергей Яковлевич, если такую женщину ни разу не обнял, – шутливо вступилась за неё Марья Ильинична. – А вы, что не ложитесь, Любаша? Вы чем-то озабочены? Нет? Тогда надо ложиться и спать. А вам Виталий Михайлович понравился?
– Я, Марья Ильинична, замужем.
– Да вы меня не так поняли. Мне не конкретно Виталий Михайлович нравится, я уже стара для этого, к сожалению. Мне тип этот нравится. Эх, двадцать бы годков долой. Мало их осталось… я про мужчин… этой породы. Всё слюнтяи да нытики. Сами норовят за вас спрятаться, и жидкие очень. Нет, Любаша, я считаю, что мужчина должен быть, прежде всего, с деньгами, чтобы женщина никогда ни в чем не нуждалась. Это унизительно, находясь с мужчиной, думать о каждой копейке – сможет он заплатить за это или нет? Затем, он должен уметь организовать ваш быт – это очень важно. Или снять для вас роскошный номер там, где никогда не бывает свободных мест, или позаботиться, чтобы вы с ним чувствовали себя уютно, весело и в безопасности. В-третьих, он не должен быть ревнив. Нас, женщин, нельзя ревновать. В конце концов, это наше право решать, какому мужчине мы хотели бы принадлежать.
– Вы так говорите, как будто сами не без греха, – уже засыпая, высказалась аккомпаниаторша. Она натянула одеяло под самый подбородок, с опаской поглядывая на открытую форточку.
– Грешна была, да, – легко согласилась Марья Ильинична, – и хорошо делала. Я не знаю мужа, назло которому не хотелось бы согрешить. Ну их, к свиньям. Вот у вас, Любаша, идеальный муж?
– Ой, что вы, – отмахнулась от неё Любаша и даже порозовела от дикости такого предположения. – Пошли мы раз с ним в «Шашлычную», Марья Ильинична. Принесли заказ, мы выпили. Сидим-сидим молча, может с час. Я с ним заговорю, он молчит. Встала я, будто мне уже на работу, и ушла. Только ест и спит, больше его ничего не интересует. Он и улыбается мне только, когда к столу его зову. Противно это, Марья Ильинична. Видеть его не могу жующим. «Ты, – говорит он, – алкоголичка». Ну, надо же. А ведь я культпросвет училище закончила.
Аккомпаниаторша уже спала. Из-под очков на высокой подушке безжизненно торчал ее желтый нос.
– Давайте, Любаша, и мы поспим.
Марья Ильинична шумно зевнула и отвернулась к стене.
Любаша не могла спать. Она слышала, как рядом с их окном тихо ворковали голуби, и с тревожным чувством вспоминала церковь – её сумрак и яркий отблеск солнца на озере. Маленькой девочкой её выносили из сырой полуподвальной комнаты, где она жила с родителями, по каменным холодным ступенькам наверх – к жаркому свету и шуму улицы. И этот переход – из промозглой полутьмы к яркому теплу – так и остался одним из самых острых ее наслаждений. Мимо церкви катили машины к хлебозаводу и еще дальше за город. Куда они ехали, и где пропадали навсегда, очень её интересовало. И когда она подросла, из любопытства не раз пускалась за ними вдогонку, но скоро отставала, пугалась и поворачивала домой. Может быть, шофер еще с тех пор стал для неё чем-то загадочным. Догнать его – и уехать с ним в это неизвестное далёко было её самой сильной мечтой. Мама всё удивлялась: «что, дочка, – скажет, – сидишь тут одна-одинешенька, поиграла бы в куклы или по дому что сделала». А состарилась, и сама полюбила сидеть на лавочке и смотреть на церковь дотемна. «Ты что сидишь тут, – спросит её Любаша, – пошла бы в комнату, полежала». – «Звонят, дочка, в церкви, слышишь? Красиво». Сердцем вспомнила она свою мать и почувствовала, как в глазах защемило и стало теснить дыхание.
Где-то пропикало пять.
По дороге на почту ей снова попался навстречу всё тот же человечек с элипсообразной лысой головой похожей на большую фасолину. Проходя мимо, он состроил рожу и бросил ей:
– А жим-жим, нет? Стой, куда идешь? Стерва, все равно не убежишь.
На почте ей сообщили, что их домашний номер не отвечает. Она подождала час, потом еще полчаса – и сняла заказ.
V
На ужин Лось опоздал.
– Я недавно его встретила, – недоумевала Марья Ильинична, – он шел откуда-то, один. Опять я поразилась, с каким артистизмом он двигается на протезе. С ним и под ручку пройтись не стыдно. Меня он не заметил, шел – в своих мыслях, не зная, что за ним наблюдают. Он очень одинок. У него что-то случилось.
– Я видела его сейчас у столовой, он кормил голубей, – успокоила её Любаша.
Тем временем, стараясь перекрыть общий шум, о чем-то кричала от двери визгливым голосом сухонькая женщина в желтой мохеровой шапочке, дыбом вставшей на голове, как у плешивых старух. О чем она кричала, им удалось узнать только от соседей: после ужина на открытой эстраде будет концерт. Женщины оживились и приналегли на ужин, чтобы первыми занять лучшие места.
– Волнуюсь, будто сама готовлюсь к выступлению, – аккомпаниаторша, для скорости, доедала «второе» ложкой.
С ужином покончили быстро, так что опоздавшему Виталию Михайловичу пришлось спешно их догонять. Выходя из-за стола, он как бы невзначай коснулся рукой плеча Любаши, будто прикидывал на ощупь качество материи, из которой было сшито платье, и вежливо спросил:
– Разрешите предложить вам руку?
Любаша испуганно взглянула на певицу с аккомпаниаторшей, но они, умильно улыбаясь, обе кивнули в такт.
Концерт начался засветло. Струнный квартет из студентов консерватории играл Бетховена. Любаша плохо понимала классику, но на этот раз странные лихорадочные звуки так захватили ее, что ей показалось, будто она и есть эта самая, безжалостно ранящая себя музыка. И чем больнее и невыносимей жгли отовсюду вонзавшиеся в душу звуки, тем отчаянней, самозабвенней отдавались им жаждущие еще более жестокой и чарующей боли чувства.
Она плакала.
Солнце ушло, стало быстро темнеть. На эстраде зажгли электрические лампочки, подвешенные на длинных проводах. Виталий Михайлович исподлобья яростно смотрел перед собой. Вздыхая, охали Марья Ильинична и аккомпаниаторша. А ребята играли, словно не было вокруг никого. Им просто хотелось играть и играть…
Никто не шелохнулся, когда они закончили.
А по сцене, громко стуча высоченными каблуками, проковыляла к микрофону женщина в желтой мохеровой шапочке и стала извиняться:
– К сожалению, наши артисты запоздали, и мы были вынуждены, чтобы скрасить вам ожидание, выпустить на сцену вот их. Мы приносим вам свои извинения, и рады вам объявить, что сейчас перед вами выступит известный наш певец Андрей Орнаутов со своим джаз-оркестром.
Прозвучал удар музыкальней тарелки и на сцену выскочил человек небольшого роста, тощий, лысоватый, неунывающий, с живыми черными глазами и со следами пудры на ушах. Неприятно грассируя, он стал петь о том, что любовь права, и что ему всегда чего-то не хватает – зимою лета, а осенью весны.
Любаша поднялась и заторопилась к себе в корпус.
– Нет, Любочка, мы еще послушаем, – отказалась с нею идти Марья Ильинична. – А вот Виталий Михайлович проводит тебя.
Лось уже стоял рядом и ждал.
– А жим-жим, нет? Стой, куда идешь?
Виталий Михайлович оглянулся: – Это кто сказал?
– Идемте, – потянула его Любаша.
VI
И только когда они стали спускаться по деревянным ступенькам, Любаша заметила, что они идут к озеру.
– Повернем назад, а то мы далеко ушли.
– Сейчас луна взойдет, – объяснил он, – посмотрим. Наверное, озеро очень красивое при лунном свете.
Отсюда, с высоты, озеро угадывалось внизу большим темним пятном.
Любаша не очень сопротивлялась и шла охотно. Озеро ожидало их, погруженное в прохладные сумерки. Они встали у самой воды, слушая, как всплескивал осыпавшийся камешек и тонко зудел над ухом комар.
Лось дышал Любаше в затылок, положив ей на худенькие плечи свои большие увесистые руки. И тут она поняла, что он, поглаживая, щупает её. Она попыталась осторожно освободиться, но он всё крепче прижимал её к себе. Тогда она сбросила его руку, о чем сразу же пожалела, так это вышло у неё резко и грубо. Спасаясь от него, Любаша поднялась по земляным ступенькам наверх и юркнула в дверь церкви, сама не зная зачем. Она надеялась там спрятаться или переждать. Но он шагнул за нею следом, и битый кирпич на весь парк затрещал под его протезом. Она затаилась. Её окружал сплошной мрак, сыро воняло от стен штукатуркой.
– Любовь Дмитриевна, – негромко позвал он.
Она отступила к стене. Услышав шорох, он двинулся на звук и ухватил её за руку. Они забились в самый темный угол, оба тяжело дышали. Она сопротивлялась с удовольствием, ощущая на себе его сильные руки. И чем отчаянней сопротивлялась она, тем крепче они обнимали её – и это ей тоже нравилось.
– Ты знаешь, что я хочу от тебя? – услышала она его шепот. «Ах, черт, – возмутилась Любаша, – и что он себе воображает». Она высвободила из его пальцев руку, чтобы оттолкнуть его, и почувствовала, как облапили её грудь. «Ах, черт», – снова ругнулась она, и подумала, что всё это нехорошо, надо что-то с этим делать.
Шея и лицо были влажными от его поцелуев, её лихорадило так, что зуб на зуб не попадал – это мешало ей сосредоточиться.
«Вот пристал», – усмехнулась самодовольно она, высвободив другую руку, которой удерживала его от себя, упираясь ему в грудь. Ей казалось, что это поможет ей лучше защищаться, но теперь он всем телом придавил её к стене.
«Неужели он думает, что я ему уступлю, – удивилась Любаша, отворачивая лицо и стискивая в две резиновые ниточки холодные губы. – Какой дурак».
Она все еще верила, что играет с ним, и, если захочет, сможет прекратить игру, но не тут-то было – её уже крепко держали в руках.
– Я все для тебя сделаю, всё, – бормотал он у неё над ухом, а его колено больно упиралось ей в живот.
Она дернулась, спасаясь от него, и невольно пропустила, дав ему место. И тотчас же горячая пятерня проскользнула туда вслед за коленом и сдавила её так, что перехватило в груди дыхание.
– Ну, милая, – шептал он, – ах, какая ты милая. Ну же, хорошая, ну же.
«Неужели он думает, что я смогу здесь», – еще мелькнуло у неё в сознании что-то вроде усмешки. И ей уже хотелось поскорее разделаться с этим, чтобы всё как-то кончилось. Её страшно знобило, и она вдруг вспомнила, как они когда-то стояли точно так же с мужем, и как им было тогда хорошо.
– Ах, хорошо, – сказала она вслух, и чтобы облегчить ему всё, обхватила его за плечи и повисла на нем. Его горячие пальцы впивались ей в бедра, и она подумала, что на этих местах завтра будут видны синяки, когда она полезет в ванну. «Ну, скорее же, – хотелось ей крикнуть, – я уже хочу этого, скорее». «Хочу его, – зло сказала она себе, – хочу здесь», – и ей почему-то стало приятно, что она так говорит. «В конце концов, он инвалид», – вспомнила она, и успокоилась.
Он благодарно дышал ей в плечо, а голос его то нежно нашептывал ей что-то бессвязное, то внезапно леденел и срывался грубым окриком.
«Вот это хорошо, – думала она, – как приятно, когда тебя любят вот так, что теряют голову. Как это приятно. Боже мой, наехало бы на меня что-нибудь. Нет мочи!»
Они выбрались из церкви в клочьях паутины, измазанные в известке. Руки у неё ныли от грубых объятий, одежда была перекошена, измята, и ей казалось до самого корпуса, что все это видят. Он шел рядом ленивой походкой, скучающе поглядывая на луну.
Луна до слепоты мозолила им глаза на чистом небе. Темный парк и корпуса санатория с отблесками стекол застыло вбирали в себя её завораживающий свет.
– Я бы предписывал всем по ночам принимать лунные ванны, – благодушно заметил он, – это оздоровляет организм.
А про себя подумал: «Все они одинаковы. Женщина есть женщина. Она отказывает, а у самой зуд на этом месте. Мою – так же облапошили, будь оно неладно». И изящество, с которым он развернулся на одной ноге, приподняв протез, было нарочито уродливым, будто он хотел так посмеяться над кем-то.
VII
Её старушки уже спали. Любаша разделась, не зажигая света, кое-как отмылась из графина в туалете и забралась в постель. Кровать стояла изголовьем к окну, луна жгла ей затылок и блестела на никелированной спинке у неё в ногах.
«А что, – подумала Любаша, – всё было даже поэтично». Она вспомнила их ночную жизнь с мужем – и зауважала себя.
Отвернувшись к стене, попыталась уснуть, но что-то ей мешало. Тяжелый запах цветочного одеколона душил её. Видно, Лось перед свиданием вылил на себя весь флакон. Фу, какой мерзкий запах. Она чувствовала, что вся пропиталась им.
«Ведь смогла, – засыпая, думала Любаша, – а что же он говорит, будто я, чуть ли не дура». Он – это муж, ей не хотелось называть его по имени.
Где-то далеко кричало по-петушьи какое-то животное. Оно кричало глухим горловым звуком – не то кукушка, не то что-то похожее на неё. «Ку-ку-у-ку». Этот далекий тихий крик раздавался методично, через равные промежутки, мучая её и высверливая мозг. Вдруг он начал убыстряться, будто передразнивая себя: ку-ку-у-ку, ку-ку-у-ку, ку-ку-у-ку, потом снова успокоился и, как капля из крана, плюхал в раннее утро. Она вслушивалась в этот однообразный надоедливый крик, который как яд проникал в её сознание, разрушая его, и пыталась определять место, откуда он доносится. Но едва ей удавалось сделать шаг в его сторону, как крик перемещался и уже слышался где-то у неё за спиной. Она в растерянности остановилась, во все глаза глядя со страхом в кромешную тьму. Вдруг в небольшом вольере, огороженном высокой сеткой, она увидела черного уродца, чем-то похожего на ворону с четырьмя лапами вместо крыльев. Она прислушалась и поняла, что этим утробным тягучим звуком кричал этот зверь. Она подняла с земли палку и пошла на него. «Ку-ку-у-ку», – истошно заверещал зверь, заметавшись по вольеру, когда Люба, замахнувшись, стала с ненавистью бить его. Он корчился, терял перья, но не умирал: он казался ей неуязвимым. Вдруг он развернулся и, раскрыв клюв, бросился на неё, осыпаемый ударами палки, в блаженстве повторяя: ку-ку-у-ку, ку-ку-у-ку, ку-ку-у-ку… «На, подавись», – в изнеможении прошептала Люба и сунула палку в его розовый зев. Глаза уродца закатились – и он издох. Люба подцепила его палкой, с брезгливостью вынесла из вольера. Теперь он был чем-то похож на гиену. Она отвалила у края дороги камень и в эту щель затолкала палкой уродца, сверху намертво привалив камнем.
Тихо. Силы кончились, ноги подкосились, она опустилась на камень. Подумала: как тихо. И тут же услышала: ку-ку-у-ку, монотонное, заигранное, откуда-то издалека. «Ку-ку-у-ку, ку-ку-у-ку, ку-ку-у-ку», – задушено орало животное, всё настырней, громче, почти без пауз…
– Любаша, что это ты разоспалась сегодня? – будила её Марья Ильинична, мягко толкая в плечо. – На завтрак пора.
За окном сияло солнце. День обещал быть жарким, а ей нестерпимо хотелось спать.
– Идите без меня, мне что-то нездоровится.
– Может быть, вызвать врача?
– Нет-нет, я сама… я встану.
– Ну, мы для тебя, Любаша, что-нибудь возьмем из столовой.
Когда они ушли, Любаша накрылась с головой одеялом, прячась от яркого и горячего солнца, но заснуть уже не смогла. Словно бесчувственная, плыла она в каком-то жарком дурмане, где мысли мешались с ясными, как явь, видениями. Ей привиделось, например, что сидит она у себя дома на ковре совсем голая, а муж тянется к ней рукой, больно захватывая пальцами её нежную кожу и, явно приценивается, пробуя её на прочность.
К обеду она встала с головной болью. За столом в одиночестве сидел Виталий Михайлович и жевал хлеб. Он был чисто выбрит – от него несло всё тем же дешевым цветочным одеколоном.
– Ну как, жива?
– Живая, – тихо ответила Люба.
– Послушай, – наставительно сказал он, – никому не болтай, понятно?
За обедом ели макароны по-флотски. Виталий Михайлович шутил, что к макаронам можно было бы подать и палочки – «для полного антуража».
– Палочками едят рис, – поправила его скрипучим голосом аккомпаниаторша.
– Рис едят руками, – объяснил ей Виталий Михайлович, покончив с макаронами.
– Вечно ты, дуся, споришь, – прервала аккомпаниаторшу Марья Ильинична. – Виталий Михайлович лучше знает.
– А палочками, что едят? – недоумевала аккомпаниаторша.
– Макароны, – терпеливо втолковывал ей Лось, – итальяшки.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?