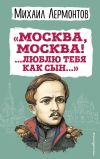Текст книги "На двух крылах свободы и смиренья"

Автор книги: Александр Кормашов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
На двух крылах свободы и смиренья
Александр Кормашов
© Александр Кормашов, 2017
ISBN 978-5-4485-3841-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
«Вновь пахнет май асфальтом и сиренью…»
Вновь пахнет май асфальтом и сиренью,
но ты меня природой не трави.
На двух крылах свободы и смиренья
летает всё, что истинно в любви.
А жизнь земна, не всё в ней мир под сенью,
и не всегда блаженства пить фиал.
Я с двух ковшей, свободы и смиренья,
и руки мыл, и жажду утолял.
И дай мне Бог, когда без слуха, зренья
уже всерьез молиться я начну,
из двух молитв, свободы и смиренья,
сложить одну.
Я вижу, таких нас двое
«В бухте Юг ветер южный…»
В бухте Юг ветер южный
и волны толчея.
Ты всегда была мужней,
а смеялась – ничья.
Это я третий лишний,
да чего уж о том.
Вертолёт цвета вишни
месит воздух винтом.
Что-то крайнюю фразу
я сказать не могу.
Две аварии сразу
на одном берегу.
Нам проститься бы надо
без терзанья судьбы.
Солнце красит помадой
кромку Обской губы.
Это всё остаётся
неразрывно с тобой:
полуночное солнце,
неумолчный прибой.
Писк приборов за дверью,
хмурый лешего взгляд.
Хоть вокруг всех деревьев
лишь цевьё да приклад.
Треплет ягодный ветер
храм мошки на крови.
Если дело не в лете,
то, наверно, в любви.
В оторочке песцовой
тонких рук полукруг.
Я тобой окольцован,
улетаю на юг.
«Я вижу, таких нас двое…»
Я вижу, таких нас двое,
нашедших тоску в печали;
зря осень осин листвою
трясёт, поводя плечами.
Но ты вся полна исхода
к началу, с первоначатью,
как будто не мать-природа —
любовница в чёрном платье.
Никто тебе не загадан,
никто не сын человечий;
в цыганскую шаль заката
закутаны твои плечи.
До всех ты была тут раньше —
людей, их самой идеи,
до всех нас, во тьму нырявших,
терявших всё, чем владели.
Одна ты стояла молча,
глядела ещё безлюбо,
лишь тонкая слюнка волчья
твои прожигала губы.
И вся ты струной звучала
самой жажды жить жаднее,
рождённая до начала,
рождённая до рожденья.
Любимо – что нелюдимо.
Любимо – что отголоски,
когда тянет прелым дымом
вчерашних лесов московских.
Так тянет, что осязаешь
всю мягкость земли и костность,
всю заросль ее и залежь,
всю адовость, рай и космос.
Тут всё, что ввергалось в хаос,
но в клеточке всплыло каждой,
тут всё, что в дыму вдыхалось,
не выдохнулось пока что.
«Я не верю в пришельцев…»
Я не верю в пришельцев,
и они в меня тоже не верят.
В том беды никакой,
и совсем небольшая потеря.
Мы, встречаясь раз в год,
не глядим друг на друга: «А кто ты?»
Мы спокойно идём —
выпить где-нибудь после работы.
Мы заходим в кафе
и находим незанятый столик.
Он военный юрист,
а она – кулинарный историк.
Я давно не вдаюсь
в объяснение фактов и сплетен.
Мне давно всё равно,
кто из нас будет инопланетен.
(Я на них и на нас
не делю две земных полусферы,
лишь жалею всех тех,
кто родился в конце нашей эры.
Где скривилось пространство,
ось времён ничего не спрямила:
основание Рима
древней сотворения мира).
Мне их трудно понять,
хоть они рассуждают иначе.
Как ни странно, для них
этот мир тоже многое значит.
Он пойдёт покурить
и уйдёт через внутренний дворик.
Он юрист, он и дома досмотрит,
как плачет историк.
Апрельское лето
Апрельское лето. Весне уже нету доверья.
Ещё пару дней, и листвою взорвутся деревья.
Ещё две недели – и солнцем обжарятся плечи.
Но выпадет снег,
и на дачах затопятся печи.
Апрельское лето. Так муторно, так беспокойно.
И воздух стоит не прозрачно, а мутно-стекольно.
И в дальних полях,
как вышагивать там ни примитесь,
везде непропитанность солнцем,
дождём непромытость.
Похмельно – бодрится природа. Смурно.
Не с того ли
в ней нет проясненья
ни мысли, ни чувства, ни воли.
Так жизнь и проходит —
бездарно, непонято, втуне.
Великих страстей и великой любви накануне!
«Как всё ещё летящий образ…»
Как всё ещё летящий образ
уже давно потухших звезд
ты вся была хрупкий отблеск
своих былых надежд и грёз.
А я был полон пустозвонства,
когда споткнулся на лету.
как луч, отпрыгнувший от солнца,
и угодивший в пустоту.
Но друг от друга нам затеплить
свою звезду ещё был шанс,
и звезды космоса ослепли
от светлоты объявшей нас.
«Не шуршится листопаду среди сосен…»
Не шуршится листопаду среди сосен,
всякий звук – как залпы Флёрова под Оршей.
Слишком тихо, слишком сонно, слишком осень.
Начитаться бы стихов сейчас побольше.
Слишком листья, чтобы прятать их по книжкам,
в каждой луже, впрочем, стынет по сугробу.
Что-то слишком в этой жизни стало «слишком»,
но пока не чересчур, и слава богу.
Лишь на даче чересчур печного жара,
под столом пустой запас боеприпасов.
Это с вашей стороны земного шара
слишком Пушкин, а у нас один Некрасов.
Вся Россия дышит как-то по-сиротски,
но не слишком – скоро станет всё, как надо.
Я брал книжку, мне казалось, это Бродский,
а всю ночь читал «В окопах Сталинграда».
Между сосен бородою чешет ливень,
гром гремит, как залпы Флёрова под Оршей…
Кот съел рыбу и как будто стал счастливей,
небо плачет всё печальнее и горше.
Бог с тобой, я не закончу, как Есенин,
хоть мы тоже не жалеем и не плачем.
Просто выпал день таким осенним —
слишком осень, и никак уже иначе.
Венера
На белых досках сарая увеличительных стеклом
было выжжено «Рождение Венеры» Боттичели.
А на сосне возле дома покачивалось под суком
кресло о трёх ножках —
качели.
В солнечный день после дождя
сосна махала креслом, словно кадилом,
а Венера рукой прикрывалась и ёжилась
полушутя:
«Надо же, вот и дождичком окатило!»
В июле стояла жара.
Зной лип как мазь,
и всё живое забивалось в щели.
Лишь Венера, собрав на затылке волосы и смеясь,
в ситцевом сарафане запрыгивала на качели.
Одуванчики, лопаясь, ей кричали: «Слезай!
Голова закружится. А вон люди идут – полундра!»
И всё чаще от смеха и солнца
янтарно-радостная слеза
проступала в глазах у Венеры в эту пору полудня.
Ведь каждый вечер,
лишь в воздух вздымалась звездная взвесь,
к ней спускался в лысеющем
нимбе
обернувшийся раненым лебедем Зевс
и клялся, что рекою Стикс,
что устроит её на Олимпе.
И в назначенный час (час дня без минут)
белый «москвич» забрал чемодан
и две сетки поклажи.
И Венера уехала поступать в институт.
А сарай к осенний дождям был покрашен.
Кактус
Сдвинул шторину вбок,
подвязал машинально тесемкой.
Воскресенье. Зима.
И весь день лишь в еде да спанье.
– Кактус! Ух ты! Цветёт!
(За окошком позёмка
пронеслась холодком по спине).
Кактус, весь он, как сувенир из круиза.
Только в комнате стало словно пыльней и пустей.
Нужно, нужно скорей к чёрту
выключить телевизор
и убрать, наконец, перекрученную постель.
Быстро под подмести,
раскидать всю посуду из мойки
и одеться скорей,
и в троллейбус вскочить кольцевой.
– Слышишь, я за тобой!
И чтоб все наши дрязги замолкли!
Возвращайся домой. И немедленно!
Кактус зацвёл.
«Лист оконного стекла в раме ветхой…»
Лист оконного стекла в раме ветхой
снизу пожелтел от брызг, треснул сбоку.
Рядом с трещиной, стуча, бьётся ветка,
словно меряясь в длину – всё без проку.
Зря ты маешься, побег мой заблудший.
В мае вытянешься, но перед маем
будут окна мыть – ляжет тут же
в пол-окна стрела сухая, прямая.
Как судьба тут всё смешала, подлюга.
Что-то в доме этом я неспокоен:
то ли ветку оттолкнул, то ли руку,
то ли трещину пустил, то ли корень.
Романс
Ровно усыпанный белыми перьями
лёд на Оке, чёрный лёд на Оке.
Двое без сна, мы встречали здесь первыми
зимний рассвет на застывшей реке.
Может, конец всем слезам и истерикам,
ты ко мне, милая, ближе прильни:
слишком призывно блестит под тем берегом
неизгладимая рябь полыньи.
Было не жаль всей открывшейся истины,
было топтать лишь не по сердцу нам
белый тот пух возле каменной пристани —
инеем лёгший вчерашний туман.
Всей той любви – только жизнь с половиною,
всей той судьбы – только вспышка во мгле.
Что же друг к другу идём мы с повинною
снова по льду, но никак по земле?
Где тот туман, лёгший белыми перьями?
Где та рука, беззаветно, в руке?
Двое без сна, мы встречали здесь первыми
зимний холодный рассвет на реке.
Интонации. Гоа
Когда я не мог стихами, я говорил с тобой прозой,
помнил, как по-словацки «смирение и свобода»,
не обнимался с пальмой,
словно с берёзой,
и не мешал утром воду с двуокисью водорода.
И ни одну словачку я не держал за дуру.
Чушь, что
«в багровый закат кровавые реки вольются». Я
лишь сказал, что великой – русскую литературу
сделала Великая Октябрьская революция.
Или наоборот, но и это скажет о многом.
В Индии очень много собак,
и каждую зовут Альмой.
Ночью здесь хорошо быть собакой,
а ещё лучше йогом,
чтоб, как с чужой женой, обниматься с пальмой.
Всё это, знаю, прорехи жалкого идейного скарба,
или, не знаю, происки чёрного гоанского рома.
Кстати,
в Словакии на Рождество едят не краба, а карпа.
Да, вероятно, нам лучше было остаться дома.
Сонет
Твой карий глаз каурой жеребицы,
Под гривой пот и пена под седлом…
Но вновь седлать – лишь тем верней убиться,
А запрягать – всё разметать кругом.
Слипалась ночь в один горячий сгусток,
Тянулась жизнь, мгновеньями дробя,
Но даже на короткий недоуздок
Никто не смог взять, гордую, тебя.
Когда сейчас неоновой тропой
Ты в ближний бар идешь на водопой,
Где дым слоится, как туман прибрежный,
Из слов твоих там мало что поймут,
Как ты любила вожжи и хомут
И чем был сладок этот скрип тележный.
Островок безопасности
Как-то столкнувшись лицом к лицу
на островке безопасности,
мы встали бок о бок, изобразив
разъятого в плоскости двуликого Януса.
Листья каштана перебегали асфальт
мигрирующими зелеными крабами
и под колесами гибли. Только один
спасся, мне на ботинок вскарабкавшись.
Шла ты туда, откуда шел я. И я
шел в твое прошлое, как и ты в мое прошлое.
В них мы уже врезались бы, лишь
сделай вперед по шагу. И, может быть,
вечность, что так прошла, вся и была любовь,
там, на островке безопасности,
пока лист каштана не залепил светофор,
пока мы изображали двуликого Януса.
«Измеряющая жизнь стихотворениями…»
Измеряющая жизнь стихотворениями,
ты прости меня,«года» и «годы» путающего
как безграмотного
в категориях и формах времени
настоящего, прошедшего и будущего.
Если жизнь – сближенье сущего и должного,
я не жил ещё, упрямый и набычившийся:
где в любви нет прошлого продолженного,
остаётся только бывшее несбывшееся.
Ты глаголом жгла, актриса драматическая,
я мосты жёг из-за слова опрометчивого…
Жаль, всё так сложилось грамматически
только в форме настоящего прошедшего.
«Твои глаза глядят без поволоки…»
Твои глаза глядят без поволоки,
без приближенья линз,
всё тот же взгляд, спокойный и пологий,
как жизнь – всё вдаль и вниз.
Всё тот же путь приготовленья таинств
в купели иль в котле,
и шорох век, и губ лукавый танец —
последний на Земле.
Что дальше там – бессмысленная вечность,
усталость октября,
и никого, кто б мог, вочеловечась,
мне заменить тебя.
Безвидный мир, без отблеска и эха,
томленье спёртых душ…
Скажи теперь, что жизнь всего лишь веха —
да ладно уж.
Ты жизнь сама, слиянье тьмы и света,
тревожность бытия.
Ты всё живое, чем жива планета,
вот всё, что знаю я.
Пусть ждёт дыра, та чёрная, сквозная,
прореха из прорех…
Куда мы шли – я это не знаю,
но только вдаль и вверх.
«Общежитие затихало, смолк разговор за стеной…»
Общежитие затихало, смолк разговор за стеной,
лунный свет брёл стульям и сброшенному белью.
Полуприкрытые единственной простыней,
мы разбирали, что значит слово «люблю».
Ты говорила, это слово поёт, как щегол,
или так в солнечных бликах река бурлит…
Я говорил, это прежде всего глагол,
первое лицо, настоящее время,
несовершенный вид.
Ты говорила, это души само естество,
это лилии белой едва народившийся узелок…
Я говорил, это так, но прежде всего —
изъявительное наклонение и активный залог.
Солнце вышло из-за соседних крыш,
ты двинулась к двери по солнечному лучу…
Годы прошли, ты говоришь, говоришь,
ты говоришь – я молчу, молчу и молчу.
«Нынче её поцелуй прерывист…»
Нынче её поцелуй прерывист
так же, как и затяжка её сигаретой,
и ты свой гонор умерь, строптивец,
и зря разговором её не преследуй.
Зря не ломись к этой комнатке опустелой
за стенкою лба в капельках пота звёздных,
а лишь поцелуями считывай тело,
с тонкой кожи её собирая воздух.
Нынче ей в тягость каждое твоё слово.
Дай волю тайне,
тайной, как тайна подводного лова.
Не думай, куда это всё утянет.
Утром, когда ты уйдёшь, она не проснётся,
и для наползающего разрыва
ты не найдешь резона, даже резонца,
и все сомнения прочь отведёшь брезгливо.
Может быть, это рок пригрозил хитро вам,
или где-то в ночи плавбаза нахватал пробоин,
или в лондонском аэропорте Хитроу
рисково садился и чуть не разбился «Боинг».
«Пускай мне не будет иного пути…»
Пускай мне не будет иного пути,
а только работа с восьми до пяти,
а после работы не письменный стол —
верстак, огород да коровы растёл.
Сапог мой испанский, ты ногу пусти,
а я отрубился, я сплю до шести.
И сон мой не будет исчерпан до дна,
чтоб в сон мой никак не проникла она.
Не та у ней сила, не та у ней мочь,
и сны о ней горько проходят обочь.
Пусть бродят по улице, я им не мщу,
но в дом не пущу, когда кошку впущу.
Когда же я кошку впущу-таки в дом,
то что-то, наверно, припомню с трудом.
А после, в обед, бросив бензопилу,
допомню, как брошу картошку в золу.
Но злой и негибкий, как старая жердь,
я буду жалеть только осени желть.
А если когда и открою тетрадь,
одно, как безумный, начну повторять:
О, милая, лживая, чёртова ты!
Тебя ни с какой не увижу черты,
тебя ни в каком не увижу окне,
ни в дуле, ни в проруби, ни в стакане…
Из всех чудес – одно лишь чудо есть
«Из всех чудес – одно лишь чудо есть…»
Из всех чудес – одно лишь чудо есть:
мир так велик, а я родился здесь;
и в добрый век здесь беззаботно рос
среди берёз и тракторных колёс.
Здесь был мой дом – от окон до небес,
здесь травы обступали, словно лес,
и бабочки летали будь здоров,
как книжки из затерянных миров.
Тут предо мной такой открылся мир,
он так слепил, зачитанный до дыр,
что свет его, как солнце сквозь листву,
я сквозь страницы видел наяву.
С тех пор всю жизнь я верю в этот свет,
в его тепло с неназванных планет,
в тот мотыльковый космос, что возник,
из света, солнца, воздуха и книг.
«Когда рождается дитё…»
Когда рождается дитё
за тканью звездных ширм,
то как хрустальное дутьё
рождается наш мир.
Какой красивй это труд —
рожденье звонких детств.
Я стеклодува стукну в грудь:
– Ну, парень, молодец!
«Мы цветов на букеты не рвали…»
Мы цветов на букеты не рвали,
мы босыми носились в лугах,
лишь головки цветов застревали
между пальцев на наших ногах.
Ну, а нам бы что поинтересней,
чем вот так разглядеть впопыхах
тех цветов неподдельные перстни
на исхлёстанных наших ногах.
Молния
По полю люпина
ступала корова – ну прям королевна!
А тучи уже тяжело, как лепнина,
висели над полем рельефно.
Не будь той коровы
(поди, уж её обыскались, вражину)
и я бы не встал за здорово
живёшь под сосну без вершины,
где, как в кинозале,
когда в темноте оборвёт кинопленку,
трах молния – зарево зарев! —
в меня и сосну, и бурёнку.
Те жёлтые токи
спаяли всех нас, всех троих воедино.
Я рвался из огненной тоги,
в чужие миры уводимый.
И вкруг меня плыли
мои возраста, будто скок из матрешки,
и в первом, мохнатом от пыли,
я был босиком и в матроске.
И будто я клянчил
у мамы, но только безмолвней, безмолвней,
рисунок сосны – одуванчик
от понавтыкавшихся молний…
Очнулся. Трухлявость
в руках и ногах. Встал, свинцовоголовый.
Сосна от дождя отряхалась,
люпин поедала корова.
В том поле просторном
качаясь (корова качалась поодаль),
познал я родство не родство, но
какую-то сцепку с природой.
Что нет меня чисто,
как чисто людей не бывает в природе,
и смерть убивает – бесчинство —
не насмерть, а только навроде.
Наверно, крамольней
не думал. Вернулся я, как из разведки,
к своим, где не ведают молний,
лишь пальцами лезут в розетки.
Корова Икона
Корова Икона (белая морда с рыжей каймою),
что же ты вспомнилась, скажи на милость?
Сыто подойник гудел, «как перед войною»…
Икона, на тебя и вправду молились!
Твой белый лик был бабушкой зацелован.
Вымя твое светилось в хлеву, как Иисуса тельце.
Ты молоком поила даже свирепого зайцелова
кота Заломайко (уши заломаны в детстве).
Тебя бы по справедливости в красный угол,
а ты коченела всю зиму костлявою ряскорякой.
А по весне тяжело уходила от плуга,
а тот планету держал как якорь.
Говорят, что Будда в одном из своих превращений
сам на себе испробовал эту шкуру коровью,
оттого-то и нет у индусов
скотины священней.
Только и Русь к ней, корове,
с дочерней любовью.
За потраву чужого овса проткнутая жердью,
Икона лежала за гумном в крапиве
и молча мучалась перед смертью,
а обломок жерди качался в боку,
как бивень.
Не стало Иконы, мир стал для бабушки шаток.
Не молиться же на маслозавод-химеру!
Может, поэтому, когда ей перевалило
на восьмой десяток,
бабушка перешла в старую веру.
«Заблудится солнце…»
Заблудится солнце
в лохматых верхушках деревьев,
запрыгает белкой
по лапам размашистых сосен,
и будет то время —
мы снова вернёмся в деревню,
в простую и тихую, старую добрую осень.
Про просекам узким пройдём,
стороной полуголой,
по вырубкам, пашням,
оврагам, селеньям, угорам.
Дождь морды лосей
будет гладить рукой невеселой,
и камни у поля
застынут в раздумье нескором.
Нас город всё держит,
а осень уже на исходе.
И снег на рассвете
сырого коснётся.
А ночью мне снится:
нарушилось что-то в природе,
и, словно за белкой,
рванули собаки
за солнцем…
Бор
Сменяются времена года.
Но не в беломошном бору.
В нём ничто не меняется.
Он всегда в постоянстве неком.
Только лишь белый мох
– шкурой белого медведя на полу —
раз в году чистится белым, как сам он, снегом.
Мчатся лето, весна, зима – стороной.
Стороной осень – ликом иконописным.
Стороной прошли первобытно-общинный строй,
рабовладельческий, феодализмы, капитализмы…
И только время в бору стоит, как в графине вода,
и совершенно не зависит от своего далёкого
праначала.
Видимо, здешнее время вообще никогда
никаким таким свойством материи
себя не считало.
Поэтому тетерев в воздухе может встать,
как ветряк,
и долго стоять в раздумье – крылья провисли.
Поэтому телеграфными проводами
лежат на ветвях
следы прыгавшей с дерева на дерево рыси.
И сосны стоят, будто в каждую втиснут взрыв,
будто весь бор, по сути, мартиролог,
картотека,
где в хвою сосновую с помощью римских цифр
внесены данные на каждого
когда-либо жившего человека.
Косачи
Просыпаюсь утрами, оттого что над ухом ручей
всё журчит и журчит.
Это вновь косачи, видит бог,
под латунные ножницы утренних первых лучей
тянут шеи блаженно, и падают головы в мох.
Их отвёрстые горла клокочут одно лишь
«чу-фыр-р…»
Я под песенку эту,
над речушкой болотной застыв,
выгребаю из чайника
плотный вчерашний чифирь,
он в воде превращается
в перевёрнутый ядерный взрыв.
А в глаза светит солнце,
светит так горячо и рыжо,
что не верится снова,
что снова какой-нибудь псих
(но не я уж сегодня),
спросонья схвативши ружьё,
побежит к косачам.
Только разве обманешь ты их!
Ну-ко кыш, лягушонок!
Не лезь-ка ты в чайник, малыш.
Есть в селе нашем женщина,
только вот не из села,
а из города, вот… Она тоже видала Париж,
как Высоцкий поёт.
А уж в Вологде век прожила.
Жаль, я в школе учил не французский,
а шпрехен зи дойч, и мне трудно найти с ней
какой-нибудь общий язык,
как находит его её пятилетняя дочь,
то есть дочка моя —
чтобы сразу вопрос не возник.
Я с той женщиной ныне говорю тяжело и длинно,
а глаза её серые (дочь меня в гости зовет)
вроде дульного среза «мелкашки»,
чей выпуск давно в славном городе Туле
оружейный наладил завод.
Безголовым зовёт меня мать. Я давно безголов.
Возвращаюсь к костру, к мужикам,
уж и то бы добро,
чтоб какой-нибудь псих вдарил в свет
из обоих стволов,
и пусть падает чайник из правой руки,
а из левой – ведро.
«Я ту любил, с которой спал…»
Я ту любил, с которой спал
и на селе известен стал
всем от последнего хмыря
до первого секретаря.
И впечатленьем потрясён,
узнал я слово imprecion.
Ну, а её народ стал звать
чему и рифма есть «влюблять».
Но смог я в бешенстве послать
сначала лишь отца и мать;
плевала тихая родня
на прокажённого меня.
И даже друг кривиться стал:
«Влюбиться в ту, с которой спал?»
И ржали недруги мои:
«Иди коров своих дои!»
А та, с которой я не спал,
внушала всем, что я пропал,
и плёлся я – бес ей в ребро! —
на комсомольское бюро.
А та, к которой шёл я спать,
через село крадясь, как тать,
не знала, как мне пособить,
она могла лишь так любить.
А я, воинственен и груб,
тащил её на танцы в клуб,
пытаясь так от всех скрывать,
что с ней у нас одна кровать.
Но раз она сказала: «Ой,
что натворили мы с тобой!»
И я, конечно, сгоряча
стреляться стал из пугача.
Она уехала: «Ах, как б
мне жизнь была от ваших баб!
И как б карьера не тю-тю,
а ты, действительно, m’aimes-tu?»
А я и вправду je l’aimais,
но был в войсках уже к зиме,
и долго мир ещё не знал,
каким я был и с кем я спал.
«По клюкву ехали бабы…»
По клюкву ехали бабы
на тракторных санях-волокушах,
что зверски подбрасывали на ухабах,
зато не тонули в лужах.
Пели бабы: «Ой, летят утки» —
и жались друг к другу, фуфайка к фуфайке.
Лишь одна, в красной спортивной куртке,
не пела и горела как факел.
С пяти утра бабы тряслись желейным грузом,
лишь изредка взвизгивая: «Держись-ся!»
И с веток роса падала всем на рейтузы,
а одной – на джинсы.
Сани ползли, два венца от узкого сруба,
грязь расплёскивая в виде крыльев.
Бабы косились и поджимали губы:
одна курила.
Тракторист проклинал дорожку,
ад, мол, кромешный,
и, оборачиваясь, ногтём по щетине крябал.
Он и не думал, что на санях на бабу меньше,
на ту,
что себя не считала бабой.
Он думал, что езда его притомила,
а что насчёт жизни, то она ведь идёт по кругу.
И каждую осень, наверное, от сотворения мира,
бабы едут по клюкву.