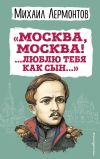Текст книги "На двух крылах свободы и смиренья"

Автор книги: Александр Кормашов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Сазан
Наверное, солнце над Волгой
только затем и встаёт,
чтобы увидеть, как из воды выпрыгивает сазан.
Немой восторг ему раздирает рот,
и воздух шипит в чешуе, как нарзан.
Я пью, замирая, этот бокал золотой
и чокаюсь им с танкером «Волганефть»,
что скатерть реки стягивает…
– Постой! —
…под стол или за поворот, и нет.
И пляшут глупые поплавки на волнах,
и почки мне греет солнца камин.
Клюёт! Подсека… – Не на раз-два-три, а на ах! —
…ай! Блин, сорвалась, к чертям, к водяным ли,
к ним.
И падает вдруг из рук бокал золотой.
На счастье, шепчу, на счастье… —
Даб-дах-х!
Пускай не продержится сладость на нёбе, зато
продержится вкус дождевых червей на губах.
Чеговек
«Чего это трактор виляет колесами,
словно навеселе?
Чего этот дождик сейчас не такой,
как в прошлый четверг?»
На тысячу человек в городе и селе
приходится один чеговек.
Мне нравится чеговеческая порода людей,
удивляющаяся бескорытсно, за просто так:
«Куда летит облаков кудель?
В какую долю версты верстак?»
Порой человек еще и не думает: «Как? Почему?»
А чеговек уже удивлен: «Чего это, а?»
Человеку порой отвечают: «По кочану!»
Чеговека вообще замечают едва.
Но когда получается, что льдами затёрт
Земли горящий и разваливающийся ковчег,
человек к человеку бежит и задаёт
самый чеговечный вопрос:
«Ты человек?»
«Тот мальчишка спросил, был мальчишка глазаст…»
Тот мальчишка спросил, был мальчишка глазаст:
– Отчего это, дядя, всегда
вкруг деревьев кольцом опускается наст?
Оттого что живые? —Ну да.
И мальчишка опять, был мальчишка непрост:
– А бетонные эти столбы.
Отчего вокруг них тоже? – Наивный вопрос!
Я ответил бы, знал если бы.
Но язык, как на грех, у меня заплело,
у него же он, как у змеи:
– Ну чего же ты, дядя! Ведь это ж тепло
поступает по ним из земли.
И ушёл он, коленкой стуча о портфель,
где гремел ученичества скарб,
и над ним в синем воздухе вился трофей —
мой учёный с залысиной скальп.
Он шагал, распахнувшись и грудь оголя,
словно видел задачу свою
в согреванье продрогшей Земля
всеми тридцать шестью и шестью.
«Я чуть свихнуться не сподобился…»
Я чуть свихнуться не сподобился
– каким был, право, был шизе! —
когда вчера, сойдя с автобуса
спускался к дачам по шоссе.
И встретил яблоню. Вот именно,
что встретил. Прямо по земле
она шла кукольно-мультфильменно
на трёх подпорах и стволе.
«Ты что! Ты что! Куда ты, яблоня?
Назад! Вернёшься ведь. Шалишь!»
Но ветви тихо и расслабленно
в ответ мне прошептали: «Шиш-ш».
И снова: «Шиш-ш». В субботу с фабрики
на дачи люди шли – им встречь
шла яблоня, теряя яблоки
и гордо так, что не перечь.
А люди яблоки помятые
с дорожки поднимали: «Что ж.
Ну, раз идёт, так, значит, надо ей.
Природа! Против не попрёшь».
Не думал я, что так по-доброму
воспримет это всё народ.
Стоял я с яблоком подобранным,
и яблоко не лезло в рот.
И быль библейского сказания
никак из памяти не шла.
Обычный страх перед познанием
обычного добра и зла.
Песня
Не стану жить, всё снова начиная,
останусь там, где стынут корабли,
где Солнце, словно звёздочка ночная,
так неприметно светит издали.
Расстрою всех, кто смотрит на дорогу:
не та дорога, чтобы в дивный сад…
Мне жизнь кидала сразу и помногу,
мне лень тащиться с этим всем назад.
Но тем, кто чаял солнца в дни ненастья,
поставившим на горизонт свечу,
в последний час я пожелаю счастья
и этот свет забыть не захочу.
Почти не выдуманная история
Бросалась сердито и хмуро
на берег скалистый волна,
вдруг шляпка над морем вспорхнула
и в даль полетела одна.
Летела она, словно птица,
потом, словно остров, плыла,
тесёмкой своей зацепиться
никак ни за что не могла.
В том было ни капли кокетства —
глубок мировой океан,
но шляпка нашла наконец-то
уснувший подводный вулкан.
И тут же к ней пляжные тапки
прибило, и зонт, и лежак,
чтоб остров летающей шляпки
в воде не лежал просто так.
Чтоб жёлтый песок в два момента
на влажных намылся краях
и пальмы зелёною лентой
у шляпки взошли на полях.
Чтоб после всю ночь и день целый
на берег взбегала волна,
и в платье с оборкою белой
вдоль пляжа гуляла она.
«Он был угрюмый домашний мыш…»
Он был угрюмый домашний мыш,
она – бродячая кошь.
Он ей с порога шептал: «Кыш-кыш.
Голодная ты, небошь».
Он ей шовал мяшное филе,
она же: «Мерси, месье!»
Пока любовь царит на Земле,
никто никого не сье.
«Я вам скажу без всяких выдумок…»
Я вам скажу без всяких выдумок:
у нашей кошки пять котят —
три видимых и два невидимых,
но все пищат и есть хотят.
Нет, мы с историями жуткими
никак не связываем их…
Их видно всех, но с промежутками
тех, что невидимы, двоих.
Что их не видно – не в обиде мы.
Нас тоже, дело не в числе,
нас тоже видимо-невидимо,
как этих кошек на земле.
«Есть в космосе коварный астероид…»
Есть в космосе коварный астероид,
в кротовых норах он живёт, как крот,
и только разум что-нибудь построит,
он прилетит и запросто сотрёт.
Пусть даже с дружелюбным интерфейсом
он на контакт идти не норовит,
а действует безжалостно Backspace’ом,
а то и сразу Ctrl+Alt+Delete.
Великий ум тут пашет всё и роет,
рождая в муках каждый свой абзац,
а прилетает этот истероид
и лапой по клавиатуре – бац!
Менуэт
На столе лист бумаги.
Под столом хвост дворняги.
Печка догорает,
Радио играет
Менуэт Баха.
Менуэт звучит Баха.
Вот и жизнь прошла, бляха.
«Шея, как у колбы.
Он всегда такой был» —
Скажут там, в школе.
Или скажут там, в школе:
«Он с ума сошёл, что ли?»
А она, наверно:
«Фи, как всё манерно!»
Просто ей по фиг.
Просто ей-то всё по фиг.
Ты худой, как дистрофик.
От любви-болезни
Всех микстур полезней
Только смерть в муках.
Только жизнь и смерть в муках
Вся у Баха есть в фугах.
Для иной бодяги
Есть листок бумаги,
А на ней – муха.
На листке сидит муха.
Нос крючком и два уха.
Говорит словами:
«Я устала с вами,
Умываю лапки».
Умывай, давай, лапки!
Над столом висят тапки.
Что-то много хруста,
Отвалилась люстра.
Жил-был-бах, что ли?
Жил-был Бах, и всё, что ли?
Что теперь сказать в школе?
Всех люблю сердечно,
Но в ушах навечно
Менуэт Баха.
Портрет женщины в Интернете
Ребёнок, мама, ноутбук,
любимый стол, родной утюг,
был муж (и свой), есть друг женатый.
Машина есть, хоть не нужна,
собака – тоже быть должна,
работа – жить-то всё же надо.
Слегка кино, слегка театр,
в шадящих дозах боди-арт,
роман короткий со стихами.
Есть сто подруг, но близких две,
план выйти замуж в голове
и план купить квартиру маме.
До кучи – только интернет,
два ящика на pisem.net,
игра в знакомства на LovePlanet,
в «Живом журнале» свой дневник
(пятнадцать userpic на ник;
то часть убьёт, то часть заменит).
По блогам ходит, но френдит
одних унылых Афродит,
хотя и взвиться может или
изобразить жестокий блуд
и быть забаненной за флуд…
Всю ночь без сна, и утро – в мыле.
И в офисе, пусть дел поток,
найдёт историй штук пяток,
мечась меж «аською» и «вордом»,
про то, как мужика встряхнуть
и что с ним сделать, чтобы путь,
путь к сердцу женщины был твёрдым.
Конечно, стыд, конечно, страх,
конечно, полный недотрах,
за малым дело, или всё же…
И до и после тридцати
волчицей, воющей в сети,
она себя и всех тревожит.
Ложится на капот листва,
вновь пробке быть часа на два,
и дома быть в раздрае диком.
Ребёнок, мама, ноутбук…
А если вдруг? А если друг?
Вся жизнь за следующим кликом.
Гламурка и Духовка
Двух кошек, Гламурку с Духовкой,
подбросил мне как-то приятель.
Отказывать было неловко:
приятель – солидный издатель.
Мне с ними возиться, ну, типа
пойти без семерок на мизер,
я корму им, сукам, насыпал,
включил для них, сук, телевизор.
Я груб, но простите уж, нервы,
тут нервные все мы, в Абруццо.
Сидят на диване две стервы
и, ну, ни на миг не заткнутся.
– Ллойд Вебер сейчас как Бетховен!
– Иди ты до Марфы Петровны!
– Верховен, как Сталин, верховен!
– Все фильмы с Духовны – духовны!
Я бью их обеих шумовкой,
им – как прикурить от окурка.
Духовка качает головкой,
мурлыкает сладко Гламурка.
Мне снятся Собчак и Новалис,
всю ночь я от кошек шалею.
Ну ладно, в ногах бы валялись,
нет, лезут заразы на шею.
Одна страстно лижет мне в ухо,
другая – в губу коготками,
одна о величии духа,
другая: «Будь вежливей к даме!»
Я знаю, нет лучше Духовки.
я знаю, нет хуже Гламурки…
Хватило одной лишь верёвки
да мыла – чтоб выделать шкурки.
Издатель был жутко обижен.
Купил для него антимоли.
Давно уж его я не вижу.
Пишу вот стишки и доволен.
Читая Сэмюеля Пипса
«Видел всю коронацию Карла. Давка и толкотня.
Жутко хотелось писать:
дул прямо из бочки эль…»
Сэмюэль Пипс обмакнул перо
и завершил описание дня:
«Засим – домой, ужинать и в постель».
«Слышь, у меня тут чирей, —
сказал сэр Генри Вейн палачу.
И приставил к шее ладонь: – Руби вот отсель».
Сэмюэль Пипс захлопнул дневник и задул свечу.
Засим – домой, ужинать и в постель.
«Молодцы в длинных кафтанах,
у многих по соколу на руке.
Ну, и чего мы смеёмся
над выходцами из дальних земель?
В Лондон въехал русский посол…» —
пишет Сэмюэль в дневнике.
Засим – домой, ужинать и в постель.
«Наш флот разбит! В Темзе голландские корабли!
Как-то тревожно:
от жены никаких вестей.
Триста гиней зашил себе в пояс. Ну, еле вошли».
Засим – домой, ужинать и в постель.
«Ночью заполыхало в Сити.
Джейн: «Ты с ума! Постой!»
Плавал туда на лодке – огонь, вода и бордель.
Вспомнил:
а год-то шестьсот шестьдесят шестой!»
Засим – домой, ужинать и в постель.
«Слышал от капитана Феррета:
одна из дам на балу
выкинула во время па. Одно и сказать, фортель.
Весь день хожу и вижу кровавый плод на полу…»
Засим – домой, ужинать и в постель.
«Утром в Парламенте делал доклад,
болтал четыре часа.
Назван был лучшим оратором мира! Да неужель?
Пили в таверне «Голова короля», смеялись,
я чуть не усса…»
Засим – домой, ужинать и в постель.
«Принял жену корабельщика Бэгвелла,
у меня с ним дела,
Сразу отправил домой – чего тянуть канитель?
Только стемнело, я к ней.
Поломалась, но всё же дала».
Засим – домой, ужинать и в постель.
«Ночью читал «Гидростатику» Бойля:
Джейн не пускала к себе,
крыла похотливой скотиной,
что лезет в каждую щель.
Завтра зайду к мисс Уиллет —
но лишь как участвующий в судьбе…»
Засим – домой, ужинать и в постель.
«Вот уж Страстная, а мы ещё не постились, грех.
Повару заказал только гренки и рыбу au naturel.
В церкви пропели 101-ый псалом
на мотив 20-го – смех!»
Засим – домой, ужинать и в постель.
«Плохо стал видеть и еле пишу,
и уже устал шифровать.
Много бы дали и Джейн, и король…» —
скребёт пером Сэмюэль…
А уж на небе облачная перина,
и месяц двурогий – кровать.
Засим – домой, ужинать и в постель.
Прямитель берёз
«Прямитель берёз и родных осин…»
Прямитель берёз и родных осин,
кривитель дорог и рек,
и даже копатель болот и трясин,
ты русскому духу отец и сын,
и сын и отец вовек.
Тут церковь и свечи, темны образа,
там – день, мужики, гараж.
Неважно, где бог, кто был против и за,
пока дым Отечества ест глаза
и дым этот вечно – наш.
Лишь вдуматься, жаль, что так тесен мир,
не скучен, а тесен, весь,
и что наши дети, глаза в растопыр,
пробьют горизонты всех чёрных дыр,
а мы вечно будем здесь.
«Вы обо мне легко взгрустните…»
Вы обо мне легко взгрустните,
по-детски слезы вмиг утёрши,
как будто с кустика брусники
сбруснули ягоды пригоршней.
И не гадайте, вверх ли, вниз ли
меня Господь с земли повыпер.
Он так максималистски мыслит:
не в рай, так в ад – вот весь и выбор.
Всё так. Я умер. Вы остались.
Нигде ни грома, ни обвала.
Ни всплеска среди сонных стариц,
где караси в ладонь – бывало.
Я умер. Завтра снова будни.
Вам на работу, мне… Над ухом
какой-то серебристый спутник
кружит назойливо, как муха.
«Нет строже картины, и нет бесшабашней…»
Нет строже картины, и нет бесшабашней,
когда устремлённая в звёздный простор,
стартует ракетою Спасская башня,
и Красная площадь ей стартовый стол.
Должно быть, нам просто не видно не отлучек,
когда она в космосе пишет круги
с горящим рубиновым пятилучьем —
сигналом к пожатью готовой руки.
Мы видим: стоит, как стояла веками,
лишь те мастера знали всё наперед,
что клали – да так! – красногрудые камни,
как будто России готовили взлёт.
Есть право быть первым, но без превосходства.
Не раз по равнинам суровых планет
проступит сквозь памятник первопроходцам
кремлёвский взмывающий силуэт.
«Человек, ты рождён великаном!..»
Человек, ты рождён великаном!
Пусть пока ты кроха их крох,
пусть от маточных вод океана
ты ещё не совсем обсох.
Ты спешишь возмужать на воле,
прикурить от солнца костра;
в твоих лёгочных альвеолах
всей планеты воют ветра.
У тебя ещё детский возраст
и года не векам под стать,
а какая должна быть взрослость —
не берёмся сейчас гадать.
Может, просто придётся как-то
подсчитать потом без затей
все вихры белобрысых галактик
на макушках твоих детей.
«Ты, Земля, мне приснилась…»
Ты, Земля, мне приснилась,
ты шла по орбитному кругу,
словно сивая лошадь
(вот такой уж привиделась ты),
И привычное небо было меньше обычного луга,
то и дело ты звёзды щипала как будто цветы.
В стороне метеоры вихрили своё авторалли,
ну, а ты шла по кругу не сказочней прочих кобыл.
И дожди, словно щётки,
бока у тебя протирали
и из шерсти лесов вымывали дорожную пыль.
Но к тебе подошли и сказали:
«Будь умницей, лошадь».
А вот кто подошёл, не скажу —
то был всё-таки сон.
Чую: вот запрягут и седёлко на спину положат,
и наладят дугу и затянут потуже супонь…
Запрягли. Запрягли. Ты стояла и глазом косила.
Хлопнул кнут, как салюта торжественный залп.
Ты так долго копила свои лошадиные силы,
но вот сел человек и
«поехали» просто сказал.
«Когда мир сходит с ума от варений, солений…»
Когда мир сходит с ума от варений, солений,
в эти вот августовские ночи
слышно,
как растёт одиночество Земли во Вселенной
вследствие наших земных одиночеств.
О ты, бесподобно безродный пес мой Керя,
как ты одинокость знавал, не знал никто так,
ту самую, что и поэту уже не находка
– потеря,
и врут все бюро потерь,
что они-то «Бюро находок».
Никто не востребует оборванные нами связи,
соседское гутен морген растает в фата-моргане,
родные пенаты потонут в чужом
очерковом рассказе,
и круги своя пропадут – на воде кругами.
Одно одиночество, безгласное и слепое,
съедает пространство, и дыры, слипаясь вместе,
наводят вокруг Земли силовое поле
от ближних орбит
до самых дальних созвездий.
Он в чём-то и прав (день осени кормит зиму)
наш замкнутый и вымирающий этнос,
и дальние разумы шлемы угрюмо снимут,
нас огибая, как зачумленную местность.
«Я машина с пробегом…»
Я машина с пробегом.
У меня небольшой пробег,
но год выпуска всё равно ничего не скажет.
Век машины не то, что человеческий век,
и ещё —
никакого сравнения с водительским стажем.
Я машина известной марки, уточнять ни к чему.
Я неяркого цвета, но водитель считает, что я
«маркАя».
С ударением в конце.
Хотя ежели по уму,
говорить надо «мАркая», типа «яркая». Я моргаю.
Он мне вовсе не бог. И не друг, и не брат —
человек.
Он всего лишь не любит
общественный транспорт.
Я вся жизнь для него, его дом и стол, и ночлег.
Не хватает его фотографии,
вклеенной в мой техпаспорт.
Он считает, что жизнь – это медленный суицид.
И когда он во мне открывает дверцу, садится…
нет, он вовсе не тот, «который во мне сидит»,
но я даже не знаю, чего в нём больше:
мазохиста или садиста.
Я – машина, железо, запчасть без души,
ну да ладно, не суть.
Не животное даже, неодушевлённое, но живое.
Я едина с дорогой. По большому счёту я путь,
а не средство передвижения,
механическое или гужевое.
Не ведро, не телега, не тачка, не упряжка коней.
Весь мой путь – от материи косной
к живой и разумной,
и дальше
к неживой и разумной материи, к ней,
созидающей что-то и чего-то уже создавшей.
Но – машина. С пробегом.
С подтечками масла и просадкой пружин.
С человеком внутри,
как с болезнью, похожей на возраст.
То, что я выделяюсь
во вселенском потоке машин,
суть его стиль вождения, глум,
где-то наглость и борзость.
Я – не он. Я машина до самых своих потрохов,
Я дорога из ста чёрных, белых полос,
пикников и обочин.
Это он, чуть родившись,
везёт свой багажник грехов.
Я – не он. Мой приход в этот мир непорочен.
И тогда я увидел тебя
«На зелёной воде…»
На зелёной воде,
где опавшие листья, как солнечные зайчики,
белый лебедь
спит
посредине пруда,
засунув голову под крыло
и ме-едленно кружась.
Кругом там невозможно тихо,
что кажется,
это собственное вращение Земли
то и дело
поворачивает птицу против часовой стрелки,
или
таким образом проявляет себя
вращательный момент Вселенной.
Хотя, может быть, у этого лебедя
просто такая привычка:
во сне
пошевеливать правой лапой.
«Котёнок ловит снежинки …»
Котёнок ловит снежинки —
замедляют шаг прохожие,
автомобили сбрасывают газ,
реактивный перехватчик перевернулся на спину
и
завис так
на мгновение.
Луна чуточку приблизилась к Земле
(учёные бросились высчитывать отклонение),
Солнце поближе притянуло Землю
(учёным опять работа),
что-то шевельнулось в звёздных туманностях,
и у пульсаров резко участился пульс.
Даже разбегающиеся галактики
на секунду остановились,
словно кто-то надувал воздушный шарик
и сделал паузу,
чтобы набрать воздуха…
А всё почему?
А всё потому, что не так уж часто
котёнок ловит снежинки.
«И тогда я увидел тебя…»
И тогда я увидел тебя.
Ты шла по небу, как по огромному малиннику,
и,
как ветви, обсыпанные ягодами,
телом своим раздвигала созвездия.
Луну, жёлтым эмалированным бидончиком
ты держала перед собой.
«Я рисовал твой портрет…»
Я рисовал твой портрет.
Измазал краски, истёр кисти.
Завалил комнату холстами и картоном…
– всё убого.
Тогда я вцепился в Солнце
и выкатил его из гравитационной ямы.
«Это будет твой рот», – объяснил себе я.
(Хотя, что знаю, что твои губы
намного горячей солнца).
Ночью,
чтобы никто не видел,
я распилил Землю по Гринвичскому меридиану
и растащил половинки поодаль.
«Это будут твои глаза». (Хотя даже
космонавту из-за тридевяти галактик
Земля не скажет больше,
чем говорят глаза твои
мне).
Я разломал астероидное кольцо
и поместил два обломка там,
где должны быть брови,
и космос густо размазал вокруг
наподобие твоих чёрных с серебринкой волос,
а сбоку прицепил комету Галлея вместо заколки.
А потом я привёл тебя и показал твой портрет.
«Ничего, – улыбнулась ты. —
Но, конечно, если взять в рамочку.
У меня над столом
как раз
есть свободное место».
«Индусы не знали, что камасутра…»
Индусы не знали, что камасутра
это зашифрованный алфавит,
и ввели в заблуждение весь мир.
Они вообще не знали, что это алфавит
и что он зашифрован,
и знать не знали, откуда он взялся.
Они просто думали, что это всё про секс.
Шестьдесят четыре позиции. Или восемь групп
по восемь позиций в каждой.
А это просто шестьдесят четыре буквы,
разбитые на гласные и согласные,
несогласные и полусогласные.
Потому что у любви и продолжения рода
очень сложный язык, и Вселенная
говорит на нём, мало думая о нас.
Любовь не спрашивает согласия,
как и нашего согласия на появление на этот свет
не спрашивал никто никогда.
Посмотрите ещё раз на эти буквы
и скажите спасибо, что пока нас не заставляли
учить этот алфавит до конца.
На другой планете или в другой жизни,
уж поверьте, такой поблажки
нам, может, и не будет.
«Когда Земля была ещё плоская, как блин…»
Когда Земля была ещё плоская, как блин,
кто-то наверное уже говорил,
что на самом-то деле она,
Земля,
круглая,
как колобок.
Но ему, конечно, не верили,
потому что все точно видели,
что Земля плоская,
как блин.
Вон и Луна, говорили, плоская, как блин.
Когда мы с ним коротаем ночь у костра
и мой потомок мне говорит,
что Земля никакая не колобок,
а в реальности это бублик —
«Вот поверь, па, Земля точно бублик!» —
я ему, конечно, не верю,
потому что отлично вижу,
что Земля круглая,
как колобок.
Вон и Луна, говорю, такой же колобок.
И лишь когда моя голова начинает вскипать
от невозможности понять то,
чего я никак не вижу,
а потомок уже пинает ногой в костёр
и сердито шипит: «Ну, блин!» —
тогда я неуверенно соглашаюсь,
что да,
пусть фактов пока и нет,
но всё же, наверное, уже пора,
кому-то, наверное, уже пора
начинать об этом всём говорить.
И Луна широко открывает рот.
«Моё маленькое сверхъя…»
Моё маленькое сверхъя,
твоё маленькое сверхты,
наше маленькое сверхмы…
Разве думано,
что
сверх человек – фонтанчик волос надо лбом —
появится именно так,
вот так:
твоё маленькое сверхъя,
моё маленькое сверхты.
«Если бы начальником был я…»
Если бы начальником был я,
я приказал бы под памятником Пушкину
поставить памятник влюблённом —
бронзовый, покрытый зелёной патиной
и уже обсиженный голубями.
В левой руке он держал бы цветы,
а правую братски протягивал всем
кто уже отчаялся ждать.
Я бы первым её пожал.
«Он рычит. Рычит, что жить без неё не может…»
Он рычит. Рычит, что жить без неё не может,
и тушит сигарету о свой сжатый кулак.
Я верю ему и не верю.
Верю,
потому что он – это я, пятнадцатилетний.
Не верю,
потому что его женщина – это ещё не женщина,
а лишь замочная скважина,
через которую он смотрит на мир,
смотрит
и может оторваться, даже затем,
что вставить ключ.
«Как валуны мхом зарастают…»
Как валуны мхом зарастают,
мы
так зарастаем книгами по стенам
и верим, что бумажный этот мох
способен
хоть как-то изменить структуру камня
и прутья кристаллических решеток
разжать,
освободив
ядро того, что человек и есть.
А книги всё растут по стеллажам,
их прочитать нет времени и сил.
И мысль другая нарастает, что
они (подумать страшно!) книги —
избыточное знание о мире,
которое в осадок выпадает
по стенам наших комнат.