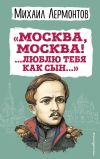Текст книги "На двух крылах свободы и смиренья"

Автор книги: Александр Кормашов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Лось
Он вышел прямо на лесоповал —
доисторический бык!
И трактор, что рядом лес трелевал,
пред ним растерянно сник.
Лосина! Лосище! И мощь и красу
он нёс, словно сладкий хмель,
с рогами, как сломанная в грозу
как раз посерёдке ель.
А мы, помлесничего Санька да я,
уж коль очутились тут,
решили на этого бугая
поближе пойти взглянуть.
Мы сделали «лошадь» – любой впрягал
так в детстве друг друга не раз,
лишь мы ружьё несли как рога,
правда, взведя про запас.
Мы шли к нему, от души веселясь:
– Ого! У нас тоже гон!
А лось вполглаза смотрел на нас
и словно поддакивал в тон.
А, может, думал (был глаз багров,
и в теле выл ураган):
«Что, если врезать промеж рогов
этим двум дуракам?»
Нет, он развернулся громадой всей,
словно себе сказав:
«Ну их, вот не видали лосей!
Что я им, динозавр?»
Ушёл, орешник смахнув сгоряча,
своим житием умудрён.
Лишь трактор вослед запоздало рычал
и траками цапал дёрн.
Печь
Э, как славно сбивали из глины печь!
Спешка бы ни к чему, да зима вот приспичь.
Дед-хозяин – старый кокшар,
хоть не про деда речь,
и не про то, что искать бы, мог он найти кирпич.
Речь: как весело мужики сбивали печь!
Как взлетали без устали берёзовые молота,
и был каждый молот, как певчая птица, певч!
И была каждому прежняя, в роще, жизнь —
маета-а!..
И серьёзно так мужики сбивали печь,
словно забивали глиной дощатый гроб,
который сбросили в яму с высоких плеч
и так трамбовали,
что втрамбовали и холмик-горб.
И до конца была сбита в зимовке печь,
и дед самолично взрезал печке устье ножом,
и, чтоб тягу проверить,
спешил ком газеты зажечь,
а после, выпив, сопел: на печку ведь нюх нужон.
А мужики, набравшись,
перецеловались и млад и стар.
А когда в печи разгорелось
(не только газеты ком),
дым – как покойник, не хуже святого Лазаря —
встал, а когда вышел в трубу,
сильно заплетал ногами и языком.
«Над средне-русскою равниной…»
Над средне-русскою равниной
от трав до звёзд – антициклон.
Он, как… Господь, как всё сравнимо
одно с другим, и целиком,
и по частям! Но кровенея,
наружу сердцем, Ты и сам,
Господь, растащен по сравненьям
на бисер тем… Да ну, к свиньям.
Я сам трепал Тебя… Так тянет
меня и ныне, что есть сил,
воскликнуть: «Однопланетяне,
я понял вас! А вас сравнил».
Но всё ж с любым, пускай завальным,
сравненьем, чур меня туда,
где мать, где городок с названьем,
в котором «волок» и «вода»,
где вихрь души людской, единой,
стоит один на тыщу верст
на средне-русскою равниной
от самых трав до самых звёзд.
«Ты полюбишь ту землю…»
Ты полюбишь ту землю,
на которой полюбишь впервые,
где впервые и ревность окажется в радость,
где вокруг горизонты, как стёкла стоят ветровые,
защищая от бурь и невзгод
и от всех неурядиц.
Здесь бы жить бы да жить,
все прошедшие годы позвать бы,
дорожить, как наградой,
любою душевною раной,
но по долгу приличия,
как после похорон свадьба,
тут влюбиться по-новой
до смерти всё кажется
рано.
Строка в тетради
«Да. Слабость и грубость – родные сестры.
Добро и сила – родные братья» —
я так записал в дневнике подростком
и сам не знаю, чего это ради.
Потом взрослел. Получал под рёбра.
Краснел от стыда и белел от злости,
но всем этим чувствам, и злым, и добрым,
уже не мог отказать в отцовстве.
Их всех мне выпало полной мерой.
Но чувствую, вот уж пора настала —
в мир вышли мои и любовь, и вера,
как дочери в день выпускного бала.
«Есть родина печали и смиренья…»
Есть родина печали и смиренья.
Она ни с малой буквы, ни с большой.
Есть родина иного измеренья,
вне постиженья телом и душой.
Там дом стоит – пока он не обрушен.
Там виден холм – он не порос быльём.
Но там при жизни я ещё не нужен.
Вот как тебе, пока в тебя влюблён.
ГЭС под деревнею Великая
Река степенно воды двигает
и сонно дышит в берега,
но под деревнею Великая
преображается река.
Она тут мается и пенится
всей мощью праведных телес
с тех пор, как старенькую мельницу
здесь переделали под ГЭС.
Теперь плотина раскурочена
не гонит ток, не мелет хлеб,
и вся тайга насквозь прострочена
стежком высоковольтной ЛЭП.
Пускай не раз тут всё изменится,
но это нам, считай, завет:
суметь вот так, как это мельница,
связать в судьбе и свет и хлеб.
«Мать встанет. «Ох, ты мнеченьки, …»
Мать встанет. «Ох, ты мнеченьки, —
вздохнёт над нами, – Спим?»
И сны её, как ленточки,
В печной вплетутся дым.
Весь день в заботах маетных,
а солнце: – «Эй, постой!» —
промчалось, будто маятник
качнулся золотой.
В избе часы настенные
стучат который год.
Их, как саму вселенную,
мать на ночь заведёт.
Поставит время верное,
верней, чем под сургуч),
и за божницу древнюю
за чем-то спрячет ключ.
«Сосны да кустарники…»
Сосны да кустарники,
в шепоть деревеньки
вдоль по речке Тарноге,
по реке Кокшеньге.
Где бродил не пойманный
чей-то конь-скиталец,
луговыми поймами
всё подковы стариц.
Как стенами мощными
лес поля обрамил
снежно-беломошными
звонкими борами.
Тут сельпо не балует,
но не ждать другого.
Деревушка малая —
свой особый говор.
Здесь поднявшись на ноги,
вдаль спешим к частенько
только путь у Тарноги
навсегда в Кокшеньгу.
«Память моя порой…»
Память моя порой,
как сбившаяся со следа гончая,
забегает в будущее,
в неизвестное тычет свой мокрый нос…
(Жизнь —
это когда прошлое ещё не закончилось,
а будущее уже началось.)
Вернётся
и то скулит, угла не найдя привычного,
но задней лапой за ухом чешет
в настроеньи самом дурном,
то вдруг что-то вспомнит,
скосится глазом коричневым
и вновь, как за кошкой,
рванётся за прожитым днём.
Мой ангел на лету
«Мой ангел на лету…»
Мой ангел на лету
опасно тормозит.
Теряют высоту
дюраль и композит.
На землю с десяти
безрадостно весьма.
И раньше не сойти,
ну, разве что с ума.
Не сыщется концов.
Ну, разве что идей —
как в бочке огурцов
иль в горнице людей.
Мой ангел, стихнет бой
на стыке разных сред,
растает над тобой
инверсионный след.
И, как последний вздо
вдаль откочует дым.
Когда бы ты был Бог,
ты был бы невредим.
Эпиметей
Се – глад и мор. Болезней и смертей
Пандора невзначай спустила свору.
Предупреждал же брата Прометей!..
Но брат Эпиметей любил Пандору.
Мила, проста, приятна без затей,
умом тонка – иным богиням впору…
Любил всех смертных гордый Прометей,
а брат Эпиметей любил Пандору.
Любил саму, любил её детей,
из глины женщину, и в ней искал опору…
Титаном был не только Прометей.
Титан Эпиметей любил Пандору.
«В хмелю от денег и утех…»
В хмелю от денег и утех,
в тоске от денег и начальства,
всё длится двадцать первый век,
едва-едва успев начаться.
Его щекочет скоморох,
его мусолит политолог,
он весь обманчиво неплох
и весь убийственно недолог.
В нём остров Лесбос и Содом
ещё тверды в стекле и стали,
но в тектонический разлом
уже сползает век усталый.
И час придёт, и выйдет срок
для смены пола и гражданства,
и детям будет невдомёк,
что им не вовремя рождаться.
И содрогнётся материк,
и Бог, в молчанье безответном,
уж тем окажется велик,
что будет милостив к бездетным.
«Русский град на холме. Он был бел и ядрён…»
Русский град на холме. Он был бел и ядрён.
Точно груздь.
Но, с оттяжкой, копыта в земные ударили чресла,
и планета, вскричав, провернулась под небом,
и Русь
под монгольское небо подлезла.
Сколько раз это иго мы, князи, крепили собой,
не варяжские Игори – русские Яго,
что твердили себе,
на Руси, мол, ничто градобой
не для нив и садов – для грибов и для ягод.
И когда монастырские двери летели с петель,
и летели ордынцы, монашек на седла кидая,
мы как знали,
что вступим в наследство ордынских степей
от Дуная и до Китая.
И у нас же потом захватило от гордости дух,
раз шестая часть мира
монгольское это наследство…
Но история мстит, и, как ворон, петух в
вдруг прокаркает ночью с насеста.
А теперь ты, потомок, на наш завоеванный мир
смотришь так,
будто вовсе не мазан одним с нами миром
и не ты в решете носишь воду для псов и проныр,
смазав сито истории
верноподданства собственным жиром.
Не ищи нас в могилах. А взглядом эпоху буровь:
все мы тут,
в этой пляске, что нету пошлей и вихлястей,
где с платочками белыми Вера, Надежда, Любовь
пляшут звонко и дробко
со Славой, Богатством и Властью.
«Спускаюсь в себя, как в ад спускался Орфей…»
Спускаюсь в себя, как в ад спускался Орфей.
Эвридику-душу ищу, кругом ни зги.
Лишь где-то вверху, как луна,
клубочком белых червей
тускло посвечивают мозги.
Что я внутри?
В сущности, ночь. Тишь да темь.
И ни души кругом, ни души…
Иди, Орфей, не мешай!
И чем дальше уходит он в атом, космос, тем
ближе ему ненаучное слово «душа».
Ещё человечество не отыскало своих пенат,
его история расчленена, как созвездье Змеи…
Он рано иль поздно,
Орфей,
оглянется, чтобы понять:
душа и была единственная жительница Земли.
«Птенец трясогузки с коротким…»
Птенец трясогузки с коротким,
ещё не отросшим хвостом,
с чёрными бусинками
по углам желтогубого лягушачьего рта,
он в воздухе замер,
как кисть художника перед холстом,
тресь! – а дверь на балкон заперта.
Он на пол упал, точно подстреленный влёт,
и сидит на полу, пока время смерти не истекло.
Тот, кто ему говорит, что стекло —
невидимая преграда, врёт.
Невидимые преграды, как правило, не стекло.
Птенец трясогузки на хрупких веточках ног,
он мерно качает задком,
весь в свою длиннохвостую мать.
Как он мне близок, его волдырёчек-умок.
Я тоже ведь знаю, как это больно – не понимать.
И знаю, что биться в стекло это, конечно, старо.
Но биться же, биться,
пусть крылья и клюв в труху!
Невидимые преграды —
как стенки аквариума со всех сторон.
А самая невидимая и самая преграда —
вверху.
«Никогда человек не устанет смотреть…»
Никогда человек не устанет смотреть
лишь на эти три вещи:
на текущую воду, горящий огонь
и котов на ютубе.
Лишь на то,
как лопочет вода и огонь языками трепещет,
да ещё на котов, третью сущность,
что стали суть медные трубы.
Нет, понятное дело,
не все влюблены в этих felis silvestris
(catus тоже), торча – если брать перевод —
в междусетье.
Только если от них ты устал,
ты пойди да проветрись
и опять возвращайся смотреть, проявляя усердье.
Чтоб понять, как впервые все три несовместны…
(Ошибался Овидий,
говоря лишь о двух.
Или то был не он, не совпав с интернетом?)
Ведь вода и огонь хуже кошки с собакой живут —
каждый видит.
Вижу кошек. Ютуб.
Хоть собаки мне ближе при этом.
«К прошедшим войнам готовятся генералы…»
К прошедшим войнам готовятся генералы,
писатели пишут уже написанные книги,
стихи издаются не за гонорары,
зато отдают свежестью
давно размороженной клубники.
Кино утонуло в сиквелах и римейках,
лучшая музыка слушана ещё в детстве,
модных идей хватает всего на одну примерку
(завтра ей снова нечего надеть;
вариант: не во что одеться).
Что будет в среду, чего не случилось во вторник?
Кто ещё не срифмует «не спится – напиться»?
Даже весна погрязла в банальных самоповторах:
чуть сошёл снег —
прилетели оголтелые птицы.
А вот как хочется почитать
об успехах в животноводстве,
и чтобы надои выросли в гекалитрах!..
Но всё равно
почему-то хорошо на этом свете живётся,
словно смотришь кино и уже знаешь,
что досмотришь до последнего титра.
«Вот сумерки лес зачернили…»
Вот сумерки лес зачернили,
и снова тягуче сползли
в охряные воды речные
иконные блики зари.
По золоту, золоту – чернью…
Над сыростью береговой
стою и молю о прощенье
кого-то, не знаю кого.
Зачем и за что и какого
я бога назначил себе?
В лугах где-то кличут корову
и тоже подобно мольбе.
И ворон, огромный, как кондор,
летит на меня из лесов.
И снова молюсь я о ком-то,
и снова без мыслей и слов.
«Чёрный грачик, чёрный клювик…»
Чёрный грачик, чёрный клювик
у дороги возле бровки,
где скакнули ярче клюквин
капли грачиковой кровки.
Он и мёртвый смотрит косо,
он плюёт на автотопот.
Всякий грач седеет носом,
постигая жизни опыт.
И лишь тот не поседеет,
кто поверит, так наивен,
что у трасс зерно сытнее
и доступней, чем на ниве.
А природа вся златая
смотрит сверху удручённо:
как вот так: с дерев слетает
среди жёлтых листьев – чёрный.
«Спускался с неба снег, как облачный десант…»
Спускался с неба снег, как облачный десант,
как будто загадав, что весь тут и поляжет;
и каждый парашют, и каждый диверсант
ещё был дивно бел – в хрустальном камуфляже.
Случайно, наугад, сцеплялись купола,
неся к Земле привет, горячий и не очень.
Так падал с неба снег в преддверии тепла —
нисколько не весна, хотя прогноз был точен.
Мне этот снег, как брат, он валит всей гурьбой,
назло любой весне, не будь её вовеки,
он верит только в жизнь и с неба прямо в бой,
и пусть летят домой больные и калеки.
Спускался с неба снег, вращаясь и шурша;
сплетались и рвались судьбы тугие стропы.
Лишь это всё и жизнь, пока гудит душа,
а там – пусть лужи, лёд и чёрные сугробы.
Спускался с неба рай, как лепестковый сад,
как всё-ношу-с-собой, несомый за спиною,
а скорая весна, конечно, это ад,
поскольку отступать трудней всего весною.
Заполярье
И вновь
небо звёздами полно всклень.
Сошлись,
но вот-вот разойдутся прочь
рассвет,
не переходящий в день,
закат,
не переходящий в ночь.
Лежит
новый снег, как песцовый мех.
И всё
в ушах – это явь или сон? —
тот звук,
не переходящий в смех,
и звук,
не переходящий в стон.
Закат —
забирайся в тепло, ложись.
Рассвет —
растревожь ледяную твердь.
Восторг,
не переходящий в жизнь,
покой,
не переходящий в смерть.
«Я до отказа нагружу работой класс…»
Я до отказа нагружу работой класс,
лишь бы не смотрели на меня до поры
эти развесёлые колёсики глаз
цвета молодой сосновой коры.
А начну опрос – важно, будто принимая парад,
чувствую, как неумолимо иду ко дну.
Гой, ты, третья парта, первый ряд,
не могу же я спрашивать лишь тебя одну!
Да получишь ты эти «пять», а надо б тебе ремня.
Порой один твой вопросик,
и стой, учитель, балдей.
Я уже знаю на опыте, что у меня
сердце слева, как и у всех людей.
И когда по коридору иду, распахнув пиджак
и отпасовывая головы первоклассников,
как мячи,
эти же карие колесики выкатятся вперёд на шаг:
«Здрассь, Алексан Васильч!» – и не промолчи!
Я лишь потом узнал, что она не убереглась.
Ее долго лечили… Не знаю, что так меня грызёт.
Радостные колёсики, умные колёсики глаз
катятся мимо, мимо. За горизонт.
«Пред «Домом книги» лужи, как плёсы…»
Пред «Домом книги» лужи, как плёсы,
и каждая будто просит – зарыбь.
Штормит помаленьку в отделе прозы,
в отделе поэзии – мёртвая зыбь.
Там продавщица – Мариша Мнишек,
тут продавщица – чевой-то жуя.
И сотня глянцевых тонких книжек
блестит, как рыбья блестит чешуя.
Вон тоже поэт, не фрондёр, не упадник.
Он тоже лежал тут. А впредь? Ну что ж,
не всех же нас время под жабры тяпнет,
как бумагорезки разделочный нож.
Над повод погреться тут, как туристам,
и снова нахохленно дальше, в дождь.
Москва не такая уж альтруистка
поэтов брать на казённый кошт.
Есть женщина, впрочем, с ладонь гибкой,
и бог! тем темней, тем сильней дурман —
взять в пальцы ладонь и уснувшей рыбкой
пустить в свой холодный пустой карман.
Художник
Он рисует
не очень быстро, не очень ловко,
и пальцем доводит рисунок, строя полутона.
Он рисует пастелью
на наждачной бумаге-нулёвке,
хоть кожу напрочь стачивает она.
Он рисует,
пред кровью-болью ничуть не сдрейфив.
Все тайны натурщицы – вот,
на какую ни замахнись.
Его пальцы чувствительней,
чем пальцы взломщика сейфов,
вскрывающие загадочный механизм.
На вид он —
типичный чиновник из министерства,
с которым я где-то уже встречался, но где?
Он рисует,
будто у него начинается сердце
сразу за этой красной и мокрой кожицей
вкруг ногтей.
Гоген
Искусствовед поясняет Гогена,
въезжая в область,
что пребывают слова «богема»,
«фаллический образ».
Толкует о небе и жёлтом цвете,
о розовом пляже,
и в каждом расставленном им акценте
ум так и пляшет.
Адам и Ева а ля Таити,
Венера и Будда,
вы тщетно усталые тайны таите
гогенова блуда.
Таит лишь краска – тьму без просветов,
тьму под стать морю.
Картины не любят искусствоведов
всей этой тьмою.
Всей спекшейся в них любовью, жёлчью,
душевной щемью,
что не откроют ни звёздам ночью,
ни освещенью.
Лишь в ноги Гогену в час, когда трубы
Пришествия грянут,
рухнут охапкой скрученных грубо
охранных грамот.
Стихи на 3 февраля
Ещё февраль, всего лишь 3-е,
и две молекулы весны.
Нас приучают к долголетью
недели сонной тишины.
О, как тут снег молчать умеет,
сам тоже белый, как айфон.
Но мельница господня мелет,
да и работы ждёт вагон.
И то, куда теперь деваться?
Дай бог прожить, скрутивши лень,
до 23-го дней двадцать,
а там и до 8-го – день!
Весна-весна
1
И только ахнуть, что творится:
едва успели напятнаться
весны начальные страницы,
а всю неделю плюс пятнадцать!
Никто не видывал такого:
едва рассвет в окно плеснется,
сосульки, словно ус китовый,
уже процеживают солнце.
И чертыхаются машины
на вдруг ожившей красной глине,
и снова чёрные плешины
вдоль железнодорожных линий.
И крик на птичьих ассамблеях,
и солнце жарит без поблажки,
и через день не снег белеет —
лишь прошлогодние бумажки.
И вот уже почти что лето!
…Как в чёрно-белых кинокадрах
идём неузнанной планетой
в ещё не сброшенных скафандрах.
2
Так с каждым днём – острее чувства.
и мягче ветки в мокром сквере,
и каждый день в твой дом стучусь я,
лишь распахну из дома двери.
И что-то станет сокровенней,
и что-то станет несказанней,
и рук твоих прикосновенье,
как двух миров соприкасанье.
Соприкасанье тел – волненье,
соприкасанье душ – величье.
В природе нет прямолинейней
соприкасания различий.
А мы с тобою так несхожи,
когда по городу проходим:
я – незадачливый прохожий,
и ты – явление природы!
«Так, значит, бабье лето, и у власти…»
Так, значит, бабье лето, и у власти
сравненье мира с золотом – расхожесть,
где только бор сосновый, как напасти,
бежит чудных тропических роскошеств.
Так, значит, осень. Держит паутинка
отпавший лист… – откуда что берётся?
Дневной луны нетающая льдина —
свидетельство недавнего морозца.
А дни стоят – из тех, что раз в столетье.
И не понять при всем моем усердье:
иль есть зима, как смерть на этом свете,
иль нет ее, как в мире лучшем – смерти?
«Ну, ладно бы летом. Хотя бы в августе…»
Ну, ладно бы летом. Хотя бы в августе.
А то мы уже грезим трассами лыжными.
А осенние вишни
с какой-то радости
стали вдруг совсем весенними вишнями.
Как ни в чём ни бывало по уши в цвете,
и ветер как ни в чём ни бывало
их обхаживает,
и вечер им тёплого солнца нацедит
полные ладошки листочка каждого.
Но скоро совсем взвоют вьюги неистовые.
выстелют землю ровно и чистенько.
Вишни им руки навстречу
протестующе выставили,
бледные руки из зелёных манжет чашелистиков.
И цветут. Ещё звонче. В порыве своем упорствуя.
Кто бы им объяснил —
да попробуй скажи-ка им —
что это сама зима, как прививка противоосповая
проступает на них нежно-белыми снежинками.
Предзимок
Не холод, а жар багровый
дохнул на ресницы ив,
и синих кустарников брови,
и леса чуб опалив.
Ожогам бы длиться и длиться,
но вот уже, суетясь,
готовит зима-фельдшерица
лечебную белую мазь.
Бывальщина
Гроза шла до ночи – не из чего выбрать.
И вот уже в самую темь
(чтоб сама себе глаза она выколола!)
сошлись на дороге ружьё двенадцатого калибра
и полная голубики зобенька лыковая.
Они уже решали о костре и ночлеге —
зобенька призналась: знобит, право, как-то меня.
И вдруг оба очнулись на соломе в телеге,
будто им с неба свалилась попутная
тракторная.
Борт тележный всё цепью дзынькал да тренькал,
зобеньке стал нравиться запах ствола
продымленного.
К ружью круглым боком
всё плотней прижималась зобенька:
мол, хоть и костляв, но ничего, поглядим на него.
У гаража трактор остановился и пробибикал,
и тут же деревня черные окна повыставила,
зобенька вскочила
и в солому просыпала голубику,
ружье растерялось и от неожиданности
выстрелило.
Кувшинки
1
Как вокруг-то всё гляжу оробело я,
и куда это, гляжу, да забрёл-то я?
Как по правому берегу кувшинки белые,
а по левому берегу кувшинки жёлтые.
Начал спиннинг я кидать да подматывать
да под ивы всё да ближе всё к зарослям,
уж на тонкой на лесе да на матовой
капли вспыхнули искристым стеклярусом.
Вдруг меня как что-то дёрнет да за руки —
знать, коряга цепанула, не иначе.
Ах, ты спиннинг мой,
ты спиннинг мой старенький,
что за дьявол так в стеблях-то кувшиночьих?
Но и дьяволу судьба, знать, отмерена,
ведь не зря же битый час я тут выстоял.
И всплывает ко мне щука Емелина,
а во рту блестит блесна серебристая.
Мол, сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь, делать нечего.
Ублажить тебя спешу я поклонами.
Да беда насчёт вот голоса человечьего —
речь не та уже с крючками калёными.
Ой, пусти ж, то плавники стали дряблыми,
смотрят глазыньки на воздухе, ой, невидяще!
Крепко стиснул я тут щуку под жабрами:
– Уж крючки-то я тебе, ладно, вытащу.
Стал в мешок её совать да подшучивать,
что не всяк, мол, дураку быть Емелею.
Проживу-ка я без слова да щучьего
лишь работою своей да умелою.
Только щука вдруг да скажет как с томностью:
– Ой, неси меня да жарь, мне уж всё равно.
Только что тебе брести столько до мосту?
А не проще ли да вплавь на ту сторону?
А и то. Мужик-то я не без удали.
Чуб пальцами причесал, вроде грабелек,
и – да как кувшинки-то мне ноги-то спутали!
Еле жив-то вылез я на тот на берег.
А как вылез, отдышался, отохалася,
ни мешка, гляжу, ни щуки, ни спиннига,
ни штанов-то, ни рубахи – как плохо всё! —
ни припрятанного на автобус полтинника.
Ах, река, река, река, греховодина!
И послушал же совета проклятого.
Я пока переплывал – ночь-то вот она.
Схолодало. Стали звёзды проглядывать.
Я всю ночь плясал, но труса не праздновал.
Кто-то в лодке мимо плыл, грёб так ровненько…
Ах, река, глаза твои цвета разного!
Всё как в глупом анекдоте с любовником.
2
Я на лодке плыла, сон помню я,
в воду вёсла устало кинувши,
а на вёслах, как змеи томные,
эти стебли лежат кувшиночьи.
А кувшинок цветы тяжёлые
только взгляды бросают беглые:
правый берег – кувшинки жёлтые,
левый берег – кувшинки белые.
И мне к берегу, знаю, надобно,
но которому клясться в верности?
Белый цвет, как известно, свадебный.
Жёлтый цвет, как известно, к ревности.
Берега вы мои, занятные,
тут и там парни есть неглупые:
где кувшинки желты – женатые,
где кувшинки белы – нелюбые.
Я давно уже вёсла бросила,
нету друга – не будет недруга.
Знаю, речка впадает в озеро,
с середины не видно берега.