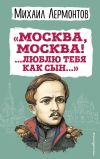Текст книги "На двух крылах свободы и смиренья"

Автор книги: Александр Кормашов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
«Если бы мой отец погиб на флоте в 44-ом…»
Если бы мой отец погиб на флоте в 44-ом,
меня бы не было,
а был бы кто-то другой,
чей отец не погиб на флоте,
как не погиб мой.
Если бы моя мать умерла от голода в 46-ом,
меня бы не было,
а был бы кто-то другой,
чья мать не умерла от голода,
как не умерла моя.
Если бы я не родился в дату и час
моего рождения,
меня бы не было,
а был бы кто-то другой,
кто родился бы в дату и час моего рождения,
как родился я.
«Каждый вечер у колодца их видят вместе…»
Каждый вечер у колодца их видят вместе:
жеребца Мальчика и однорукого конюха Моисея.
Мальчик,
последний жеребец в округе,
пьёт воду из длинной колоды, которую Моисей,
последний коновал в округе,
наполняет из берестяного ведра,
привязанного к шесту.
Три года назад, играясь,
Мальчик хватил Моисея под локоть и,
пока не перегрыз, не отпустил.
С водопоя оба идут на конюшню и,
перед тем как расстаться,
ещё долго смотрят на красный летний закат.
Моисей сосёт беломорину и грозно,
бровями,
отпугивает комаров.
Мальчик то и дело трёт мордой
о его культяпистое плечо.
Молча садится солнце.
Молча Мальчик уходит в денник.
Молча Моисей запирает конюшню,
а когда поворачивается к ней спиной,
Мальчик тихо ржёт, словно хочет сказать, что
тоже знает что-то такое,
за что не жалко отдать и всю ногу с копытом.
Моя родословная
Я родился в селе под названьем Село
и в речке по имени Речка купался и в лес,
прозванный Лесом, ходил по грибы.
Мама моя
для соседок всегда была просто
соседкою Мамой.
Я Школу окончил (единственную в селе)
и в город поехал, который
на всех картах мира уж тысячу лет
гордым словом Город обозначался,
и там
поступил в Институт,
который студенты всех поколений
на жаргоне своём обзывали всегда
Институтом.
Женился. Жену мою звали Женой,
и дочку свою мы Дочкою окрестили. Нередко
после Работы
(а ВУЗ я кончал по специальности
«просто работа»)
за Стол типа «стол» я садился
и силился думать, но часто
от усталости
засыпал.
А думал я глупости, в общем.
Что Земля, например, состоит из земли, а Солнце
является солнцем планетной системы.
Что Галактика – это галактика,
а вселенная – только лишь часть Вселенной.
Однажды ко мне пришёл Друг и,
бухнувшись в Кресло, сказал,
протирая Очки Манжетой Рубашки,
что Война,
может, будет, а, может, и нет.
В ту ночь мне приснилось, что
СРАЗУ ЖЕ, КАК ПО РАДИО ОБЪЯВИЛИ,
ноги мои
несли меня к Призывному Пункту
(так гласили белые буквы по кумачу), и вскоре
Военный (что интересно,
по званию он был военный
(и по фамилии – гы! – Военный тоже)
у меня потребовал Имя.
– Имя, – ответил я просто. —
В переводе значит «имею».
– Отчество? – продолжал Военный.
И я стал объяснять:
– Я родился в обычном русском селе
с негромким названьем Село
и в чистой прозрачной речке
с красивым именем Речка купался…
К пониманию высоких слов
Однажды в детстве
я дёрнул родителя за штаны
и спросил, что такое грамм.
Он отломал кусочек чёрного хлеба
и показал: вот примерно.
А затем аккуратно положил его в рот.
С тех пор
даже в задачках по химии
вместо 30 граммов аммиака
я представлял себе 30 кусочков хлеба.
А на физике
мог запросто пересчитать на такие кусочки
массу Земли или Солнца.
И потом,
повзрослев,
при всём своем скоморошестве,
никогда не улыбался
на громкий плакат в столовой:
«Хлеб – мера всех вещей».
«Спит на посту отобедавшая охрана …»
Спит на посту отобедавшая охрана —
в офисах на одной шестой части суши
бутерброды больше не в моде.
Сложенный из гламурных журналов,
еле шевелится муравейник тихих асексуалов.
Выборы вызывают желание почитать в метро
томик Ленина.
Порядок в родном Отечестве.
И только русская зима
хладнокровно
отучает от привычки бросать мусор в урны.
Дзержинский
Я был там, когда снимали Дзержинского.
Я видел его глазницы,
в которых плескался дождь.
Я дотронулся до него, когда его увозили.
Одной ракетой на Земле стало меньше.
«Если бы все врачи жили во здравии…»
Если бы все врачи жили во здравии
до ста лет,
и все учителя имели больше возможности
не учить,
и все военные всегда выбирали
смерть,
и все историки были счастливы
в любви,
и все футурологи были счастливы
в любви,
и на Земле было просто-напросто больше
людей,
и всем бы хватало всех,
тогда бы и в мире уже давно
было больше на одного
всего лишь на одного
человека.
Пабло Неруда
Я помню, как Пабло Неруда
удивлённо стоял посреди
беломошного бора
посреди сосен,
похожих на колонны Исакия,
ногами на белом,
белом, как пена, мху, и следил,
как на белый мох опускается белый снег.
(«О, Дева Мария!»)
В его белом дыхании,
слетающем с белых губ,
читалась лишь одна фраза:
«Кто не знает чилийского леса,
тот не знает нашей планеты».
Я помню, как Пабло Неруда,
осторожно ступал по этому белому мху,
как по белой пене океанического прибоя.
принимая за краба
тут ржавую консервную банку,
там припозднившийся боровик.
Я помню, как Пабло Неруда
возбужденно ходил по лесопосадке
и как загонял на ближайшую сосенку
негодующего бурундука,
а потом,
ударив ногой по стволу
подставлял под зверька большие,
как распахнутый «Атлас мира»,
ладони.
(А бурундук в то же миг компостировал
Неридуны пальцы
и взлетал на такую сосну,
что тряхнуть ее бы могло
лишь Чилийское землетрясение.)
Я помню, как Пабло Неруда
устало вышел на вырубку, где
одиноко темнели пни, словно лунные кратеры,
и как оттуда потом
он ещё очень долго уходил
всё куда-то вдаль,
похожий на бездомного космонавта,
и терялся в сплошном галактическом снегопаде.
Контакт
О, человечество леса!
Это я, твой однопланетянин,
стою сейчас пред тобой и горю,
а ты отступаешь, а зря.
То был последний день декабря,
когда я забрал у тебя и притащил к себе в дом
твою человеку – ель.
Я сунул её ногу в ведро
и немедленно начал дарить,
нет, набрасывать на неё, всю холодную,
мишуру серебристых одежд
и всучивать стеклянную бижутерию.
Только она всю ночь так и простояла
одна
посреди комнаты,
колючая,
яркая,
злая
и только жадно, неуёмно пила.
И всё-таки в ту длинную ночь
произошла не только смена календаря.
Хотя и потом, что ни ночь
ежихой
она забивалась в свой угол
и лишь мелко подрагивала, когда,
не в силах уснуть,
я отбрасывал одеяло и садился напротив,
ступни своих ног прижимая к холодному полу.
У неё просто не было сердца.
А потом, что ни утро,
воды убывало всё меньше и меньше,
всё гуще зато
пол зеленел под ней,
будто истекала она
зелёной кристаллической кровью.
Как же долго тянулся январь!
Я едва дожил до четырнадцатого.
Но не только она затрещала тогда
своими жёлтыми сучьями в печке.
О, человечество леса!
Теперь уж я сам стою пред тобой и горю,
а ты отступаешь, а зря.
Не ты ли завтра шагнёшь
на моё пепелище,
чтобы насытиться такой нежной и горькой,
и богатой на микроэлементы золой?
Ведь не ты ли останешься вообще,
когда всё моё человечество
вдруг однажды сгорит,
как сгораю я?
О, человечество леса!
Пока не обуглился мой язык
и уши
не свернулись в трубочку, как береста,
дай ещё раз испытать эту муку – проснуться
от покалывания в правой руке,
будто опять, как в то утро,
лежит на моей руке
она
вся сонная,
нежная.
Две поэмы
Муза
Она являлась. Факт. Её приход
предвидел наперёд Писатель. Кот.
Подобранный когда-то обормот,
страдавший, кто бы знал, от энуреза.
В упор не признававший туалет,
ходил он в коридор и в кабинет,
но в целом круг обширен, спору нет,
писательских его был интересов.
Её приход мой гнусный квартирант
предвосхищал походом под сервант,
и только я хватал дезодорант
и пшикал вслед… чу! – каблучки за дверью.
Она входила, словно бы решив
дышать не глубже, чем на слово «Жив?» —
сама снимала плащ; его пошив
скрывал ей крылья, я смеялся: «Перья».
Я знал почти что каждое перо,
бородки, завитки; их серебро
разглядывал на свет. Оно старо,
но тем нельзя, ей-богу, не упиться.
(Был душ началом всех её начал.
Когда я – чтоб ни губок, ни мочал! —
тёр спинку ей порой, то замечал,
что крылья – водоплавающей птицы).
Принявши душ, она с гримаской «фу»
садилась в кабинете на софу
и несколько минут, пока в шкафу
искал я рюмки, так и оставалась.
Я перед ней садился на пол при
условии обычном: «Не смотри!
Устала – жуть». (О, брови изнутри
глазных орбит!) В глазах… но не усталость.
В глазах – борьба прощений и обид.
О, брови изнутри глазных орбит
и чуть с горбинкой нос (был перебит,
когда на санках прокатилась в детстве).
Я много знал о ней. Она сама
рассказывала. Путано весьма.
Но мило, мило. Я был без ума.
«А сад наш был как лес – весь дик и девствен».
Она училась. Боже упаси,
на муз у нас не учат на Руси,
но где-то всё ж она училась, и…
и в том её был социальный статус.
А так она была вся человек.
Но жизнь была – не Ной, а строй ковчег.
Мы жили в СНГ, двадцатый век
помалу изживал свою двадцатость.
То время было странное. Друзья,
к «нельзя, но если хочется» скользя,
ещё твердили, «всё равно нельзя»,
но над страной уже вставало – «можно!».
Нас многих друг от друга разнесло,
кого уже кормило ремесло,
кого к земле тянуло на село,
кого к большой мошне тянуло мощно.
Один был друг. И он уже не пил.
Он строил дом, добрался до стропил,
но нес в душе надлом, надкол, надпил,
от цен на лес чуть было не сломавшись.
Он приходил как будто невзначай,
с моею Музой пил на кухне чай,
потом кряхтел в прихожей: «Выручай,
хоть тысяч пять, и месяцев так на шесть».
А мир покою пел заупокой.
Была хозяйкой Муза никакой,
на это я давно махнул рукой
и сам без лишних слов готовил ужин.
При всём при том, нимало не тая,
что не выводит быт из бытия,
она серьезно думала, что я
весь ей принадлежу, что я ей сужен.
Ведь что творилось, только я к столу
черкнуть садился строчку, вся в пылу,
она уж била крыльями!.. В углу
зевал Писатель, отваливши челюсть.
Из крыл её, двух быстрых опахал,
пух-перья аж… Кот зубы отряхал,
за ними взвившись, а она: «Нахал!» —
в него пускала шлепанцем, не целясь.
Я ей твердил: «Не стой ты над душой!
На то не надо хитрости большой,
чтоб так, рукой…» Она была левшой
и правою рукой моей водила.
Что делалось, всё делалось не в такт
с моими мыслями. Мы заключали пакт
друг другу не мешать, и этот факт
всех наших отношений был мерило.
Когда – не помню, но в один из дней
я жутко провинился перед ней,
признав в себе (принять ещё трудней)
какое-то отсутствие культуры.
Раз, в сигаретном плавая дыму,
я бросил: «Все у нас не по уму,
и, чёрт возьми, не знаю, как кому,
но я другой такой не видел дуры!»
Она застыла, будто я, злодей,
всю жизнь стреляю белых лебедей.
Я что-то буркнул о борьбе идей,
где нет, мол, отношений идеальных.
Немного успокоил, и она
уснула, вся разбита и больна,
с крылом вподвёрт, а ножку – вот те на —
по-детски затолкав в пододеяльник.
И надо ль говорить, что с той поры
обшарил я окрестные миры,
Писатель также обходил дворы,
но возвращался с видом «безнадёга».
Она не появлялась. Ну, а там
её прихода я не ждал и сам.
Ничто надолго не приходит к нам,
вот разве смерть, вот разве та – надолго.
Друг приходил. Смотрел «600 секунд»,
вздыхал, что зреет, зреет русский бунт,
пил чай, но – pacta observandа sunt —
ни словом не обмолвился о Музе.
Потом был девяносто третий год,
на крышах чёрный, как грачи, народ,
и друг лежал под пулями, и кот
пополз от телевизора на пузе.
Крысиный яд ломал и не таких,
он полежал немного и затих,
а на меня напал какой-то стих,
и я уселся наглухо за повесть.
Потом мы раз встречались в ЦДЛ.
«Ну что, жива?» – «Ты тоже, вижу, цел».
И я ушёл, сказав, что много дел,
и сам себя кляня за бестолковость.
Понятно, я не сделан из кремня.
Я сам бросал, тут бросили меня,
а в чём не прав, так это мне до пня,
другие музы пусть других и судят.
Когда же до меня дошла молва,
всё это были лживые слова,
я знал, что для меня она жива,
и на Земле других уже не будет.
Шел 859-ый год
1
Шёл 859-ый год.
Из Франции, как сказано в преданье,
сказать точнее даже – из Бретани,
отправился в поход норманнский флот.
Его повёл лихой норманн… Ну да,
быть может, поступлю я, как схоластик,
но имя историческое – Хастинг,
уже весьма известное тогда.
Легенда же гласит, что сей варяг
и он же скандинав, норманн и викинг,
возьми да и фортель в походе выкинь:
разграбил Рим. А дело было так.
Сначала Хастинг всласть «повеселил»
вдоль берегов Испании восточной.
(Сказать, что «колесил» не будет точно,
когда на вёслах. Ладно: колесил).
В Италии шутил же грозово.
Он город Пизу взял атакой страшной…
(Увы, потом своей Пизанской башней
прославился сей град и без него.)
Разделав Пизу, как мы говорим,
в кровавой баньке, так сказать, распарясь,
варяг и развернул блаженно парус,
и нос ладьи повёрнут был на Рим.
Какой он, Хастинг? Вкратце: рыж и ряж.
Покаюсь, захотел я отвертеться
от сцен его зачатия и детства
сурового. Теперь уж он – что кряж.
К тому же Хастинг был женолюбив,
и обществом ему была пизанка,
которую похитил он из замка,
который до сих пор, наверно, жив.
Конечно, тут я должен дать портрет
прекрасной пленницы. Иль нет. Не должен.
Любой на выбор будет вам предложен
из тех, что помните. А нет – так нет.
Супруг её был сгублен чем и жил —
мечом. Она в пылу разлуки
чуть на себя не наложила руки,
но Хастинг раньше руку наложил.
То Стенька Разин, не вступая в торг,
швырнёт княжну. А Фьюче же, освоясь,
сама могла швырнуть, к тому ж на совесть
она старалась как… И знала толк.
Да. Фьюче. Да. Её так звали. И
она, как есть, в шеломе и кольчуге
клялась с варягом жить простой лачуге,
сперва на Рим взглянув хоть издали.
И вот оно настало время «Ч».
Покой реки был кораблями вспорот,
и на брегу открылся дивный город,
сверкнув как жемчуг в солнечном луче.
Развратный град! Юдоль мирской тщеты!
(Но для варягов зрелище из зрелищ).
Ужели ты судьбу других разделишь?
С бортов ладей уже сняты щиты…
Мечи из ножен вон! Но вместе с тем
и римляне без должного испуга
глядят со стен, не прячась друг за друга,
и что-то аж кидают там со стен.
И сразу – штурм! И Фьюче – впереди!
Едва приосадить успеет Хастинг
её за то, чем ныне служит хлястик,
а что тогда – да разберёшь, поди.
И Хастинг сам бесстрашно лезет вверх,
вращая дико каждым, порознь, глазом,
и щит его в момент стал дикобразом,
хоть никого в смятение не вверг.
А в городе на битву с «рыжим псом»
призвались все от мала до велика,
и даже сам епископ, поелико
его псалтырь был истинно весом.
И вот сим псалтырем сей призывник
возьмёт да как варяга по лбу жахнет,
и Хастинга – пассаж из мира шахмат —
как пешку со стены смахнуло вмиг.
2
Тут думал я о днях, когда Христос,
не знал покуда Библии и прока
ещё не видел в звании пророка
и стало быть до Бога не дорос.
Ещё, наверно, просто бегал огольцом,
но по скамьям меж дядек поелозив,
уже смекал: отец его Иосиф
мог, в принципе, не быть его отцом.
А кто? С фантазией – любой на вкус.
Но парня, так сказать, манило небо.
Ещё он был никем, никем он не был
и звался очень коротко – Исус.
Как раз годы Тевтобургский лес,
что ныне в ФРГ, мечом тевтонца
над Римом пригасил сиянье солнца:
три легиона в ад! В один замес.
Об этой битве сам Исус никак
не мог бы знать. Ровесник нашей эры
знал лишь древнееврейские примеры
великих битв – обычный школьный брак.
Но Хастинг знал. Он дюже был учён.
Но только, к сожаленью, недоучен.
И мы тому свидетельство получим.
О чем я? Да потом скажу о чём.
Пока ж варяг в ладье мочил свой лоб…
И то взрычит, припомнив вдруг паденье,
то сам себя язвительно подденет:
– Ну что, норманн, ладья и есть твой гроб?
Он был бесспорно прав. В конце концов
куда бы ни вели морские мили
от родины, варяги хоронили
в ладьях своих почётных мертвецов.
Конечно, если мрачный океан
сам не хоронит мертвецов. Конечно.
Всю ночь рычал варяг во тьме кромешной
бессилием и гневом обуян.
Ещё бы! Штурм был начисто отбит,
и как хрипел, давясь кровавой пеной,
один монах, единственный их пленный:
– Язычник христиан не победит!..
Тьфу! И под утро Хастинг видит сон,
как он несётся Тевтобургским лесом,
разя своим пророческим железом
язычников… И тут проснулся он.
– Эй, кто тут? Фьюче? «Вот ведь приползла, —
подумал Хастинг, – что ей спозаранку?»
– Послушай, милый, я же христианка…
Ну, может, тот епископ… не со зла?
Как перст судьбы поднялся Фьючин перст
и лба его касается… Коснулся,
и Хастинг тут чуть не лишился пульса
от крика: – Там! На лбу! О, Боже! Крест!
Да, Фьюче раскричалась не шутя.
Смешались ужас и восторг, и жалость.
Понятно, вся дружина тут сбежалась,
решив, что остаётся без вождя.
А Хастинг, точно, и лежал как труп
под златотканым краденым покровом,
на синем лбу его крестом багровым
горячий влажный – будто дышит! – струп.
Тут город заприметил со стены,
как вражий стан безумней стал на время,
чем Вавилон во дни столпотворенья,
и жители вздохнули: спасены.
И как апофеоз явись гроза!
И ливень, жёсткий словно мокрый веник,
стал так хлестать варягов муравейник,
что вскоре всех загнал по паруса.
А там недолго паруса поднять,
сперва, конечно, только для просушки…
Но всё же шум от этой заварушки
стоял всё утро и ещё полдня.
Осада, наконец, снята, и вот
от города («Пример гостеприимства!
Но, знать, судьба такая, примиримся…»)
отчалил в суете норманнский флот.
3
А через сутки Рим вскричал: – О, чёрт!
(Я сам считал, что в хронике описка,
но нет, на стену вызван был епископ,
он тоже подивился в свой черёд.)
Итак, о, чёрт! Варяжская ладья,
украшена, обвешана цветами,
под волны воплей, криков, причитаний
ползёт на берег, дальше, дальше… Я…
Признаться, я… Но чувствуете вы,
как голос мой вибрирует от фальши?
Как будто знать не знал, что будет дальше
я с самого конца второй главы.
Так что же дальше? Расскажу тотчас.
А дальше будет погребенье, вот что.
Хотя и смысла скандинавский вождь в том
не видел и лежал ожесточась.
А в Рим уже отправились послы
от викингов, из тех, кто познатнее,
кто мог в такой торжественной затее
цивильней поприкрыть свои мослы.
Послы явились к городским вратам
и целый час стояли перед стражей.
Их вид был даже в мирной роли страшен,
не дай Господь их причислять к врагам.
Епископ принял их, но был суров.
К язычникам он не имел доверья
и стражников держал за каждой дверью,
и начинать просил без лишних слов.
Откашлявшись, сказал один варяг:
– Мы с миром к вам! Стремимся только к миру.
Епископ, ты своих проинформируй,
что мой берсерк твоим парням не враг.
Второй отдёрнул первого назад,
шепнув: – Мы тут голов не сносим!
Нам крышка тут. Я это чую носом. —
Он был и вправду несколько носат.
Тут третий, скальд, вспушил свои усы:
– Где фьорда хвост скрывает вход под скалы,
наш конунг подошёл к вратам Валхаллы,
обители всех павших в битвах с…
Скальд заводил, варягов цепеня,
не речь, а песнь, но прерван был четвёртым,
которой, разразившись громким чёртом,
сказал: – Епископ, выслушай меня!
Наш вождь, он умер. Все мы смятены.
Он умер. В ночь. Как раз при смене галса.
Но перед смертью вспомнил, как спускался
вниз головой с той роковой стены.
О, то спусканье даром не прошло!
Наш вождь проник в божественные сферы,
где сам родитель христианской веры
ему свой знак поставил на чело.
И он, как император Константин,
на смертном ложе принял христианство
и мне успел сказать, мол, это шанс твой,
спасись и ты, как я, христианин.
И я спасусь! Я прах сожру в горсти,
коль не исполню конунговой просьбы!
Пардон, мой сир, вот если удалось бы
его по-христиански погреб… сти?
Не без труда, но в смысл речей проник
епископ. Славный был добряк он!
С четвёртым столковался он варягом
и даже дал ему священных книг.
И отпустил послов, сказав, что он
сам лично панихиду и молебен
отслужит, и пред Хастингом на небе
уже не будет никаких препон.
4
А в скандинавском лагере уже
готовили… Чуть не сказал я «тризну»,
хотя и не был склонен к беллетризму
всё терпящий христовый протеже.
Он тщетно сокращал свой дух и дых,
когда в ладье высокой погребальной,
кипя внутри, как шторм девятибальный,
лежал недвижен, благостен и тих.
Лежал как мёртв. Лишь только желваки
в нем выдавали жизнь и жажду мести.
Кто б мог иначе на его-то месте?
Те, кто не мстят, убоги и жалки.
Поодаль, будто идол в землю врыт,
стояла Фьюче. Нету к ней вопроса.
Она бледна, худа, простоволоса,
весь вид её о скорби говорит.
Но вот, картинно мускулы взведя,
варяги подошли и, поднатужась,
ладью подняли в раз. Их рост и дюжесть —
залог такого плаванья вождя.
Им вёсла явно больше по руке,
чем доски днища. Как и всем в морфлоте.
Но вёсла замерли на мёртвым вроде
свечей на именинном пироге.
Процессия – у городских ворот.
Чтоб скандинава в светлом Божьем храме
отпеть, потом в сырой холодной яме
зарыть, поставить крест, и всех хлопот.
Но тут над Хастингом, предвидел кто б,
разбушевались споры-пересуды:
из этакой языческой посуды
его, мол, надо класть в нормальный гроб!
Лишь только сохранить желая мир,
варягам уступили горожане,
хотя повсюду слышалось брюзжанье,
но не хотел войны церковный клир.
И вновь ладью берут, несут вперёд
и ставят перед церковью на площадь,
где стражи копья весело топорщат
и оттесняют праведный народ.
Епископ сделал знак, народ замолк.
И сам я что-то замолчал невольно,
как тот вон раб Закон, давно безмолвный,
в ноздрях кольцо, а на губах – замок.
Меж тем герой наш, сдавлен и прижат
дарами всякими, цветами… но по виду
нельзя сказать, чтоб портил панихиду,
но что-то странно оводы кружат.
И вот один из них – каков стервец! —
тяп Хастинга за веко. А епископ
кадилом машет всё… Конец уж близко,
но Хастинга взбесило уж вконец.
– Я сыт, – вскричал он, – вашей похвальбой!
Твоим кадилом я насквозь продымлен!
А ну, варяги, в вёсла этих римлян!
Открыть ворота! Всей дружине – в бой!
И он одежды скидывает с плеч,
и он ногой откидывает саван:
– Вперёд, варяги, будет род наш славен! —
И из цветов выхватывает меч.
Пока народ стоял ещё столбом:
«Чего это покойник-от встаёт наш?» —
а скандинав уже рубил наотмашь,
и пал епископ с рассечённым лбом.
Дружина ворвалась, и через час
весь город был от мостовых до кровель
прошит мечом. И долго струйки крови
не свёртывались, меж камней сочась.
Потом лишь к ночи мягкий ветерок
слегка дождем картину боя сбрызнет,
и, словно веником, обрывки жизней
начнёт сметать в невидимый совок.
Сметать песок геройств и мусор детств,
девичеств, старостей… А Хастинг с Фьюче
над этим всем походкою летучей
спешат за город – случай двух сердец.
Нет, разума не хватит моего:
путь всех влюбленных в лунную дубраву!
Любил же Гитлер эту Еву Браун,
а Ева Браун, стало быть, его.
И нет злодея в мире, чтобы он
не оставался просто человеком,
но не простым, однако, имяреком,
он – Имя, имя прочим – легион.
А ветер всё спешит, за домом дом.
Пойдёмте следом, где уже почище.
Кого, читатель, с вами мы поищем?
Кого, читатель, с вами здесь найдём?
Вон раб Закон. Как смятые грибы
(кольцо, замок с него сорвали, монстры)
он кажет нам четыре рваных ноздри,
четыре так же рваные губы.
Пойдёмте к церкви, где стряслась буза.
Там труп епископа как чёрное на красном
в глаза, наверно, бросится не раз нам,
и мы, наверно, отведём глаза.
Пойдёмте за ворота, вслед двоим,
ушедшим по траве к дубраве лунной
(им хорошо, им молодо и юно),
и где-нибудь поодаль постоим.
Ну что ж, и тут всё тот же оборот,
известный до безумства, до юродства:
она ему до капли отдаётся,
он всю ее до донышка берёт.
Ну, а теперь куда? Куда теперь?
А в город, в храм, где грузно распростёртый
на Библии храпит Варяг IV,
а ветер тихо-тихо входит в дверь.
5
Вставало солнце. И вставал пред ним
в хмелю, в грязи, в кровище весь по ноздри
уже варяжский град. Я заподозрил,
что кто-то заподозрил, что не Рим.
И то: где Капитолий, Форум где?
И как нам быть с дубравой этой лунной?
Нет, дело было с городишком Луной.
В сравненье с Римом – блошкой на ногте.
Всё достоверно. Вынут этот факт
из «Хроники Нормандии». Был точен
хронист. А Хастинг вот не очень
учён был в географии. Вот так.
Но скажем ли, что Хастинг был смешон?
В отличии от бога, скажем, Марса
наш Бог, конечно, вряд бы рассмеялся.
Вы слышали, чтоб улыбался он?
Узнав, что Рим не Рим, варяг вполне
был зол: – Рубить всех, жечь и вешать!
И брёл он честолюбец и невежа,
по мёртвой Луне, словно по Луне.
На Фьюче он был гневен добела:
– Как не предупредить могла ты, ведьма? —
А как могла? Никак не знаем ведь мы,
что Фьюче в жизни вообще была.
О ней во всякой случае хронист
не говорит ни слова. То-то горе.
Хотя бывает, знаете, в фольклоре
возьми преданье да и сохранись.
Конечно, с Луной дело вышло дрянь,
но сей вопрос достаточно изучен.
И Хастинг – по закону жанра – с Фьюче
отплыл домой. Точней, опять в Бретань.
К добыче приобщён был раб Закон.
Он мог по целым суткам не противясь
вскрывать варягам термин «справедливость»
торжественным латинским языком.
А по ладье от носа до кормы,
гребцов тираня проповедью твёрдой,
как папа римский сам, Варяг IV
ходил и забирал в полон умы.
Закон потом, за сколько не вдаюсь,
но «папой» был у Хастинга откуплен…
А из Бретани шли ладьи на Уппланд,
что в Швеции. А дальше и на Русь.
Да, может, и на Русь. Ведь через два
иль через три уже каких-то года
к нам Рюрик шёл, хоть не было похода
как такового – догма такова.
Причём тут Рюрик? В общем, не причём.
Мой домысел, он больше чем не прочен,
что Хастинг с Фьюче с ним могли бы… Впрочем,
его я вспомнить просто обречён.
Поскольку вопрошать имеет смысл,
что если бы в варяге враг был нажит,
что если сам он не пошёл бы княжить,
как ни проси об этом Гостомысл?
Что было бы тогда? Что было бы?
Пришлось бы нам легендой поступиться?
Ни истине, ни лжи у летописца
перо из рук не вырвать без борьбы.
Напишет летописец, но проверь.
Из текста извлекать его приписки —
что из крови славян по капле впрыски
всех европейских голубых кровей.
О, кровь славян! Рассольна и густа,
(морской рассол, как был он в жилы залит…)
она и при нуле не замерзает,
она и закипает не при ста.
А закипит, то зван ты иль не зван,
чужак на Русь, старшой да над молодшим,
пускай для Рима варвар ты всё тот же,
но ты не Рим отныне для славян.
Всё потому, что никакой народ,
сколь дальше бы не шёл в века, сколь дольше
не шёл бы из веков на свет, не должен
чужим платком завешивать свой рот.
Так из какой пергаментной трухи
мы тащим в свет, навзрыд и безголосо,
свои грехи как вечные вопросы,
и вечные вопросы как грехи?
…Я не пойму в Христе того юнца,
того юнца, которого так мучит
досужий помысл выбрать помогуче
и посильней в себе отцы отца.
От крови, нет, не отрекайся кровь!
Тот никогда не выродится Ирод,
что будет сыном из могилы вырыт
и выброшен воронам на расклёв.
И так же победившего рука
не станет твёрже, если осерчавши
отцовский череп выскоблит для чаши
в честь умного и сильного врага.
Но я никак не должен пренебречь
и вашей скрытой просьбою, читатель:
пусть Хастинга детишки кличут «тятей»,
пусть Фьюче, взяв ухват, штурмует печь…
А если так, окончен мой рассказ.
Позвольте уж закончить без морали,
мы от морали в школе умирали,
но так уж, видно, повелось у нас.