Текст книги "Пороги"
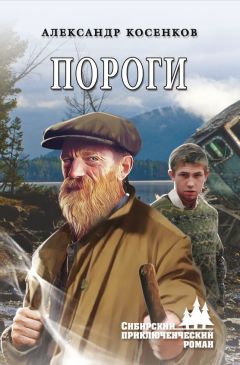
Автор книги: Александр Косенков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Очередной призыв
Голые, худые, низкорослые парни один за другим проходили перед комиссией. Поворачивались, приседали, расставляли руки.
Главный врач наклонился к майору:
– Первый послевоенный призыв. Разве сравнишь? Каких богатырей в сорок первом отправляли…
Майор недовольно поморщился, тихо ответил:
– Они, между прочим, тоже свою войну отшагали. И голод, и работу не по себе… Ростом, говоришь, не вышли? А я бы с такими на любом фронте спокойным был.
– Вы меня не так поняли, товарищ майор, – поспешил оправдаться врач. – Я чисто в статистическом смысле… Кстати, вот вам и исключение…
Перед ними стоял высокий и сильный Санька Рогов.
– Перфильев? – заглянул в список майор. – Не забыл наш разговор?
– Об училище? – спросил Санька.
– Об училище. В лучшее, как и договаривались.
– Товарищ майор… – замялся, было, Санька. – В училище, я слыхал, пораньше подаваться надо?
– Так а в чем дело? Собраться что ль долго?
– Да нет… Не получается пораньше. Хлеб убирать надо. Без меня не справиться будет. Мужиков у нас нынче никого.
– Хлеб, говоришь? – нахмурился майор. – Ладно, иди. Иди, иди. Обдумаем этот вопрос. Ступай..
Майор посмотрел на главного врача. Тот, склонив голову, что-то писал на лежавшем перед ним листе бумаги.
Медсестра объявила следующую фамилию:
– Ступин! Валерий Ступин!
Из-за спин выдвинулся и подошел к столу парнишка. Почти подросток по росту и худобе. Тяжелые, темные, разбитые работой кисти рук резко выделялись на белом теле. Парень неуверенно спросил, обращаясь к майору:
– Тут про училище говорили… Я согласен. В училище…
– Ступин… Ступин… – стал сверяться по списку майор. – Ты из какой семьи? Сколько человек?
– Мамка, братишка, две бабушки… Дед еще…
– Имеешь право на льготу.
Парнишка с надеждой смотрел на майора. Хотел что-то сказать, сглотнул комок в горле, но промолчал.
Майор болезненно поморщился, махнул рукой:
– Иди, Ступин. До следующего года иди. Там видно будет.
Обещание
Старый амбар на краю поля накрыло стремительным солнечным ливнем. Неподалеку стояли оседланные, лоснящиеся от воды кони.
Перфильев с Перетолчиным стояли под прогнившим, протекающим навесом, смотрели на поле, на дождь, на быстро уносящиеся на юг тучки. Охотничьи ружья поставили к стене, подальше от вездесущих капель. Перфильев явно маялся вынужденным бездельем и затянувшимся молчанием, но разговора не начинал, выжидал, пока не заговорит секретарь. Тот наконец ворохнулся, словно стряхнул с себя оцепенение, накатившее от гипнотизирующего шелеста дождя, и пробормотал, словно самому себе:
– Не люблю дожди.
– Ни к чему они сейчас, – согласился Перфильев.
– Чувствуешь, понимаешь, какое-то бессилие. Стихия не стихия… Как тоска навалится, засосет – и ничего невозможно поделать. Одно спасение – мобилизоваться и ждать. Рано или поздно все равно наша возьмет. Согласен?
– Лишь бы не поздно, – не то согласился, не то возразил Перфильев.
– По радио на днях правильно подсказали: «Оптимизм наша надежда и опора». Закуришь?
– Бросил.
Перетолчин закурил, то и дело поглядывая на хмурого председателя.
– Сомлел ты что-то, Николай, – решил он наконец приступить к основному разговору. – Я-то хорошо помню, каким ты перед войной был. Герой! Ну, чего киснешь? Смотри, какая пшеница поднялась. Я на твоих полях душой отошел.
– Пшеница неплохая, – согласился Перфильев.
– Не прибедняйся – «неплохая». Хорошая пшеница. По шестнадцать центнеров запросто возьмешь. Не зря, получается, я тебе названивал: глубже паши, быстрее паши, больше паши…
– Людей у нас с сева и половины не осталось…
– Знаю.
– Не убрать будет, я уж сразу скажу. Если которые остались мужики, так в тайгу подадутся. Тогда и половины не убрать.
– Пушнина тоже большое дело. Указ имеется – не препятствовать. Им тоже план спущен.
– Вот оно и получается – план на план. Не о десяти же мы головах. Насчет леса – колхоз, насчет пушнины – колхоз, куда ни кинь – опять колхоз. Хлеб! Да мы бы его втрое дали, кабы по-умному все шло… Может МТС о комбайне попросить, Виссарион Григорьевич? Откликнутся на такое предложение?
– С комбайном ничего не выйдет, не надейся даже. И масштабы твои не те, и по клочкам твоим не наездишься. С ними все твердо решено – «Рассвету» и «Красному пути» направляют. И не обижайся. У них тоже не сахар, а земли больше.
– Мне бы дня на два. Дальнее только убрать.
– А перегон не считаешь? Клади два-три дня. А тут еще дожди… От комбайнов этих одно название осталось. Случись что – по полной отвечать придется. Да еще с привеском. Так что, дорогой товарищ председатель, вдвое, а то и втрое придется работать.
– Это уж так, насколько сил хватит. От работы мы еще не бегали…
Перфильев помолчал, поморщился на зависшую над полем приблудную тучку и, наконец, решился.
– Тут к нам днями житель с нашей деревни с фронта заехал. Прежний житель. Мужик умный, хозяин хороший был… Так он прямо говорит – не может ваш колхоз существовать. Не имеет права. По всей науке соответствующей не может. Базы под ним не имеется. Экономической. Людей всего ничего. Держитесь еще, как насквозь раненный, а как вдохнете поглубже, так на тот свет…
Перетолчин не спешил с ответом. Долго молчал. Наконец отбросил докуренную до мундштука папиросу и повернулся к Перфильеву.
– Хозяин, говоришь, хороший? Ну, а ты что ему?
– Что я… Как положено – выдержим, говорю. И строиться начнем, и барахлишком обзаведемся…
– А в душе, небось, кошки скребут? Эх, Перфильев, Перфильев! Тебе ли не знать, сколько раз нас хоронили. Сам видишь – живем еще. Лучшей пропаганды не придумаешь.
Заблудившуюся тучку наконец снесло ветром. Проглянуло скатывающееся к закату солнце.
– Кончается водичка небесная, – явно обрадовался Перетолчин. – Пойдем, что ли?
Они вышли из-под навеса, сели на коней, поехали вдоль поля к реке.
– Будут тебе люди! – неожиданно даже для себя самого пообещал Перетолчин.
Перфильев даже коня придержал.
– Что?
– Дам, говорю, людей на уборку. На много не рассчитывай, но человек восемь – десять пришлем. Наскребу по сусекам. Запишем, как смычку города с деревней. Вроде необходимого почина.
– Поедут ли?
– А это уже наша забота. Твое дело хлеб до колоска убрать. Об этом болей. Тут с тебя с одного спрос. Старица твоя далеко?
– Считайте, приехали…
Направили коней к мокрым кустам прибрежного черемушника. Оставили их у межевого столба и стали пробираться к заводи.
Вдоль заполыхавшего после ненастья заката летела стая уток. Свист их крыльев надвое разрезал тишину наступившего вечера. Выстрел Перетолчина разбил их полет. Стая метнулась в сторону, и только два бесформенных комочка безжизненно упали на землю.
Перфильев тоже выстрелил. Утка упала в воду у самого берега. Прихрамывая, Перфильев вошел в воду, чтобы достать ее. Но серый комок шевельнулся. Судорожно дергаясь, утка поплыла вдоль берега к спасительным нависшим над водой кустам. Следом вдоль берега шел по воде Перфильев. Остановился, опустил ружье. Утка снова безжизненно распласталась на воде. За кустами снова раздались выстрелы, а над самой водой, свистя крыльями, потянула новая стайка. Перфильев достал утку и вышел на берег. Охотиться ему больше не хотелось.
Пожить охота…
После слов секретаря о возможной подмоге на уборке на душе вроде полегчало, но ненадолго. Ночью опять не спалось. Лежал, глядя на засветлевшие рассветом окна, не мигая, не шевелясь. Рядом тихо посапывала уткнувшаяся в плечо Екатерина.
Закричали петухи. Осторожно, стараясь не разбудить жену, встал и, не одеваясь, пошел через избу к двери.
Екатерина, приоткрыв глаза, смотрела вслед. Скрипнула входная дверь. Екатерина села на постели и в нерешительности замерла, не зная, на что решиться…
Деревня, накрытая серым сумраком начинающегося рассвета, была тиха, словно вымерла. Замолчали петухи, и сонная тишина накрыла окрестности. Без дымка, без движения поодаль темнели избы. Пустынная улица уходила в туман околицы. Смотрел на свою притихшую деревню Николай с высокого крыльца избы, зябко поеживался от холодного воздуха уходящей ночи. Позади скрипнула дверь, и на крыльцо вышла Екатерина.
– Сон видела… До сих пор не отойду. Проснулась – тебя нет…
– Приду сейчас…
Помолчали. Екатерина не отводила глаз от сутулой спины мужа.
– Легче одному-то?
– Ты об чем?
– Ладно бы не знала тебя. Раньше, так всю ночь, бывало, говоришь, все обскажешь – и что надумал, и что сделать надо, как лучше быть. А теперь ровно чужие… Молчишь?
– Что говорить-то?
– Ну, коли нечего…
– Санька опять не пришел?
– Завязался он с Надехой. Ей, сироте, подсказать некому. Кабы свадьбу играть не пришлось.
– Можно и свадьбу.
– Александр, что ль, тебя с ума сбил? Нашел чем печалиться. У него своя жизнь, у нас своя…
– Не плети. Только об нем у меня и заботы. Мне бы об себе все обдумать.
– Стал бы ты над собой ночи не спать…
– Тут теперь не понять – где я, где все остальные. Все в узелок завязалось. Не дают нам комбайн на уборку.
– Когда нам его давали?
– Без него не убраться. А за хлеб теперь – сама знаешь…
– Да ты-то что сделать можешь?
– Вот и думаю, что могу.
– Александр говорил – подаваться нам надо. От беды, говорит…
– Это по его – подаваться. Не верю ему. Он, может, и не со зла, а в душе точно мыслишка есть: на вот вам, что получилось. Сдох колхозишко ваш. Советует подаваться, чтобы совсем правым быть.
– Сам ты такое придумал. Себя проверяешь. А о самом главном позабыть хочешь…
– О каком таком главном?
– Что по ночам криком от боли кричишь. Что весь в узлах от ранений своих. Я другой раз обнять тебя боюсь. Слез ты моих не видишь… А кто другой знает, кроме меня? Тебя же врачи с госпиталю не пускали. Пустили – думали, приедешь домой, отлежишься, молоко попьешь, отдохнешь. А ты сразу воз на себя. Отдохнешь, как же. На том свете отдохнешь.
– Погодишь, может, хоронить?
– Да я сама к врачам пойду. Ждать, думаешь, буду, пока мужика вконец умают?
– Ну, меня умаять, еще две войны надо.
– Куда там… – Она села рядом с мужем, обхватила его. – Может, правда куда поедем, Коля? Живут же люди спокойно, тихо. Я ведь тоже как намучилась за эти годы, тоже пожить охота…
Перфильев в глубокой задумчивости смотрел перед собой.
Уже давно слышался глухой звук ботала. Он все приближался и приближался. Пустой деревенской улицей, неловко вскидывая спутанными передними ногами, продвигался куда-то стреноженный конь.
Прощание
Торопливо, то и дело срываясь на бег, оставляя темный след на росистой отаве, Вера подбежала к реке, зайдя в воду, оттолкнула от берега длинную узкую лодку, запрыгнула в нее, качнулась, чуть не упав, прошла к корме, взяла короткое весло, сильными короткими гребками погнала лодку по стремительному течению.
Мимо проносился уже желтеющий от первых осенних холодов таежный берег, кипела шивера, плыли по прозрачной холодной воде первые умершие листья.
Но вот она опустила весло, и лодка поплыла вровень с утихомирившимся течением протоки.
Старая разбитая дорога тянулась вдоль берега. По ней медленно ехала телега, на которой Вера отчетливо разглядела троих: мальчишку, подергивающего вожжи, дядю Федю и Степана, который уже разглядел лодку и теперь неотрывно смотрел на реку. Девушка еще несколько раз взмахнула веслом, и лодка поплыла вровень с телегой, тащившейся по дороге и то и дело пропадавшей то за высоким запушившимся кипреем, то за кустами тальника.
Степан смотрел на лодку и не слышал ни слова из того, что говорил, не переставая, подвыпивший дядя Федя.
– Я что печалился? Озлишься, думаю себе, на белый свет: без корысти, мол, безо всякой своей да в такое горе попал. Пошто Верку твою принял без возражениев, что полюбила тебя лядящего. Гляди, как прихитрилась – едет да едет. Плачет, понятное дело. Бабы, как плачут, так, значит, нас спасают. Это хорошо, парень, что плачет по тебе кто. По этой дорожке из слез тебе назад идти…
Телегу нещадно трясло на разбитом ухабами и дождями проселке. Но Степан не замечал ни толчков, ни пронизанного солнечным светом окрестного пейзажа, ни дороги, начавшей постепенно сворачивать от реки на взгорье, густо поросшее низкорослым сосняком. Он плыл сейчас в лодке, рядом с ней. И слезы ее были рядом, и лицо…
Прощание с матерью и сестренками две недели назад по его как бы вине и ошеломившее его явной несправедливостью и обидой неизвестно на кого, до сих пор саднило непреходящей болью и частенько подкатывающими от беспомощности слезами. Сейчас же он впервые в жизни почувствовал желание сделать что-то самому, принять самостоятельное решение, независимое от того, что ему обязательно предстояло исполнить, дабы избежать каких-то новых, еще неведомых ему наказаний. Хотя хуже того наказания, которое уже случилось и происходило сейчас, быть уже не могло. Во всяком случае, именно так он и думал, с трудом удерживаясь от желания соскочить с телеги, с разбегу броситься в реку, доплыть до лодки, уцепиться за борт… И – будь что будет. Но в глубине души знал, что не решится на это. И не потому, что боялся и догадывался о бесполезности и глупости подобного поступка. Просто вдруг понял, что после такого никогда не сможет больше сюда вернуться, что его просто-напросто уведут или увезут под конвоем, навсегда лишив возможности делать то, что ему сейчас больше всего хотелось сделать…
– Такие вот дела, Степан Егорович, – бормотал Федор Анисимович, вытирая то и дело слезившиеся глаза. – Совсем стал слаб на слезу в последнее время…
Я-то свой срок, насколько здоровья хватит, дотяну, а ты должон ни днем раньше, ни часом позже, тюля в тюлю, самостоятельную жизнь начинать с полной ответственностью. Значит, беречься и соображать требуется, что к чему и как. Как раньше умные люди говорили – «Богом даденная». Про жизнь нашу такое вот понятие у них было. Второй раз ее не будет, эту бы в порядок привесть…
Степка сейчас впервые чувствовал себя взрослым. Пересилив разрывающую сердце боль и желание разреветься, он сидел с закаменевшим лицом, покачивался от толчков телеги и не отводил глаз от плывущей вдоль берега лодки.
Лодка скользила сквозь желтые, насквозь прохваченные солнцем ветви, мимо нагромождения камней, за стволами вековых сосен, вдоль светлых всплесков таежных полян, скользила по отражению облачного бездонного неба…
Степану же почему-то слышалось, как брякали совсем рядом глуховатыми боталами пасущиеся на берегу невидимые кони.
Комиссия
Перфильев, прикрыв один глаз ладонью, смотрел на далекую, освещенную тусклым желтым светом таблицу с расплывчатыми значками букв. Буквы вздрагивали и расплывались. Рядом с таблицей стояла с указкой сестра. Она шепотом говорила неразборчивые слова, и он повторял их, то угадывая, то ошибаясь: одиннадцать… восемь… два… тридцать четыре…
Потом врач выслушивал его покрытую розоватыми рубцами грудь. Поднял голову, строго посмотрел в глаза и вдруг ободряюще улыбнулся и стал что-то объяснять…
Засветился экран рентгеновской установки. За решеткой ребер испуганно вздрагивало сердце Николая Перфильева…
Закрыв дверь рентгеновского кабинета, он в растерянности остановился, сжимая в руках бумажный прямоугольник справки.
Небольшой кабинет районной больницы был забит до отказа. Отодвинув его, в кабинет вошел мужчина, неся, как куклу, запакованную в гипс руку. В очереди ожидающих, не переставая, плакал, прижимаясь к матери, ребенок. Подошла Екатерина. Поглядев в растерянные глаза мужа, тихо спросила:
– Что?
– Пошли…
– Говорят-то что?
Оглянувшись на плачущего ребенка, нехотя пробормотал:
– Сказали, путевку дадут в санаторий. Лечиться. А с работы сказали уходить… С этой.
– Слава богу, – обрадовалась Екатерина. – Есть правда-то. А то гляжу – вышел, как пришибленный. Что я тебе говорила? Не заставь тебя, так бы все и осталось…
– Пошли…
– Идем, идем… идем. Дальше-то как будем?
– Что дальше?
– Лечиться-то как? Когда?
Перфильев промолчал. Смотрел на проталкивающегося сквозь толпу инвалида на костылях, которого он видел в чайной. Проходя мимо него, инвалид посмотрел ему в глаза, словно хотел что-то сказать, но, опустив голову, стал проталкиваться дальше.
– Чего ты молчишь? – не выдержала Екатерина.
Перфильев скомкал справку в кулаке и, стараясь не хромать, пошел к выходу. Екатерина растерянно оглянулась и заспешила следом.
У коновязи Перфильев отвязал коня, перекинул вожжи, забрался на телегу. Рядом села Екатерина. Телега неторопливо застучала по рытвинам дороги.
– В райком заезжать будешь? – поинтересовалась Екатерина.
– Нет.
– Куда ж сейчас?
– Домой.
Скрипела и стучала телега. Но, заглушая ее стук, чем ближе к дому, тем ровнее и спокойнее билось за клеткой ребер человеческое сердце.
– Дышите… – попросил невидимый в темноте врач. – Глубже… Еще глубже… Вас оперировали?
– Да.
– Сказали, что осколок остался?
– Да.
– Он будет напоминать о себе. Иногда неприятно.
– Да…
– У вас, кажется, еще ранение в голову?
– Первое.
– Что первое?
– Первое ранение. Старое.
– Головные боли бывают?
– Да.
– Сильные?
– Терпеть можно.
– Я смотрю, вам слишком многое приходится терпеть.
Врач закурил. Дрожащий огонек спички осветил его усталое лицо. Потом он выключил аппарат, и все погрузилось во тьму…
Екатерина подхватила выпавшие из рук Николая вожжи и, едва удерживая слезы, взмахнула кнутом.
Уговоры… Разговоры…
Перфильев открыл входную дверь большой избы, зашел в сени, постоял в нерешительности перед следующей дверью и, не постучав, открыл ее.
На первый взгляд в избе никого не было. Но оглядевшись, Перфильев увидел на кровати за полузадернутым пологом спящего Григория Шишканова. Приоткрыв дверь, он с силой закрыл ее. Григорий проснулся. Сел, опустив босые ноги на пол.
– Председатель… А я думал, Нюрка пришла. Садись, Николай Иннокентьевич, в ногах правды нет. По делу?
Перфильев, не торопясь, прошел за стоявшей у печки табуреткой, поставил ее почти посередине избы напротив Григория, сел.
– Может, того? – окончательно очухался от неуместного дневного сна Шишканов. – Мы к гостям всегда с уважением… – Колька! – позвал он на помощь отсутствующего сына. Не получив ответа, махнул рукой и, встав на ноги, направился было к задоскам. – Опять собак гоняет, сукин сын. Разбаловались пацаны за войну, управы нет. Так как?
– Выпить мы с тобой, Григорий, всегда успеем, не уйдет… Ты мне лучше что скажи – когда в тайгу подаваться собираешься?
– В тайгу-то? – замер на полушаге Шишканов. – Так собираюсь уже. А что?
– Не рано засобирался?
– Так я, Николай Иннокентьевич, подрядился в промхозе на старом ухожье зимовье новое срубить. Время-то надо? Пока то, другое… Ты говори, давай, чего пришел-то. Зря не придешь.
– Говорю. Может, погодишь с зимовьем?
– Это что ж так?
– Хлеб убрать надо. Нельзя такой хлеб на корню оставлять.
– Без Шишканова, получается, все дело станет?
– Объяснять тебе, что каждый человек на счету?
– Понятное дело… А как, Николай Иннокентьевич, платить будешь на уборке? За зимовье мне две с половиной дадут… тысячи, само собой. Орехов до снегу еще набью. Худо-бедно, еще тысячу клади. Семью-то кормить надо. Нюрка у меня с привесом нынче. А сколько, председатель, ты мне на трудодни отвалишь? На заработанные, на будущие? Может, если подумать, так зря я с этим делом связался, с зимовьем? Хлеб-то нынче важный… Без хлеба нам тоже нельзя.
– Больше, чем в прошлом году, на трудодень не выйдет, сам знаешь.
– Это почему ж так-то? Хлеб-то важный, говорят…
– Ты дурковатого из себя не строй. Ты у Кольки своего спроси, как страна живет, какие раны лечить приходится. Глухой ты, слепой? В тайгу убежать от трудности общей желаешь?
– А я, Николай Иннокентьевич, между прочим, не на гулянку собираюсь. В газетах-то что пишут? «Пушнина – мягкое золото», «Добудем стране как можно больше пушнины». Кто ее добывать будет? А как ее добывать, Николай Иннокентьевич, не позабыли еще? Так чем же ты коришь-то меня?
– Совестью корю. Ты же колхозник. А для колхозника хлеб – первое дело.
– Так ведь он хлеб, когда его ешь. А когда его нетути – один только разговор получается. И тот не соседский. Может, посидим, как люди, поговорим? Ты, я слышал, уезжать собираешься?
Перфильев поднялся.
– Ладно, поговорили. Спи дальше.
– Пошли бы в ухожье на пару. И мне легче, и ты бы отдышался. Участок добычливый, старый. Как?
Перфильев, не отвечая, вышел из избы. Григорий пошел было к окну, запнулся о табуретку, на которой только что сидел Перфильев, в сердцах отшвырнул ее ногой. В окно было видно, что Николай шел к следующей избе.
В избе у Надежды обедали. Двое бледных светловолосых девочек восьми и четырнадцати лет чистили сваренную в мундирах картошку, ели, запивая ее разведенным молоком. Надежда не ела. Сидела, словно позабыв про еду, и не отводила взгляда от дочек.
Перфильев сел у двери на лавку. Поглядев на скудно накрытый стол, негромко пообещал:
– Тем, кто на уборке будет, завтра муку выдадим.
Надежда отвела взгляд от дочерей, повернулась к председателю.
– Нинка у меня приболела. Не ест вон ничего… Хлебушко-то куда как в пору…
– Со старшей пойдешь – выдам на двоих, полностью. Возьму на себя такую ответственность.
– А за Степку аль не положено? За весну еще… Сколь малый в урочище ломался…
– С ним я полный расчет провел. По совести…
– Он мне все, что выдали, до копейки оставил. Плакал все – как, мама, жить-то будете? А я ему – раньше, ирод, думал бы, когда водку жрал.
– Просил я за них…
– Куда ставить-то меня хочешь? Спина-то не гнется. Какой из меня работник? А на нее глянь, на Верку… Поднимет она сноп?
Старшая приподнялась из-за стола:
– Я пойду, дядя Коля. Куда надо пойду…
– Молчи уж, лядящая! Куда надо она пойдет… – с трудом, словно стряхивая с себя обессиливающий груз тяжелых раздумий, поднялась Надежда. – Когда муку-то давать будешь?
Перфильев молча смотрел на худенькую белоголовую Нинку, которая, глядя куда-то в сторону, грела о теплую картошку прозрачные ладошки, и не слышал, что говорила Надежда. Перевел взгляд на карточку широкоплечего чернобородого мужика в простенке – Степан был не похож, но в то же время очень похож на него. В Красном углу висела икона Николая Чудотворца. Он тоже смотрел на белоголовую Нинку и хмурился. Потом снова услышал голос Надежды:
– …нам по нашему горю зиму бы перебиться. Больше мне не протянуть. Мой который уже раз во сне приходит. Так-то ласково манит, что и узнать его не могу. Он у меня крутой был, помнишь поди. Пойдем, говорит, Надя, на реку. Это ж зачем, говорю. Меня дочки в доме ждут. Подождут, говорит. Им не грудь сосать, большие уже. И снова манит – пойдем да пойдем… Так-то и томлюсь ночь всю. Поплакать – так слез нет. И откуда знат-то, что дочки выросли? Подроща моя – глянь на них…
– Завтра в обед к правлению подходите, – вроде как не впопад пробормотал Перфильев.
Ответа он не расслышал. Чуть погодя, очнувшись от внезапно накатившего забытья, он увидел, что Надежда стоит напротив него, показывая рукой в сторону сидящих за столом девочек. Он тоже стал смотреть туда и встретился взглядом с задумчиво глядящей на него Ниночкой. Тоненькие, туго заплетенные косички, обветренное, вроде бы не очень красивое личико… И лишь огромные отрешенно глядящие на него глаза вдруг перехватили горло тяжелым горьким комком. С трудом раздвинув сухие губы, попытался ободряюще ей улыбнуться. Кажется, не получилось. Она по-прежнему строго, без улыбки смотрела на него и все пыталась согреть прозрачные ладошки о чуть теплую неочищенную картофелину.
– … А Нинку тогда в городе в детдом отдадите, пока Степка не вернется, – услышал он наконец Надежду. – Он, как вернется, так доглядит. Он у меня ласковый…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































