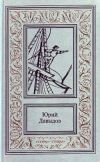Текст книги "Юнкера"
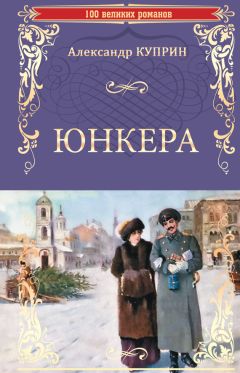
Автор книги: Александр Куприн
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
Глава XIII. Слава
На вакации, перед поступлением в Александровское училище, Алексей Александров, живший все лето в Химках, поехал погостить на неделю к старшей своей сестре Соне, поселившейся для деревенского отдыха в подмосковном большом селе Краскове, в котором сладкогласные мужики зимою промышляли воровством, а в теплые месяцы сдавали москвичам свои избы, порою о двух и даже о трех этажах. Сонин дом Александров знал еще с прошлого года и потому, спрыгнув на ходу с вагонной площадки, быстро и уверенно дошел до него. Но у окна он с некоторым изумлением остановился. Соня играла на пианино, и он сразу узнал столь любимую им Вторую рапсодию Листа. В этом не было, конечно, ничего необыкновенного; поразил Александрова незнакомый и, по правде сказать, диковинный Сонин гость. Он был длинен, худ и с таким несчетным количеством веснушек на лице, что издали гость казался крашенным в темно-желтую краску или страдающим желтухою. Одет он был фантастически: в долгую, до земли, и преувеличенно широкую размахайку цвета летучей мыши. Высоко и буйно задирая вверх щекастую голову, он носился взад и вперед по комнате. Левая рука его держала угол размахайки и заставляла ее развеваться в воздухе, как театральный плащ Демона. А в правой руке у незнакомца был столовый нож, которым он неистово дирижировал в такт Сониной музыке.
Эта картина была так странна и сверхъестественна, что Александров точно припаялся к оконному стеклу и не мог сдвинуться с места. А тут Соня добралась до этого дьявольского цыганского престо-престиссимо, от которого ноги молодых людей начинают сами собой плясать, ноги стариков выделывают поневоле, хоть и с трудом, хоть и совсем не похоже, лихие па старинных огненных танцев и кости мертвецов шевелятся в могилах. С желтолицым человеком произошла точно мгновенная судорога. Он швырнул на пол свой мышастый разлетай, издал дикий вопль и вдруг с такой неожиданной силой и ловкостью запустил ножом в стену, что острие вонзилось в нее и закачалось.
Послышался испуганный крик Сони. Александров почувствовал, что теперь ему, как мужчине, необходимо принять участие в этом странном происшествии. Он затряс ручку дверного звонка. Соня отворила дверь, и испуг ее прошел. Она уже смеялась.
– Здравствуй, здравствуй, милый Алешенька, – говорила она, целуясь с братом. – Иди скорее к нам в столовую. Я тебя познакомлю с очень интересным человеком. Позвольте вам представить, Диодор Иванович, моего брата. Он только что окончил кадетский корпус и через месяц станет юнкером Александровского военного училища. А это, Алеша, наш знаменитый русский поэт Диодор Иванович Миртов. Его прелестные стихи часто появляются во всех прогрессивных журналах и газетах. Такое наслаждение читать их!
Желтолицый поэт картавил, хотя и не без приятности.
– Мигтов, – говорил он, пожимая руку Алеши, – Диодог Мигтов. Очень гад, весьма гад. Чгезвычайно люблю общество военных людей, а в особенности молодых.
Соня вспомнила недавнюю трагикомическую сцену.
– Ах, как Диодор Иванович меня сейчас напугал, – сказала она добродушно и весело.
Александров осторожно промолчал о том, что он видел сквозь окно. Немного конфузясь, Миртов стал выдергивать из шелевки крепко завязший в ней нож и бурчал, точно извиняясь:
– Чегтовская эта музыка венгегская. Электгизигует негвного человека. Слышу эту Втогую гапсодию Листа и во мне закипает кговь моих дгевних пгедков, каких-нибудь скифов или хазагов. Уж вы меня пгостите, догогая Софья Николаевна. Стихийная у меня натуга и дугацкая.
Александров внимательно рассматривал лицо знаменитого поэта, похожее на кукушечье яйцо и тесной раскраской, и формой. Поэт понравился юноше: из него сквозь давно наигранную позу лучилась какая-то добрая простота. А театральный жест со столовым ножом Александров нашел восхитительным; так могут делать только люди с яркими страстями, не боящиеся того, что о них скажут или подумают обыкновенные людишки.
В ту пору дерзость, оригинальность и экспансивность были его героической утехой. Недаром он тогда проходил через волшебное обаяние Дюма-отца. Зато стихов Миртова, которых он с неизменной любезностью прочитал много, Александров совсем не понял и добросовестно отнес это к своей малой поэтической восприимчивости.
Соня, всегда немножко бестактная, не упустила случая сделать неловкость. В то время, когда Миртов, передыхая между двумя стихотворениями, пил пиво, Соня вдруг сказала:
– А вы знаете, Диодор Иванович, наш Алеша ведь тоже немножко поэт, премиленькие стишки пишет. Я хоть и сестра, но с удовольствием их читаю. Попросите-ка его что-нибудь продекламировать вслух.
Александров от стыда и от злости на сестру стал сразу мучительно пунцовым, думая про себя: «О, Бог мой! До какой степени эти женщины умеют быть бестактными».
Миртов каким-то придавленным голосом, с искривленною улыбкой сказал:
– А что же, молодой воин. Прочитайте, прочитайте. Мы, старики, всем сердцем радуемся каждому юному пришельцу. Почитайте, пожалуйста.
Александров чутким ухом услышал и понял, что никакие стихи, кроме собственных, Миртова совсем не интересуют, а тем более детские, наивные, жалкие и неумелые. Он изо всех сил набросился на сестру:
– Как тебе не совестно, Соня? И какие же это стихи. Ни смысла, ни музыки. Обыкновенные вирши бездельника-мальчишки: розы – грозы, ушел – пришел, время – бремя, любовь – кровь, камень – пламень. А дальше и нет ничего. Вы уж, пожалуйста, Диодор Иванович, не слушайте ее, она в стихах понимает, как свинья в апельсинах. Да и я – тоже. Нет, прочитайте нам еще что-нибудь ваше.
Таким образом и подружились пятидесятилетний, уже заметно тронутый сединою, известный поэт Миртов с беззаботным мальчуганом Александровым.
Миртов был соседом Сони, тоже снимал дачку в Краскове. Всю неделю, пока Александров гостил у сестры, они почти не расставались. Ходили вместе в лесок за грибами, земляникой и брусникой и два раза в день купались в холодной и быстрой речонке.
У Миртова был огромный трехлетний пес сенбернарской чистой породы, по кличке Друг. Собака была у писателя, как говорится, не в руках: слишком тяжел, стар и неуклюж был матерый писатель, чтобы целый день заниматься собакой: мыть ее, чесать, купать, вовремя кормить, развлекать и дрессировать и следить за ее здоровьем. Зато Друг охотно пошел к Александрову, как веселый сверстник и компаньон по проказам. Началась их приязнь так: Друг по какому-то давнишнему капризу ни за что не хотел лазить в речную воду, а теми обливаниями на суше, какими его угощал хозяин, он всегда оставался недоволен – фыркал, рычал, вырывался из рук, убегал домой и даже при всей своей ангельской кротости иногда угрожал укусом.
Александров справился с ним одним разом. Уж не такая большая тяжесть для семнадцатилетнего юноши три пуда. Он взял Друга обеими руками под живот, поднял и вместе с Другом вошел в воду по грудь. Сенбернар точно этого только и дожидался. Почувствовав и уверившись, что жидкая вода отлично держит его косматое тело, он очень быстро освоился с плаванием и полюбил его.
Вскоре он и Алексей стали задавать в речке настоящие морские бои и правильные гонки. С этого почина собака доверчиво и с удовольствием влегла в тренировку. Увлеченный этим милым занятием и охотной понятливостью ученика, Александров вместо недели пробыл в Краскове две с половиной.
Миртов благодарно полюбил эти купанья и прогулки втроем. Он был очень одинокий человек. В доме у него никого не было, кроме собаки и старой-престарой кухарки, которая ничего не слышала, не понимала и не умела, кроме как бегать за пивом.
Иногда он говорил Александрову: «Знаете что, Алеша? – поэзия есть вещь нелегкая. Тут нужен воистину Божий дар и вдохновение свыше. Миллионы было поэтов, и даже очень известных, а по проверке временем осталось их на всем белом свете не более двух десятков, конечно, не считая меня. А вы попробуйте-ка когда-нибудь сочинить прозу. У вас глаз меткий, ноздри как у песика, наблюдательность большая и, кроме того, самое простое и самое ценное достоинство: вы любите жизнь. Напишите когда-нибудь свеженький рассказ и принесите мне на Плющиху, где я всегда зимую. Я вам первую ступеньку с удовольствием подставлю, а там – что Богу будет угодно. После маленького рассказика, с воробьиный нос, напишите повестушку, а там, глядь, и романище о восьми частях, как пишет современный король и бог русской изящной литературы Лев Толстой. Да, кстати, рекомендую вам этого всемогущего льва читать пореже, а то потеряете и собственную индивидуальность, и вкус к своей работе. Это только в древние библейские времена смертный Иаков осмелился бороться с Богом и отделался сравнительно дешево – сломанной ногой. Теперь чудес не бывает».
А когда пришел Александрову срок уезжать из Краскова, то Миртов с сенбернаром проводили его на полустанок, и вслед уходящему поезду Миртов кричал, размахивая платком:
– Смотрите не забывайте меня и Друга, приезжайте. Адрес – Плющиха, дом Грязнова. Я живу вверху на голубятне. Ближе к Богу.
В Москве, уже ставши юнкером, Александров нередко встречался с Диодором Ивановичем: то раза три у него на квартире, то у сестры Сони в гостинице Фальц-Фейна, то на улицах, где чаще всего встречаются москвичи. И всегда на прощанье не забывал Миртов дружески сказать:
– А что же рассказец-то? Жду, жду. Не медлите, дорогой Алеша. Время течет. Течет.
Вот именно об этом желтолицем и так мило сумбурном поэте думал Александров, когда так торжественно обещал Оленьке Синельниковой, на свадьбе ее сестры, написать замечательное сочинение, которое будет напечатано и печатно посвящено ей, новой царице его исстрадавшейся души.
Обещание было принято и, как мистической печатью, было припечатано быстрым, сухим и горячим поцелуем. Теперь оставалось только написать рассказ, а там уж Миртов непременно сунет его в журнал какой-нибудь.
И с этого времени, даже, можно сказать, со следующего дня Александров яростно предался самому тяжелому, самому взыскательному из творчеств: творчеству слова. Конечно, напрасным оказался мудрый совет Диодора Ивановича: писать о том, что ты лично видел, слышал, осязал, обонял, чувствовал и наблюдал, нанизывая эти впечатления на любую, хотя бы скудную нить происшествия. Нет, он отрицал тонкие, изысканные подробности, которые придавали бы рассказу естественность движения. Он не умел придать своим персонажам различные оттенки в голосах, привычках, склонностях и недостатках. Черное у него было густо-черным, как самая черная ночь. Белое – бело, как крылья архангела или как цветок лилии, красное – красно, как огонь. Оттенков или переливов он знать не хотел и нужды в них не чувствовал. Ревность для него была, по давнишнему Шекспиру, «чудовищем с зелеными глазами», любовь – упоительной и пламенной, верность – так непременно до гробовой доски.
На таких-то пружинах и подпорках он и соорудил свою сюиту (он не знал значения этого иностранного слова), сюиту «Последний дебют». В ней говорилось о тех вещах и чувствах, которых восемнадцатилетний юноша никогда не видел и не знал: театральный мир и трагическая любовь к самоубийствам. Скелет рассказа был такой:
Утром, в дневной полутьме, на сцене большого провинциального театра идет репетиция. Анемподистов, антрепренер, он же директор и режиссер, предлагает второй актрисе – Струниной пройти роль Вари.
– Но ведь это моя коронная роль, – с ужасом восклицает первая актриса Торова-Монская, любовница Анемподистова.
– Ах, не волнуйтесь, дорогуля, – говорит директор, – труппа у нас совсем небольшая. Надо иногда, во внезапных случаях, заменять один другого.
– Ты ее любишь? Ты ее любишь? – горячо шепчет ему на ухо актриса Торова-Монская.
– Оставь, милая. Ты знаешь, что во всем мире я люблю тебя одну.
Дальше действие рассказа переносится за кулисы, в уборную. Решено, что Варю будет играть Струнина. Публика любит новые впечатления. Торова-Монская может отдохнуть немножко.
Но Монская сказала гордо:
– Я здесь, и я останусь. Струнина может играть завтра или когда ей будет угодно. Но я играю нынче в последний раз. Слышите ли вы, хам анемподийский! Сегодня я играю в самый последний раз.
И с этими словами вышла на сцену.
О боже, как приняла ее публика, увидев ее бледное, страдальческое лицо и огромные серые глаза! С каждым актом игра ее производила все более грандиозное впечатление на публику, переполнявшую театр. И вот подошла последняя сцена, сцена, в которой Варя отравляется.
Артистка подошла к рампе и потрясающим голосом сказала:
– Если любовь – то великое счастье. Если обман – то смерть. – И с этими словами поднесла к губам пузырек и вдруг упала в страшных конвульсиях.
«Доктора! доктора! О, какой ужас! – закричала публика. – Скорее доктора!» Но доктор уже был не нужен. Великая артистка умерла…
С блаженным чувством оконченного большого труда сделал юнкер красивую подпись: Алехан Андров. И украсил ее замысловатым росчерком.
Сто раз перечитал Александров свое произведение и по крайней мере десять раз переписал его самым лучшим своим почерком. Нет сомнений – сюита была очень хороша. Она трогала, умиляла и восхищала автора. Но было в его восторгах какое-то непонятное и невидимое пятно, какая-то постыдная неловкость очень давнего происхождения, какая-то неуловимая болячка, которую Александров не мог определить.
Тем не менее в одно из ближайших воскресений он пошел на Плющиху и с колотящимся сердцем взобрался на голубятню, на чердачный этаж старого деревянного московского дома. Надевши на нос большие очки, скрепленные на сломанной пережабинке куском сургуча, Миртов охотно и внимательно прочитал произведение своего молодого приятеля. Читал он вслух и, по старой привычке, немного нараспев, что придавало сюите важный, глубокий и красиво-печальный характер.
Юнкер и громадный сенбернар слушали его чтение с нескрываемым умилением. Друг даже вздыхал.
Наконец Диодор Иванович кончил, положил очки и рукопись на письменный стол и с затуманенными глазами сказал:
– Пгекгасно, мой догогой. Я вам говогю: пгекгасно. Зоилы найдут, может быть, какие-нибудь недосмотгы, поггешности или еще что-нибудь, но на то они и зоилы. А ведь кгасивую девушку осьмнадцати лет не могут испоргить ни годинка, ни гябинка, ни цагапинка. Анисья Хагитоновна, – закричал он, – принесите-ка нам бутылку пива вспгыснуть новогожденного! Ну, мой добгый и славный дгуг, поздгавляю вас с посвящением в гыцаги пега. Пишите много, хогошо и на пользу, на гадость человечеству!
Они чокнулись пивом и расцеловались.
Немного погодя и уже собираясь уходить, Александров спросил, можно ли ему будет написать впереди сюиты маленький эпиграф. Не сочтут ли это за ломание?
– О, совсем нет, эпиграф прелестная вещь. Что же вы хотите написать?
– Да всего две строчки из Гейне.
– Хороший поэт, чудесный. Какие же?
Александров прочитал дрожащим от волнения голосом: «Я, раненный насмерть, играл, гладиатора бой представляя».
– Пгекгасно, великолепно, веская цитата, – одобрил Миртов.
Тут юнкер, осмелев, решился спросить и насчет посвящения.
– А что же?.. Катайте. Ей? Конечно ей?
Юноша покраснел от головы до пяток.
– Да, одной моей хорошей знакомой, в память уважения, дружбы и… Но следующий мой рассказ непременно будет посвящен вам, дорогой Диодор Иванович, вам, мой добрый и высокоталантливый учитель!
Миртов засмеялся, показав беззубый рот, потом обнял юнкера и повел его к двери.
– Не забывайте меня. Заходите всегда, когда свободны. А я на этих днях постагаюсь устгоить вашу гукопись в «Московский гучей», в «Вечегние досуги», в «Гусский цветник» (хотя он чуточку слишком консегвативен) или еще в какое-нибудь издание. А о гезультате я вас уведомлю откгыткой. Ну, пгощайте. Впегед без стгаха и сомненья!
Но страх и сомнения терзали бедного Александрова немилосердно. Время растягивалось, подобно резине. Дни ожидания тянулись, как месяцы, недели – как годы. Никому он не сказал о своей первой дерзновенной литературной попытке, даже вернейшему другу Венсану; бродил как безумный по залам и коридорам, ужасаясь длительности времени.
И вот наконец открытое письмо от Диодора Ивановича. Пришло оно во вторник: «Взяли “Вечерние досуги”. В это воскресенье, самое большее – в следующее, появится в газетных киосках. Увы, я заболел инфлюэнцей, не встаю с постели. Отыщите сами. Ваш Д. Миртов».
В первое воскресенье Александров обегал десятка два киосков, спрашивая последние номера «Вечерних досугов», надеясь на чудо и не доверяя собственным глазам. К его огорчению, все «Досуги» были одинаковы, и ни в одном из них не было его замечательной сюиты «Последний дебют».
В следующее воскресенье он не имел возможности предпринять снова свои лихорадочные поиски, потому что в наказание за единицу по фортификации был лишен этим проклятым Дроздом отпуска.
Что делать? Пришлось открыть свою непроницаемую тайну милому товарищу Венсану, и тот с обычной любезной готовностью взялся найти и купить очередной номер «Досугов».
Весь день терзался Александров нестерпимой мукой праздного ожидания. Около восьми часов вечера стали приходить из отпуска юнкера, подымаясь снизу по широкой лестнице. Перекинувшись телом через мраморные перила, Александров еще издали узнал Венсана и затрепетал от холодной дрожи восторга, когда прочитал в его широкой сияющей улыбке знамение победы.
Держать в руках свое первое признанное сочинение, вышедшее на прекрасной глянцевитой бумаге, видеть свои слова напечатанными черным, вечным, несмываемым шрифтом, ощущать могучий запах типографской краски… что может сравниться с этим удивительным впечатлением, кроме (конечно, в слабой степени) тех неописуемых блаженных чувств, которые испытывает после страшных болей впервые родившая молодая мать, когда со слабою прелестною улыбкой показывает мужу их младенца-первенца.
Во всяком случае, наплыв радости был так бурен, что Александров не мог стоять на ногах. Его тело требовало движения. Он стал перепрыгивать без разбега через одну за другой кровати, стоявшие ровным, стройным рядом, туда и обратно и еще один раз. Только тогда он уселся на своей койке и принялся за чтение с бьющимся сердцем. Он прочитал сюиту два раза, сначала с летучей беглостью, потом более внимательно – и так и так произведение было восхитительно. Он дал его прочитать Венсану, а сам глядел через его плечо, поминутно отнимая у него листки, чтобы прочитать вслух наиболее сильные места. Потом завладел «Вечерними досугами» весь первый курс четвертой роты, потом пришли сверстники-фараоны других рот, потом заинтересовались и господа обер-офицеры всех рот.
Слава юнкера, ставшего писателем, молниями бежала по всем залам, коридорам, помещениям и закоулкам училища. Спрос на номер «Вечерних досугов» был колоссальный.
К Александрову шла со своим шумом настоящая слава, которая отозвалась усталостью и головной болью.
Ночь он провел тяжело и нудно. Сначала долго не мог заснуть, потом ежеминутно просыпался. На тусклом зимнем рассвете встал очень рано с тяжестью во всем теле и с неприятным вкусом во рту.
Глава XIV. Позор
Рота умылась, вычистилась, оделась и выстроилась в коридоре, чтобы идти строем на утренний чай.
К перекличке, как и всегда, явился Дрозд и стал на левом фланге. Перекличка сошла благополучно. Юнкера оказались налицо. Никаких событий в течение ночи не произошло. Дрозд перешел на середину роты.
– Юнкер Александров, – вызвал он спокойным голосом.
– Я, – отозвался звучно Александров и ловко сделал два шага вперед.
– До моего сведения дошло, что вы не только написали, но также и отдали в журнальную печать какое-то там сочинение и читали его вчера вечером некоторым юнкерам нашего училища. Правда ли это?
– Так точно, господин капитан.
– Потрудитесь сейчас же принести мне это произведение вашего искусства.
Александров побежал к своему уборному шкафчику. Дорогой он думал сердито:
«Как же мог Дрозд узнать о моей сюите?.. Откуда? Ни один юнкер, – все равно будь он фараон или обер-офицер, портупей или даже фельдфебель, – никогда не позволит себе донести начальству о личной, частной жизни юнкера, если только его дело не грозило уроном чести и достоинства училища. Эко какое запутанное положение…»
В голову не могла ему прийти простая мысль о том, что самому Дрозду, или одному из других офицеров училища, или каким-нибудь внеучилищным их знакомым мог попасться под руку воскресный экземпляр «Вечерних досугов».
– Пожалуйте, господин капитан, – сказал Александров, подавая листки.
Дрозд сухо приказал:
– Сейчас же отправляйтесь в карцер на трое суток с исполнением служебных обязанностей. А журналишко ваш я разорву на мелкие части и брошу в нужник… – И крикнул: – Фельдфебель, ведите роту.
И вот Александров в одиночном карцере. На лекции и на специальные военные занятия его выпускает на час, на два сторож, прикомандированный к училищу ефрейтор Перновского гренадерского полка. Он же приносит узнику завтрак, обед и чай с булкой.
У юнкеров было много своих домашних неписаных старинных обычаев, так сказать, «адатов». По одному из них юнкеру, находящемуся под арестом и выпускаемому в роту для служебных занятий, советовалось не говорить со свободными товарищами и вообще не вступать с ними ни в какие неделовые отношения, дабы не дать ротному командиру и курсовым офицерам возможности заподозрить, что юнкера могут делать что-нибудь тайком, исподтишка, прячась. Ведь травили же они свое начальство, совсем в открытую, ядовитыми и даже часто нецензурными прозвищами. А в этом законе собственного изделия была, несомненно, тень некоторого рыцарства.
Однако Александров все-таки не удержался от нарушения юнкерского обычая. За уроком гимнастики, работая на параллельных брусьях, он успел шепнуть Венсану:
– Голубчик Венсан, достаньте мне какую-нибудь книжку из ротной библиотеки и передайте через сторожа… Ужасная тоска.
– Постараюсь, – сказал Венсан и быстро отошел прочь.
И правда: бедный Александров изнывал от скуки, безделья и унижения. Вчера еще триумфатор, гордость училища, молодой, блестяще начинающий писатель – он нынче только наказанный, жалкий фараон, уныло снующий взад и вперед на пространстве в шесть квадратных аршин. Иногда, ложась на деревянные нары и глядя в высокий потолок, Александров пробовал восстановить в памяти слово за словом весь текст своей прекрасной сюиты «Последний дебют». И вдруг ему приходило в голову ядовитое сомнение: «А в сущности ведь, пожалуй, такое заглавие: “Последний дебют”, может показаться неточным и даже нелепым. Дебют – ведь это начало, как и в шахматах, это – первое, пробное выступление артистки, а у меня актриса Торова-Монская (фу, и фамилия-то какая-то надуманная и неестественная), у меня она, по рассказу, имеет и большой опыт, и известное имя. Первый дебют – это и понятно и приемлемо и для читателей. Название же «Последний дебют» вызывает невольное недоумение. Можно подумать, что моя все-таки уже не очень молодая героиня только и знала в своей актерской жизни, что дебютировала и дебютировала, и всегда неудачно, пока не додебютировалась до самоубийства…»
И вот опять стало в подсознание Александрова прокрадываться то темное пятно, та неведомая болячка, та давно знакомая досадная неловкость, которые он испытывал порою, перечитывая в двадцатый раз свою рукопись. И чем более он теперь вчитывался мысленно, по памяти, в «Последний дебют», тем более он находил в нем корявых тусклых мест, натяжек, ученического напряжения, невыразительных фраз, тяжелых оборотов.
«Нет, это мне только так кажется, – пробовал он себя утешить и оправдаться перед собою. – Уж очень много было в последние дни томления, ожидания и неприятностей, и я скис. Но ведь в редакциях не пропускают вещей неудовлетворительных и плохо написанных. Вот принесет Венсан какую-нибудь чужую книжку, и я отдохну, забуду сюиту, отвлекусь, и опять все снова будет хорошо, и ясно, и мило… Перемена вкусов…»
В шесть часов вечера, в свободное послеобеденное время, сторож, перновский ефрейтор, постучался в решетчатую дверь карцера.
– Вам, господин юнкер, книжку какуюсь принесли. Извольте преполучить.
Эта книга, сильно потрепанная, была вовсе не знакома Александрову.
«Казаки. Повесть. Сочинение графа Толстого», – прочитал он на обложке.
«Должно быть, не очень уж интересно, что-то из истории… но для кутузки и такое кушанье подойдет».
– Скажи господину юнкеру, что очень благодарю.
Начал он читать эту повесть часов в шесть с небольшим вечера, читал всю ночь, не отрываясь, а кончил уже тогда, когда утренний ленивый белый свет проник сквозь решетчатую дверь карцера.
– Что же это такое, – шептал он, изнеможенный, потрясенный и очарованный, ероша и крутя отчаянно волосы на голове. – Господи, что же это за великое чудо? Ну я понимаю: талант, гений, вдохновение свыше… это Шекспир, Гете, Байрон, Гомер, Пушкин, Сервантес, Данте, небожители, витавшие в облаках, питавшиеся амброзией и нектаром, говорившие с богами, и так далее и тому подобное… То есть я не понимаю, но с благоговением признаю и преклоняюсь. Но, господи боже мой, как же это так. Простой, обыкновенный человек, даже еще и с титулом графа, человек, у которого две руки, две ноги, два глаза, два уха и один нос, человек, который, как и все мы, ест, пьет, дышит, сморкается и спит… и вдруг он самыми простыми словами, без малейшего труда и напряжения, без всяких следов выдумки взял и спокойно рассказал о том, что видел, и у него выросла несравненная, недосягаемая, прелестная и совершенно простая повесть.
И Александров, подобно Оленину, увидевшему впервые на станции горы, начал с блаженным ненасытным голодом в душе перечислять:
«Ну Оленин – это барин, это интеллигент, что о нем говорить. А дядя Брошка! А Лукашка! А Марьянка! А станичный сотник, изъяснявшийся так манерно. А застреленный абрек! А его брат, приехавший в челноке выкупать труп. А Ванюшка, молодой лакеишка с его глупыми французскими словечками. А ночные бабочки, вьющиеся вокруг фонаря. “Дурочка, куда ты летишь. Ведь я тебя жалею…”
И тут вдруг оборвался молитвенный восторг Александрова: «А я-то, я. Как я мог осмелиться взяться за перо, ничего в жизни не зная, не видя, не слыша и не умея. Чего стоит эта распроклятая, из пальца высосанная сюита. Разве в ней есть хоть малюсенькая черточка жизненной правды. И вся она по бедности, бледности и неумелости похожа… похожа… похожа…»
В этот момент его память внезапно как бы осветилась, и сразу ясной стала бередившая его недавно тревога, причиняемая какой-то необъяснимой болячкой, нудным и неловким пятном.
Да, – сказал он с горьким мужеством, – твой «Последний дебют», о несчастный, похож не на что иное, как на те глупые стихи, которые ты написал в семилетнем возрасте:
Скорее, о птички, летите
Bы в теплые страны от нас,
Когда ж вы опять прилетите,
То будет уж лето у нас.
В лугах запестреют цветочки,
И солнышко их осветит.
Деревья распустят листочки.
И будет прелестнейший вид.
И, ударив изо всех сил ладонью по дубовому столу, он сказал громко:
– К черту! Конец баловству!
Дрозд продержал Александрова вместо трех суток только двое. На третий день утром он пришел в карцер и сам выпустил арестованного.
– Вы знаете, юнкер Александров, – спросил он, – за что вы были арестованы?
– Так точно, господин капитан. За то, что я написал самое глупое и пошлое сочинение, которое когда-либо появлялось на свет Божий.
– Ну нет, – возразил Дрозд мягко, – унижение паче гордости. Очень может быть, что ваш труд имеет свои несомненные достоинства. Но вина ваша заключается в том, что вы небрежно изучали военные уставы и особенно устав внутренней службы. Там ясно сказано: «Если кто из военнослужащих напишет какую-либо рукопись и захочет отдать ее для напечатания, то должен об этом сообщить и рукопись представить своему непосредственному начальнику». Вы, например, – вашему фельдфебелю. Он сообщает о вашем намерении и вручает вашу рукопись мне. Я – командиру батальона, последний – начальнику училища. Таким образом, его превосходительство является вашим последним судьей и разрешителем. В случае разрешения для печати оригинал ваш идет в обратном порядке вниз, вплоть до фельдфебеля, который и сообщает вам о разрешении или воспрещении. Понятно?
– Так точно, господин капитан.
– Ну, теперь идите в роту и, кстати, возьмите с собою ваш журнальчик. Нельзя сказать, чтобы очень уж плохо было написано. Мне моя тетушка первая указала на этот номер «Досугов», который случайно купила. Псевдоним ваш оказался чрезвычайно прозрачным, а кроме того, третьего дня вечером я проходил по роте и отлично слышал галдеж о вашем литературном успехе. А теперь, юнкер, – он скомандовал, как на учении, – на место. Бегом ма-а-арш.
Александров больше уже не перечитывал своего так быстро облинявшего творения и не упивался запахом типографии. Верный обещанию, он в тот же день послал Оленьке по почте номер «Вечерних досугов», не предчувствуя нового грядущего огорчения.
Было очень редким примером рассеянности и невнимания то обстоятельство, что, перечитавши бесконечно много раз свой «Последний дебют», он совсем небрежно отнесся к посвящению, пробегая его вскользь. А между тем в посвящение вкралась роковая ошибка.
Посвящается Ю.Н. Син…никовой.
Но сильна, о, могучая, вечная власть первой любви! О, незабываемая сладость милого имени! Рука бывшей, но еще не умершей любви двигала пером юноши, и он в инициалах, точно лунатик, бессознательно поставил вместо буквы «О» букву «Ю». Так и было оттиснуто в типографии.
Через два дня Александров получил зловещий, ядовитый ответ:
«Я получила журнал с Вашим сочинением. Говоря по правде, Вы свободно могли бы не утруждать себя этой присылкой. Судя по начальной букве “Ю”, посвящение сделано не мне, а какой-то другой особе, которой имя начинается на букву “Ю”.
Так же странной мне показалась и подпись под произведением. Очевидно, господин Алехан Андров – знатный сын востока – и есть автор этого замечательного создания, прочитать которое у меня не было ни свободного времени и ни малейшего желания.
По некоторым причинам я вряд ли смогу когда-нибудь увидеться с Вами, и потому прощайте.
О. Синельникова».
Через недели две-три, в тот час, когда юнкера уже вернулись с обеда и были временно свободны от занятий, дежурный обер-офицер четвертой роты закричал во весь голос:
– Юнкер Александров. В приемную, на свидание.
Александров подбежал к нему:
– Не знаете ли кто?
– Не знаю. Какой-то шпак.
Шпаками назывались в училище все без исключения штатские люди, отношение к которым с незапамятных времен было презрительное и пренебрежительное. Была в ходу у юнкеров одна старинная песенка, в которую входил такой куплет:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.