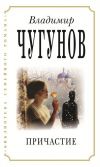Читать книгу "Сапфировый альбатрос"

Автор книги: Александр Мелихов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Опять он всех одурачил, уже почти восхищался Феликс. Но роман Алтайского о военной авиации до того всех потряс своей откровенностью, что даже Феликс сумел пришить Алтайскому только одно: почему же он раньше об этом не писал? И хуже того – писал совсем не так!
А как – помнили только Феликс, прокурор-дознаватель, да я, провинциальный валенок из всероссийского Мухосранска.
В нашем парткабинете давняя книга Алтайского про летчиков тоже была распухшая от зачитанности, и я так в нее вжился, что запомнил все волшебные заклинания: «турель», «стабилизатор», «от винта!», «есть контакт!»…
На первой странице Алтайский отчеканил: «Посвящаю моему отцу, русскому авиатору». И книга буквально распухла от отцовских подвигов.
Отец Алтайского вырос в сыром подвале, и папаша, пьяница-дворник, чуть ли не с семи лет отдал его на выучку в слесарную мастерскую. Где смышленый мальчуган обратил на себя внимание знаменитого русского авиатора Курочкина. Летчиков тогда было так мало, что каждый был знаменит. Курочкин выучил мальчишку на специальных курсах и взял себе в механики. Они объехали с показательными полетами всю Россию, а в Италии отец Алтайского уже летал сам, выучившись почти вприглядку и собрав собственный биплан из десятка разбитых.
Потом, когда он прославился изяществом воздушного балета, его бочки какой-то поэтический репортер назвал фиалами, а самого пилота русским ястребом и властелином воздуха, – юную авиазвезду уже наперебой зазывали немногочисленные в ту пору фирмы. Русский ястреб на каждой новой самолетной марке ставил новый рекорд то дальности, то скорости – замахивался аж на двести беспосадочных верст и разгонялся до сказочных сотни верст в час.
Разумеется, этот новый Икар и бился, и горел, но всякий раз выкарабкивался и ставил новые отчаянные рекорды. И, при всей европейской славе, с началом Первой мировой на собственных крыльях устремился в Россию.
В армию его не взяли из-за бесчисленных переломов, ушибов и ожогов, но офицерское звание присвоили и отправили командовать авиашколой. Где он и принялся готовить летные кадры из рабочих и крестьян для будущей Красной Армии. Он уже тогда угадал ленинский завет: учиться, учиться и учиться. И в каждую свободную минуту усаживался за книги или бежал на лекции Николая Егоровича Жуковского. Отец русской авиации поражался, с какой быстротой талантливый самоучка впитывает знания – не то что изнеженная золотая молодежь! А что же будет, когда народ сам сделается хозяином своей судьбы?
Ничего этого я не видел, я про это только прочитывал буквы и слова. Зато великого князя, заявившегося на учебный аэродром, я уже разглядел собственными глазами маленького Алтайского.
Я, то есть маленький Алтайский, думал, что великий князь будет хоть на пару голов выше остальных, но он был даже и раззолочен не больше прочих, только борода его была подстрижена с необыкновенной ровностью да вся суета завинчивалась вокруг него же – один только папа как ни в чем не бывало продолжал рыться в моторе.
Дальше помню плохо. Кажется, великий князь потребовал: «Покажите мне чего-то такое, чего еще никто не видел, а не то мой меч – ваши головы с плеч». А папа спорил, что еще чего-то там недотянул, недопродул… А ему отвечали, что на театре военных действий… Нам с маленьким Алтайским запомнилось это ни к селу ни к городу выкрикнутое слово «театр». И еще то, что папа называл усатых военных в погонах школьным словом «ученики».
А потом один из этих усатых учеников все-таки сел в какой-то биплан и с быстротой, какой мы с маленьким Алтайским еще никогда не видели, взвился в высоту. С которой вдруг раздался звон лопнувшей струны, и тут же вдребезги разлетелся пропеллер. Оказалось, лопнула и угодила в деревянный винт какая-то «расчалка». Но это объяснилось потом, а в ту минуту все, оцепенев, смотрели, как с ужасающей быстротой несется к земле черная человеческая фигурка, бешено молотящая воздух руками.
В эту минуту я сам был маленьким Алтайским и сразу же со всех ног бросился к месту ее падения, но пока добежал, носилки, накрытые чьим-то кожаным пальто, уже унесли, и мне оставалось только с ужасом пялиться на маленькую ямку среди вытоптанной травы.
Самое ужасное в ней было то, что она была невероятно маленькая.
Я бросился к папе и успел увидеть, как папа влепил великому князю не пощечину, как об этом потом писали, а простонародную оплеуху, так что с того слетела раззолоченная фуражка, а на свободной от бороды части физиономии отпечатались три чумазых папиных пальца.
Потом папа сидел на верстаке в ремонтном сарае, но это было не страшно, потому что охранявшие его военные обращались с ним очень уважительно, и мне вообще было не до того: у меня перед глазами стояла маленькая ямка.
– Папа, – срывающимся голоском воззвал я к нему, – зачем вы летаете?!
И папа ответил мне очень серьезно, как большому:
– Запомни: жить не обязательно, а летать обязательно.
Разумеется, он ответил своему сынишке, но в ту минуту я и он были одно.
Свой псевдоним Алтайский и вывез из отцовской ссылки на Алтай, из самой счастливой поры своей жизни. В романе это был чистый Жюль Верн. Прежде мужики ездили за десять верст, чтобы по мосту перебраться через быструю горную реку, – отец устроил паромную переправу, чем и решил проблему семейного прокорма. При этом плот двигался силой самого течения. И я, перевоплотившийся в Алтайского, ужасно гордился своим отцом.
Мне запомнилось огромное колесо из краснеющей лиственницы, которое отец – при моей усердной помощи – изготовил без единого гвоздя. Приступая к работе, он всегда меня предупреждал:
– Я сейчас буду работать, а ты мне будешь помогать.
– Не мешать? – радостно спрашивал я, и отец одобрительно кивал:
– Молодец, соображаешь.
Я мог часами смотреть, как буйная вода, впряженная папой в работу, и свет дает в нашу избу, и распиливает неотесанные бревна на сияющие доски, а когда из-за Гражданской войны мужики стали бояться возить зерно на мельницу, еще и перемалывать его в муку на жерновах, которые отец сам же изготовил из им же добытого известняка. Так что мы никогда не голодали. У нас на столе всегда присутствовала дичь, а когда порох и дробь унесла революция, папа сделал отличный арбалет, который убойной силой на небольших расстояниях – а откуда в тайге взяться большим? – кажется, даже превосходил ружье. Меня очень забавляло, что арбалетную стрелу отец называл словом «болт».
Отец и мыло научился варить, для чего зачем-то требовалось многократно пропускать воду через древесную золу. А вот маму совершенно не помню. Она вроде бы учила деревенских ребятишек читать и писать, но своими глазами, глазами маленького Алтайского, я этого не видел, только читал. Мама возникала лишь тогда, когда из тайги появлялись вооруженные люди в башлыках поверх военных фуражек с овальными кокардами или в косматых папахах, перечеркнутых красными лентами, и начинали тащить отца из дома, чтобы поставить его к нашей же стенке. Одним мама объясняла, что он знаменитый русский авиатор, другим – что он ссыльный, давший оплеуху кому-то из царской родни. Это неизменно вызывало общий восторг.
А потом отца вызвали в Москву, направили в Академию военно-воздушного флота, затем в Добролёт, потом в Главвоздухофлот (я и чужие слова ухватываю на лету, когда начинаю видеть чужими глазами), он принялся проектировать сначала планёры для будущих диверсионных операций, потом монопланы – на них уже новые летчики ставили новые рекорды, какие отцу в его время и присниться не могли.
Об этом я только читал, в таких делах я переставал быть Алтайским. Но у него и в буквах очень аппетитной выглядела какая-нибудь «доводка» – запахи машинного масла, керосина, ацетона… И такие вкусные слова: «фюзеляж», что означало веретено, «амортизатор», «ланжерон», «киль», «муфта»… Ну и что, что какие-нибудь части все время ломаются – отец непременно доведет до госиспытаний!
Отца больше не мучила совесть, что своей работой он укрепляет царский режим, – а при самодержавии даже великого Жуковского терзали раздумья о судьбах Родины. И какое было счастье, что годы Гражданской войны, когда не хватало хлеба, не хватало топлива, когда замерли многие заводы и почти не ходили трамваи, остались в памяти как время кипучего подъема, созидания! Сколько нового возникало тогда – закладывался новый мир! Как раз в эти годы был создан Центральный аэро– и гидродинамический институт имени Жуковского.
А отец замахивался на новый рекорд – на массовый самолет! Он бессонными ночами мечтал о лучшей в мире советской индустрии, без которой можно было создавать только штучные аппараты, словно в алтайской тайге.
Про его мечты я только читал: «массовый», «индустрия»…
Зато своими глазами я видел противного старого инженера с остроконечной бородкой, который язвительно тянул:
– Да где вы у нас найдете завод, который смог бы осуществлять такую тончайшую обработку? Не нам, сиволапым, производить самолеты, которые теперь делаются за границей.
И тогда отец ударил кулаком по его полированному столу и закричал:
– Ваше место в тюрьме!
И обратился к комсомольцам, к простым рабочим: «Мы же советские люди!» Один токарь, правда, из-за чего-то начал ерепениться, но отец прямо рубанул ему: «Не по-партийному ты подошел к этому делу!» И движением головы откинул со лба непокорную прядь.
И рабочие все сделали в лучшем виде. А старого инженера арестовали за саботаж. А потом он оказался еще и вредителем!
Вывел его на чистую воду старый большевик, а ныне корпусной какой-то комиссар, для которого весь смысл жизни был в его борьбе, в его работе. Он служил своим идеалам, служил партии и в этом находил единственное и полное удовлетворение. Он появился в окружении очень аппетитных слов: Главное управление авиационной промышленности (ГУАП), Управление Военно-Воздушных Сил, Наркомтяжпром, Главное мобилизационное управление…
В его собранной подтянутой фигуре, во всех его поступках, в будто бы несколько наэлектризованной атмосфере вокруг него жил этот дух преданности делу, которое ему поручила партия.
– Я передаю вам, товарищи, партийную директиву. Нам нужен темп развития, какого не знала ни одна страна, нужен небывалый, беспримерный в истории техники рывок. Партия поставила перед нами эту задачу – создать лучшую в мире боевую авиацию! Наши самолеты должны быть во сто крат лучше других! Если в десять крат – этого нам мало.
Корпусной комиссар Управления Военно-Воздушных Сил смотрел и говорил очень требовательно:
– Мы с вами, товарищи, принимаем и даем сражение. Это сражение с капиталистическим миром мы пока что ведем в цехах и конструкторских бюро, но нам не миновать и открытого боя.
И показал на кумачовый плакат у себя за спиной: «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. И. В. Сталин».
И я вместе с Алтайским радовался, что как раз в это время в авиационной промышленности были произведены аресты вредителей и саботажников. Я уже знал, что Сталин совершенно напрасно сажал и расстреливал честных коммунистов, но у Алтайского-то это были настоящие маловеры и вредители, не коммунисты!
Хватало же у них совести вредить, когда советской индустрии как воздуха не хватало квалифицированных рабочих рук! Их неоткуда было взять в ранее по преимуществу крестьянской стране при таком размахе и темпе индустриализации. И только беспредельная вера большевиков в раскрепощенные революцией силы народа позволила им решиться на такой отчаянный шаг, чтобы взять тысячи людей из деревни, от сохи и бороны, привезти их на заводскую площадку, разместить в бараках и, выстроив завод, поставить их же, вчерашних землеробов и землекопов, к чувствительнейшим станкам, доверить им самую тонкую, самую точную технику!
И вот эти люди с грубыми, непривычными руками проявили такую же волю и напор, как и в те времена, когда они же или их отцы на бесчисленных фронтах Гражданской войны сражались за Советскую власть. Да, начинали они как станколомы и бракоделы, но, вооруженные учением Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, со ста процентов брака постепенно пробились до девяноста, восьмидесяти, пятидесяти процентов. Чтобы сделать десяток хороших деталей, изготавливали их сотнями, и все-таки всему выучились, все освоили!
Правда, на кремлевском приеме товарищ Сталин расхваливал в основном летчиков, а конструкторов скорее поругивал, говорил, что они мало думают об эвакуации пилотов в случае аварии, а у него прямо-таки болит сердце из-за того, что те до последнего не выпрыгивают с парашютом, спасают машину…
Летчикам и правда геройская гибель была нипочем: жить не обязательно, обязательно летать.
Они часто бывали у отца в гостях, и мы с Алтайским, разинув рты, слушали их рассказы – всегда со смешком над просвистевшей над ухом смертью:
– А облака были шикарные – густые, насыщенные. Я за ними по всему горизонту гонялся. В Москве дождя не было, а я там три раза в дождь попадал. Кидало зверски, метров на пятнадцать. Обледенел, крылья сантиметра на два льдом покрылись, к концу полета из-за обледенения все приборы слепого полета вообще отказали. Лафа!
– Только оторвались, из левого мотора пламя. А машина тяжелая, как утюг, никуда не спланируешь… Ударились брюхом о берег, и в реку. Течение сильное, ширина метров пятьсот, вся левая плоскость в огне, бензин разлился по воде, огонь стеной… Мы попрыгали в воду с правого крыла – сами не знаем, как выплыли, только Леха Дедушкин утонул. Побились, обгорели, конечно, все… Но ничего, в следующий раз американцев побьем так, что долго будут нас помнить. Рекордную высоту гарантирую.
Рассказы пересыпались вкуснейшими словечками: «центровка», «капотажный момент»…
Про разбившихся спокойно говорили, как про живых: покойник такой-то то-то и то-то, покойник сякой-то се-то и се-то…
Даже злословили:
– Ну, летчик он был так себе, в испытатели устроился по блату, по блату и убился.
Им казалось смешно, что после аварии кому-то так сшили физиономию, что от него теперь лошади шарахаются.
– Никак не могли определить, почему трясется хвост. То переставим, другое изменим – наконец вроде бы наладили. Иду на посадку, дай, думаю, пройдусь еще у земли. И вдруг затрясло! Мне б садиться, но я решил проверить до конца. Поднялся вверх – все в порядке, снова к земле – обратно трясет. Тогда я выбрал зону, где всегда болтает, – и туда. И вдруг, на полном газу, ясно чувствую, как у меня продольно ломает фюзеляж. И мне все стало ясно. Ходу на землю: «Меняйте противовесы у руля!» – «Как?» – «Да так!» Сменили – и трястись перестало.
– Забавный случай у меня был на прошлой неделе. Лечу на большом аэроплане. И вдруг стал ломаться. Ну, я начал с ним как со стеклянным обращаться. Сбавил газ до минимума, иду тихо, точнехонько по прямой. И вот уже вблизи аэродрома метрах на двухстах аэроплан вдруг полез на петлю. Я сразу дал полный газ и в то же мгновение накрутил стабилизатор, отжал ручку и дал витков пятнадцать триммеру. Все это сразу. Машина встала на дыбы, свалилась на бок из вертикали и через несколько секунд плюхнулась на аэродром в нормальном положении. Опоздай я на несколько долей секунд – не разговаривали бы сейчас. Вылез и заволновался. Аж мокрый стал. Такого состояния еще не бывало со мной.
– А под Новый год вышел цирк. Сделал я одну штуку, которую, уверен, никто из испытателей еще не делал. Нашел инверсионный слой и стал в нем ходить. И получилось, как на продувке в трубе: все обтекание наглядно видно. Пятнадцать градусов, двадцать, под двадцать пять… Всё, ломает! Ага, что и требовалось доказать. Ну, ждать, пока доломает машину, было не резон. Я – вниз. Ничего, сели. Я оказался прав.
Феликс в своей понемногу издыхающей независимой газете впоследствии обвинил Алтайского, что он эти разговоры списал у какого-то Лазаря Бронтмана, я там же возразил (я тоже уже печатался), что бытовые записки обретают худценность только в худконтексте; сам же Алтайский до дискуссии не снизошел. Лишь как бы случайно рассказал, что в свое время на него из-за этих разговоров накинулись за недостаточную их серьезность, но будто бы аж лично Сталин их одобрил.
Сталину в летчиках, похоже, и нравилась их, как теперь говорят, безбашенность. В День авиации вождь был такой веселый, каким никогда его не видели. Он очень по-доброму посмеялся, что купол парашюта летчики называют мешком, и поднял бокал за них, за советских героев.
– Жизнь летчика важнее двухсот самолетов! – провозгласил самый человечный человек с бокалом в руке. – Это капиталисты оценивают человеческую жизнь деньгами, а нам, советским людям, пора усвоить новую меру – ценить людей по их подвигам. А что такое подвиг? Чего он стоит? Никакой американец не ответит на это, не скажет – у них есть только миллиарды презренных долларов, презренных фунтов стерлингов, презренных франков.
Кто-то из летчиков закричал:
– Товарищ Сталин, мы умрем за вас!
А Сталин с улыбкой ответил:
– Не нужно умирать за товарища Сталина. А нужно жить и побеждать врага за нашу советскую Родину.
Я к тому времени уже знал, что Сталин плохой, что при нем были бериевские лагеря, и даже мой папа в них побывал, но у Алтайского и Сталин был какой-то другой. Платоновская идея Сталина, сказал бы я, если бы хотел поумничать, но Алтайскому и правда повезло с глазами: они умели возвышать все, чего требовали нужды дня.
А тем временем началась война, и я, то бишь юный Алтайский, закончил летное училище и на фронте сражался на отцовских истребителях.
Война машин не вызывала у меня отвращения, потому что убивали друг друга не люди, а машины: наши славные ястребки крошили мерзкие мессеры, хейнкели и фоккеры, именуемые «рамами». Зависающий на страшной высоте разведчик, проползающий над передовой корректировщик, крадущийся между тучами бомбардировщик – всё это были не люди, а машины. И на земле взрывались и горели не люди, а вагоны и дома.
Пространства же между слоями светящихся облаков и вовсе походили на подводное царство, где медленно плавают гигантские клубы «молока», в которые норовят укрыться вражеские машины. И когда они, пылая, дымясь и кувыркаясь, прошивают клуб за клубом и завершают свой причудливый путь крошечной вспышкой на далекой земле, то хочется этому аплодировать, словно цирковому трюку.
Как погибают наши, я тоже не видел собственными глазами: обычно они улетали и не возвращались, словно бы так и растворялись в небе, и всегда оставалась надежда на какое-то «а вдруг?..». Но и похороны бывали очень красивыми: «смертью храбрых, в наших сердцах, отомстим…»
Потом залп.
Прям завидки брали.
В общем, Алтайский рассказывал, как он на отцовских самолетах сражался с врагом, а я видел, как одни машины сражались с другими.
А потом пришла Победа! И Алтайский, вместе с другими героями-победителями маршируя по Красной площади, увидел на Мавзолее неподалеку от Сталина своего отца в генеральской форме и в нарушение устава помахал ему рукой, а отец помахал ему в ответ.
И Сталин заметил это и очень по-доброму улыбнулся сначала сыну, а потом отцу. Отцу даже с пониманием покивал.
Я и сейчас не готов посмеяться над теми полудетскими слезами на глазах, с которыми я это читал: я был растроган не тем, что в это верил, – я уже и тогда был не настолько прост, – а тем, что этого не было, но конечно же должно было быть!
И, читая Алтайского, я всегда понимал: этого не было, но должно было быть! Искусство – мир высоких мечтаний, а не низких фактов! Так выражаться тогда я не умел, но очень даже чувствовал.
Но когда во времена перестройки, уже после нашей конференции, Алтайский рассказал, как оно было, не скрывая низких фактов, он тут же превратился из любимца старого режима в его обличителя.
Все это об Алтайском писал Феликс, я-то был потрясен, чего пришлось нахлебаться этому орденоносцу и лауреату.
На самом деле его отец происходил не из дворников, а из дворян и в конце двадцать девятого был арестован с тысячами «бывших», пошедших на службу новой аристократии, которую Феликс именовал жлобократией. Тут Феликсу с Алтайским вроде бы и не о чем было спорить: захватившее власть наглое жлобье, выехавшее в Гражданскую на интеллекте военспецов, устало терпеть рядом с собой их превосходство и принялось тысячами сажать и расстреливать блестящих профессионалов даже в оборонке, готовя будущие военные катастрофы.
Реальному отцу Алтайского шили тот самый рутинный саботаж и вредительство, в которых романный отец обвинял романного инженера с острой бородкой. Реальный отец действительно показал себя маловером по отношению к требованиям реального корпусного комиссара, по невежеству своему и впрямь желавшему невозможного на том основании, что нет таких крепостей, которых бы не могли взять большевики. Но взять им удалось только инженеров, которые упорно не желали достать для них луну с неба. Вредительством были объявлены все поломки и аварии, случавшиеся особенно часто из-за того, что от летчиков и машин требовали работы за пределами прочности.
Для солидности была арестована внушительная часть технической элиты авиационной промышленности. Как «социально чуждого элемента» отца Алтайского без суда приговорили к смертной казни с отсрочкой приговора. Так что он возглавлял тюремное конструкторское бюро «Особое» отчасти уже из загробного мира. Но успешный показ их истребителя, который перед лицом Сталина и Ворошилова крутил и вертел сам Чкалов, превратил смертную казнь в условную и вернул отцу свободу, правда тоже довольно условную.
Но все-таки он успел еще запустить в небо пару новых истребителей и получить пару орденов, прежде чем его заодно с тем самым корпусным комиссаром дорасстреляли окончательно.
Алтайский за отца не отвечал, но все-таки и его выставили из летного училища, и во время войны он почти не летал, занимался техобслуживанием на прифронтовом аэродроме.
Звучит скучновато, но на деле скучать не приходилось. И здесь он был наконец-то такой же, как все. Алтайский был отличный двигателист и мастер дефектации деталей, но ему не меньше рядового пехотинца доставалось: не раз приходилось под бомбежкой лихорадочно латать лопатой рваные воронки на рулежной дорожке. Чтоб всегда быть под рукой, приходилось зимой и летом спать урывками в земляной щели либо на нарах в наспех сколоченной сараюшке. Сон в доме, в тепле – это каждый раз был праздник.
Удивительным везением было и то, что его ни разу не убили, да и ранили вполне терпимо, так что если бы от просвистевшего рядом с ним несметного количества «стали и свинца» остались пробоины в стене, то на ней сохранился бы почти незатронутым только его силуэт. В старости он и начал смотреть на свое долголетие как на незаслуженный подарок, хотя после войны смотрел как на заслуженный. Об ушибах же, ссадинах, мозолях, царапучей от авиационного бензина коже, примерзающей к морозному металлу, он вспоминал почти с нежностью. Как и о спасительных ватных штанах.
О работе своей, как и прежде, новый Алтайский повествовал со знанием дела: лебедками подвесили бомбы, ввернули взрыватели, заправили патронные ленты, от сгоревшего тола все пропиталось горелым чесноком, проверили монтаж силовых установок, зарядку амортизационных стоек, заменили бак и трубопровод, промыли фильтры, состыковали узлы моторамы с узлами мотогондолы, заменили гидросервопоршень, износились поршневые кольца, разнесло стабилизатор и руль поворота, сорвало головку цилиндра, порвало экранировку электропровода, посекло лопасти до ступицы, пробило обтекатели и гидросистему, побило ребра цилиндров, перекосило крыло, помяло фюзеляж, прогрели бензиновой лампой АПЛ-1, зачехлили мотор, слили масло в бочку…
Многие картины ошарашивали, но пересказывать не буду. Мне и до Алтайского не возвыситься, а Феликс и про него пропечатал, что это всего лишь крепкий реализм. И что это за советские штампы? «Металл не выдерживал, а люди держались…»
Хотя Алтайский подробнейшим образом показывал, что это не просто болтовня: усталость переставала быть усталостью, а переходила в тупую боль во всем теле. Зато о болтовне политруков Алтайский писал прямо-таки с омерзением – своими проповедями они только расшевеливали в бойцах сомнение: уж не для этих ли прохвостов мы задницу рвем?.. «Вашими руками на земле куется победа в воздухе…» Правильно. А не вашими языками.
При этом Алтайский совершенно не изображал из себя храбреца. Однажды ему случилось подняться на аэростате-корректировщике, и немцы из-за линии фронта ухитрились снарядом раздолбать лебедку, на которой он крепился, и аэростат ветром понесло на немецкую сторону, командиру с пистолетом в руках пришлось выбрасывать новичка из корзины. А потом он уже на земле не сумел погасить «мешок», и его долго волокло по кустам, так что он весь ободрался. И наконец, поднявшись на ноги, обнаружил, что у него мокрые штаны.
А отстирать и высушить ватные штаны – это тоже была целая проблема.
Но он хотя бы жив остался. А его командира за то, что без приказа покинул аэростат, расстреляли перед строем – выходит, лучше было дрейфовать в немецкий тыл.
Ни под какой бомбежкой не было такого бессилия и ужаса, ужасала не жестокость – рациональность. Чуть ли не больше всего потрясло то, что палачи поставили свою распоясанную жертву на сани, на которые заранее был набросан и притоптан грязный снег – это чтобы убитый сразу упал на транспортное средство и не испачкал его кровью.
К тому времени Алтайский всякого навидался, но ужаснее этого расстрела ему ничего не запомнилось. Хотя, когда он лежал в блокадном госпитале для дистрофиков, из огромной палаты постоянно выносили умирающих, чтобы освободить место, и те доходили в подвале. Откуда постоянно слышались стоны, но ни на кого это не производило ни малейшего впечатления, хотелось только, чтобы поскорее заткнулись. Только раз санитары заспорили, в самом ли деле мертвые становятся тяжелее живых, и один из них настаивал, что мертвых земля притягивает сильнее.
Вторым по жути Алтайскому запомнилось самоубийство новобранца, к чему он и сам приложил руку, вернее, язык. Перед вылетом бомбардировщика пацан нечаянно смахнул в бензобак гаечный ключ. И как все ни старались извлечь его проволочной петлей или магнитом, так ничего и не вышло. Пришлось отменять вылет, снимать бензобак, сливать бензин и так далее. Все были ужасно злы, а сам Алтайский сказал этому растяпе, и без того не знавшему, куда ему деваться от позора, что он наверняка спас десять фрицев и погубил десять наших. Парень окончательно спал с лица, скрылся за сарай, и через минуту оттуда послышался выстрел.
Казнь на санях, подвал с доходягами и самоубийство одобрил даже Феликс – наконец-то советский классик (для Феликса не было ругательства хуже) впервые в жизни написал правду. Но главную заслугу Алтайского он усмотрел в том, что Алтайский вскрыл психологические корни массовых убийств: жлобократия истребляла тех, в соседстве с кем ощущала свое ничтожество. А еще Алтайский изобразил войну исполинской фабрикой, которая может работать, только если все люди-винтики лезут вон из кожи.
А значит, все так называемые маленькие люди полностью в ответе за сталинский режим. Не на штыках он держался, а на «самоотверженных честных тружениках».
Когда я однажды решился спросить Алтайского, читал ли он эту статью Феликса, Алтайский только устало усмехнулся:
– Неужели ты думаешь, что я читаю эту шушеру?
В эту минуту он мне показался последним мамонтом среди болонок.
Мне никогда не удавалось вообразить, какое у него было лицо, когда полковник на Шпалерной колотил его затылком об стену: «Признавайся!.. Диверсия!.. Все равно выбьем!.. За яйца повесим!..» – а потом майор по-доброму убеждал: «Не признаешься – туда же поедешь, только калекой», – все оттого, что разбился с каким-то важным грузом самолет, который Алтайский готовил к вылету. После этого он всю ночь просидел в коридоре («Посиди, подумай!»), а утром был отпущен на свободу: выяснилось, что причиной был высотомер. Или обледенение, уже не помню. Зато этот ночной стул и коридор я видел собственными глазами.
А каким начнешь видеть мир после такой вот ночи на стуле, я не представляю.
Мне даже кабинет Алтайского, в котором мы вели разговор, представал аскетичным, будто служебный, – только кресло носило признаки антикварности: Алтайский приволок его из разбомбленного дома в сорок шестом году. Очень много книг, в том числе технических, научных (возможно, правда, дареных, вряд ли он их читал), и никаких финтифлюшек. Как будто он не хотел располагаться с уютом в мире, откуда, как он хорошо усвоил, его в любой момент могли вырвать.
Он и вентилятор на столе не включил, хотя в кабинете было жарко: воздух-де от перемешивания только нагревается. Зато усиливается испарение, возразил я, – подобные разговоры двух инженеров были пределом нашей интимности.
Фотографий в кабинете тоже не было никаких – он и здесь не хотел открывать постороннему взгляду свое прошлое. Во второй раз он женился поздно, жена его была намного моложе, но из-за своего долгожительства он и ее пережил. И никогда о ней не говорил и не писал, однажды только упомянул, что она верила во всесилие любви, как мало кто верит даже в божественное всемогущество. Правда, как-то обмолвился со смешком, что, когда он начал писать, она так оправдывалась перед подругами: пусть лучше пишет, чем пьет.
– Почему вы никогда не писали о своей личной жизни?..
– Не хотел устраивать стриптиз.
Он и на пороге смерти никогда ничего не говорил о себе – только о мире: нужно-де возрождать кустарные промыслы, возвышать престиж ученых…
– Да с какой же стати жлобье станет возвышать престиж своих врагов? Это ученые должны возвышать себя, усваивать, что не наука существует для государства, а государство для науки.
– Это уже другая крайность.
Но усмехнулся он с удовольствием.
Примерно так же он усмехался, когда рассказывал о своей встрече со Сталиным. После романа о сыне-летчике, отце-конструкторе и Сталине на Мавзолее его стали продвигать – где-то в верхах было произнесено, что сын за отца не отвечает, пятно было вроде бы временно смыто, – и ввели в редколлегию журнала. И даже доверили выслушать в Кремле очередную идейную накачку. Они сидели в небольшом зале, каждый за своим столиком и с каждым рядом непроницаемый мужчина в строгом костюме. А перед ними за общим столом сидела руководящая и направляющая тройка. В центре большая шишка из ЦК, справа шишка поменьше, он их обоих знал, а слева какой-то восточный старичок с реденькими седыми усами и сквозящей седой шевелюрой. «Кто это слева?» – шепотом спросил Алтайский у соседа; тот дико покосился на него и ничего не ответил. Но очень уж этот старичок был не похож на монументального Сталина с литыми усами и шевелюрой, которого он по двести раз в день видел на портретах. Накачка шла обычным чередом: ослабили идейность, притупили бдительность, проявили либерализм, соседи справа и слева тоже вставляли привычные реплики, а потом старичок удалился. Тут Алтайский ощутил острую необходимость справить малую нужду и вышел следом. Пошел по коридору в поисках сортира. Часовые смотрели строго, но поискам не препятствовали, считалось, видимо, что кто попало здесь бродить не станет. Наконец он увидел располагающую дверь и вошел, предварительно постучав. Сталин стоял у писсуара спиной к нему и на стук бросил через плечо: «Ымэет вождь права пассать?»