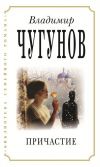Читать книгу "Сапфировый альбатрос"

Автор книги: Александр Мелихов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Алтайский усмехался, а лицо было уже белое-белое, старое-старое, и седая непокорная прядь редкая-редкая…
И по длинному коридору он брел уже не лордом с тростью, а старичком с палочкой.
Каждый раз нас выходят почтительно провожать на прогулку его дочь с мужем и внучка-старшеклассница.
Дочь, строгая миниатюрная красавица-блондинка, просит нас держаться тени, а ее муж сообщает что-то о среднеазиатских воздушных массах. Они оба метеорологи и когда-то летали на самолетах снимать показания с грозовых облаков. Иногда молнии били рядом, их так встряхивало, что не могли удержаться в креслах. Но теперь, слава богу, самолетов им не дают, зарплату тоже не очень чтобы очень… Как и сам Алтайский не очень-то роскошествует. Хотя на книжке когда-то имел чуть ли не пол-лимона. Когда пять тысяч стоил «москвич» – можно было купить целый таксопарк. Все пропало, разумеется. Ну, он лауреат, почетный гражданин, наверно, что-то ему подбрасывают. Среднее поколение тоже живет на гранты. Муж у мировой метеорологии был в большом авторитете, катался по всему миру, но вот проявил неблагодарность – начал отрицать антропогенный фактор глобального потепления, и как отрезало: в свободном мире не забалуешь. Он будто вышел из романа прежнего Алтайского – с виду простоватый, но страшно умный и упорный.
Притом не зануда, он просто очень чтит Алтайского. А когда того нет дома, он и пошучивает, и напевает, и выпивает. Но предпочитает это делать на стороне, потому что под этим делом до сих пор любит покуролесить. Не зло, весело, но не всем и это нравится. Скажет мимоходом работягам, копающим канаву: вы же неправильно лопату держите! И не спешит удалиться: он, на свою беду, камээс по боксу, и оттого его не раз валтузили в ментовках. Менты, правда, справедливый народ: если отвалтузят, то на работу не сообщают. Он и сам это одобряет, говорит: «Убедительно», – когда получает в глаз.
При старом режиме его дважды посылали работать за границу и оба раза отзывали досрочно – чего-то он там отмачивал, ронял честь советского человека. Но дочка его все-таки успела родиться в Алжире. Он ее обожает и зовет не иначе, как «дитё». «Дитё», прелестная желтенькая блондиночка, похожая на пушистого цыпленка, тоже его обожает, но уже понимает, что за папой нужен глаз да глаз.
Но я про них расскажу как-нибудь в другой раз. А в этот раз меня как пронзила старческая походка советского классика, так я и не мог переключиться, так тихонечко и брел за ним по пешеходной улице Софьи Перовской, то бишь Малой Конюшенной, бессознательно повторяя его движения (и весь его лондонский прикид куда-то делся – сплошная эпоха «Москвошвея»). И вдруг вместо летней озелененной улицы, по которой прогуливались люди в легкой цветастой одежде, я увидел черное ущелье из черных домов с наполовину выбитыми, а наполовину крест-накрест заклеенными стеклами, черные сугробы – и ни единого человека…
И я понял: все, кого он любил, давно исчезли.
Алтайский оглянулся – и летняя улица с праздничными людьми снова ожила. Но он что-то понял по моему лицу, и, когда я подошел к нему, он впервые за годы нашей дружбы вдруг заговорил о себе.
Как будто уже в продолжение начатого разговора:
– …Ведь я больше всего на свете хотел смыть с себя это пятно – расстрелянного отца. Ты понимаешь, в каком бреду мы жили? Кровь моего отца пролили они, а смывать ее своей кровью должен был я. До того было страшно отстать от строя. Твой приятель этот… который все требует, чтобы я покаялся… Так это все равно как папуасы бы каялись, что ели человечину. А как иначе? Все едят, и я ем. В блокаду, кстати, и я бы, может, до этого докатился, но на аэродроме было все же посытее. Я иногда жене с сынишкой что-нибудь даже прихватывал. За ночь проходил километров сорок-пятьдесят. Я женился перед войной, был на седьмом небе, что из комсомола не вычистили. А она нашего ребенка крестила. И я ей этого никак простить не мог. Даже невинного младенца невзлюбил. А когда в блокаду он умер, а она за ним следом… Это больше всего меня и терзало – какая же я сволочь! А утешало одно: вдруг из-за этого крещения ей было не так страшно умирать? Я ведь потом не раз еще любил… А теперь вспоминаю только ее. Когда вижу старую фотографию, сразу прикидываю: она еще могла это видеть или уже нет?
Я не смел дохнуть, да он и разговаривал как будто с самим собой. Мы стояли на людной Малой Конюшенной, но я видел только его белое-белое, старое-старое склоненное книзу лицо.
И вдруг он поднял на меня выцветшие глаза из-под реденькой-реденькой и белой-белой, но все еще непокорной пряди.
– Вы вот думаете, что вы умнее нас. Что ненавидите друг друга из-за каких-то важных вопросов. А им по сравнению с жизнью и смертью цена… – Он пропустил какое-то солдатское словцо. – А это все такое же детство – крестить младенца или не крестить? Да кому с чем не так страшно жить, пусть тот в то и верит! На Алтае слышал поговорку: век живи, век учись, и дураком сдохнешь. Вот это и есть весь наш выбор. Быть добрыми дураками или злыми дураками.
* * *
О, пора к Феликсу в Публичку, он ведь и правда ждать не станет. Похоже, он твердо решил оставаться злым дураком. Написал какую-то правду про наш Дом на канале… Да какую правду про кого можно знать, если не умеешь видеть мир его глазами?!
Включил телик, чтобы узнать температуру на улице, – опять какие-то южные массы к нам вторглись. Реклама, поучающий женский голос: «Рекомендации для взрослых педиков». И список рекомендаций. Видимо, я ослышался. И тут же воркующий голосок: «Я сама выбираю, за какую категорию товаров получать повышенный флешбэк».
Переключил. Стоит простецкая стендаперша, если я правильно называю, косит под свойскую бабу: «Девочки, вам еще не надоело имитировать оргазм?» «Чем кобель лучше мужика? Он тоже ссыт на стенку, но хотя бы при этом не пердит». «Мужики замечают пыль, только когда на ней можно написать слово “жопа”». «Я начала встречаться с одним мужиком, так он меня спрашивает: “У тебя что, нет аллергии на минет?” И я подумала: какие умные бывают жены!» «А на днях меня в метро узнал мой третий муж. Смотрю, говорит, знакомая жопа».
Зал лежал вповалку. Вагинальная поэзия триумфально шествовала по миру.
Температуру так и не узнал, но ясно, что к вечеру прохладнее не стало. Пока прошагал под кряжистой аркадой Гостиного Двора, уже взмок.
С нежностью поднял глаза на круглый угол Публички – сколько счастливых часов там было просижено в зальчике редкой книги! Мережковский, Розанов – я не просто набирался ума, я приобщался к убитой прежней России, восстанавливал связь с нею хотя бы в самом себе.
А вот Феликс хочет при помощи старой России убить новую. Как он тогда выразился перед отъездом? «Мне нет места в этой стране». Это было последнее, что я от него услышал. Правда, и повод был серьезнейший. В универсаме на кассе у него попросили показать содержимое портфеля. Он ответил: «У вас есть санкция прокурора?» – «У нас инструкция». – «Она неконституционна». В итоге его задержали, отвели в директорский кабинет, он звонил оттуда в прокуратуру, в ООН и своего добился – в одиннадцать вечера он был отпущен на свободу с неосмотренным пустым портфелем.
Вот и в свободном мире лизоблюдствовать не стал, стал к станку. Наверняка и здесь не носит маску.
Однако я ошибся – укатали-таки сивку: Феликс появился с голубенькой масочкой на подбородке. Но, миновав дежурную, он ее сорвал, обнажив седеющую донкихотскую бородку. На теннисиста он был теперь совсем не похож, а на кого же, на кого похож? Да на стареющего чудака из бывших, вот на кого. Гвардейский пробор сменила «вдохновенная» седоватая растрепанность. От его румянца маменькиного сынка тоже не осталось и следа. Правда, и до промытой белизны Алтайского было еще далеко.
Руки он мне не протянул, видимо, я теперь относился к нерукопожатным. Ну и слава богу, не нужно притворяться. Но разница в росте все равно вынуждала меня смотреть на него снизу вверх.
– С приездом в наш Мухосранск.
Он не снизошел до ответа. Сунув маску в карман, он протянул номерок гардеробной бабусе в черном наморднике. Портфель она приволокла, шкандыбая, видимо, тот самый – из потертой коричневой кожи, намекающей на аристократическое прошлое. Мы отошли к зеркалу, и, поставив портфель на подзеркальник, Феликс извлек квадратный том сизо-бетонного цвета. В центре бетонной стены было прорублено квадратное алое окно, рассеченное черной решеткой. Решетка, не мешая их прочесть, рассекала еще и черные буквы:

– А кто это издал?
– Есть еще честные издательства.
Без всяких учтивых ужимок Феликс протянул книгу мне.
– Так напишите что-нибудь, я потом продам в Пушкинский дом!
Без проблеска улыбки он изобразил какой-то извив, похожий на сперматозоид, и, не прощаясь, понес портфель обратно к гардеробщице.
– Феликс, еще минуточку, – окликнул я его.
– Ну? – Он приостановился.
– Ты же всех нас здесь презираешь – зачем тебе нужно, чтобы мы тебя читали?
Он отчеканил, ни на мгновение не задумавшись:
– К сожалению, вы самое большое, что у меня есть. Когда вы превращаетесь в лилипутов, поневоле становлюсь лилипутом и я. Ты же видишь, что творится с литературными премиями?
– А что с ними творится?
– Ни у кого нет величия замысла, даже замаха. Впрочем, что с вами толковать! Всего хорошего. Привет Мухосранску.
Он протянул портфель гардеробщице.
– Сразу надо все брать, а не ходить по три раза, – проворчала та.
– Позвольте мне самому знать, сколько раз и куда мне ходить.
– Да, вот вам «позвольте», а у меня колени болят!
Бабка уже поняла, что не с тем связалась, и шла на попятный, но не на такого нарвалась.
– Если вы больны, увольняйтесь, вас здесь силой никто не держит.
– Феликс, вы великий человек, с кем вы связались? – попытался я его утихомирить, но он отбросил мою руку:
– Асссставьте меня в покое!!!
И снова накинулся на бабку:
– Как ваша фамилия? Ничего, можете не говорить, я все равно узнаю, кто в эту смену работал! Я добьюсь вашего увольнения, я знаком с вашим директором!
На этом я сумел вырваться за тяжеленную дверь, чтобы не сгореть от стыда и сострадания.
К кому? Да к нему, конечно, не к ней же! Она его уже через час забудет, а ему с собой жить.
Бетонный блок оттягивал руку. Хотел Доронин правды, вот и получил. Наверняка у Феликса все там правда. До лжи он не опустится, он честный гриф – это он истинный гриф, а не Доронин. Он выклевывает у мертвецов на показ все самое гадкое, но своего не добавляет.
Однако на Итальянском мостике среди туристов, фоткающихся на фоне Спаса на Крови, я серьезно задумался: а хочу ли я тащить эту гадость в свой Дом на канале? Созерцать наготу отмучившихся соседей? Изучать их показания, добытые пыткой – пыткой страхом и отверженностью? И понял: нет. И не глядя обронил серый квадрат за зеленые чугунные перила. Всплеска не услышал.
И так легко у меня сделалось на душе! Я повернул вправо на набережную к своему дому и…
– Алло, алло, вы что-то уронили!
Кричали снизу, с воды, и у меня не хватило совести не расслышать. Парень в оранжевом жилете, стоящий в маленькой верткой лодчонке, балансируя левой рукой, правой протягивал мне бетонную правду, которая тонуть не желала.
Я перевесился через перила, радуясь, что дотянуться не могу, но этот славный молодой человек не желал отпустить меня с пустыми руками. Он раскрыл том примерно на середине и насадил его на лопасть весла, предварительно хорошенько его отряхнув. Теперь книга покачивалась перед самым моим носом.
Брать или не брать?..
А на десерт электронная почта порадовала меня загробной весточкой от Алтайского.
Прощание с темой
Когда мне предложили написать иронический закадровый текст к фильму о блокаде, я был ошарашен. Но потом фантазия заработала – а чего, пусть из-за кадра звучит: «Что, опять сто двадцать пять блокадных грамм? Опять зашитые в простыни мумии на связанных детских саночках? Хватит пафоса, больше иронии! Давайте поищем ее в этих признаниях»:
Женские голоса: «Рядом лежала девочка, моя дочка. Я чувствую, что в эту ночь я должна умереть. Но, поскольку я верующая, я это скрывать не буду, я стала на колени – а кругом тьма, мороз – и говорю: “Господи! Пошли мне, чтобы ребенок меня не увидел мертвую! Потом ее заберут в детдом, а ты только дай, чтобы она меня мертвой не увидела”. Пошла на кухню и – откуда силы взялись – отодвинула стол. И за столом нахожу – вот перед Богом клянусь! – бумагу из-под масла сливочного, три горошины и шелуху от картошки. Я все это с такой жадностью хватаю – я из этого завтра суп сварю! А бумагу себе запихиваю в рот. И мне кажется, я из-за этой бумаги дожила».
«Думала, не дойду. Где-то лежала, где-то сидела и думала: как же мне дойти? Но надо же, надо! У меня ребенок на Моховой сидел один. И вот ребенок меня подгонял все время, ребенок. Если бы не ребенок, я бы пала духом. У меня хорошенькая девочка такая была. И вот я шла, шла. Иду по Марсову полю и вдруг вижу: мужчина наклонился, что-то из снега выковырнул в рот – красные какие-то, малиновые пятнышки. Я нагнулась – оказывается, кто-то сироп пролил какой-то. Я выковырнула этот сироп, немножко, и в рот. Иду, иду, иду. Побегу. Остановлюсь. Нет, нельзя останавливаться – упаду. Надо идти – там же дочка. И вот дошла».
Вклинивается мужской голос: «Вот тут, на Тракторной улице снаряд не разорвался в квартире. Ну, послал туда пиротехника. Звонит оттуда: “Не могу снаряд отобрать”. Оказалось, женщина закутала снаряд в шаль – он теплый еще – и не отдает, баюкает его, как грудного ребенка. Ну, то есть человек в ненормальном состоянии».
Снова женские голоса: «Мне Толик предлагал не раз: “Мама, давай сделаем опять угар и умрем. Будет вначале больно головке, а потом и уснем”. Слышать это от ребенка было невыносимо. Мне уже умные люди говорили: ты выбери, кого спасать, двоих тебе не вытянуть; а я не могла: лучше, думаю, вместе умрем, чем вот так-то своей рукой…
А снег пойду чистить, сынок дома один, посмотрю в окно, а он плачет. Сердце мое разрывается, но работать-то надо! Приду домой, он весь зареванный, а стенка калом перемазана, и он перемазан. Он, наверно, и ел этот кал».
«Особенно страшно было ходить через Тучков мост – трупы обрезанные валялись. Домой приходила, дети сидели, забившись под стол в кухне, и играли. А играли они в ботинки, кукол у них не было».
«Мы уже были в глубоком тылу, а они все сидели, как старички, и говорили только о еде – кто что ел, когда, где… И вдруг выбегает девочка со скакалочкой – и все ребята так недоуменно на нее посмотрели: что она, мол, такое делает?..»
«Эта девочка сидела, как мышка, ни на что не реагировала. Пытаешься ей что-то рассказать – ничего. Наконец я собрала какие-то пестрые лоскутки – и вдруг она к ним потянулась!»
Мужской голос: «Весь персонал собрался, чтобы посмотреть на мальчишескую драку. Раньше схватки были только словесные и только из-за хлеба. А тут драка по принципиальному вопросу. И воспитатели смотрели и радовались».
Женский голос словно кому-то возражает: «Это неправда, что она, работая на станке, еще играла в куклы! Она просто брала на работу из дома самую дорогую вещь. На случай, если дом разбомбят».
Мужской голос: «Никогда не забуду стук метронома. Я все время его уговаривал: “Палочки, палочки, стучите потише!” – чтобы скорей был отбой воздушной тревоги».
Старческий мужской голос, очень интеллигентный: «С детьми мы разучивали стихи. Учили наизусть сон Татьяны, бал у Лариных, учили стихи Плещеева: “Из школы дети воротились, как разрумянил их мороз…”, учили стихи Ахматовой: “Мне от бабушки-татарки…” – и другие. Детям было четыре года, они уже много знали. Еды они не просили. Только когда садились за стол, ревниво следили, чтобы всем было поровну. Садились дети за стол за час, за полтора – как только мама начинала готовить. Я толок в ступке кости. Кости мы варили по многу раз. Кашу делали совсем жидкой, жиже нормального супа, и в нее для густоты подбалтывали картофельную муку, крахмал, найденный нами вместе с “отработанной” манной крупой, которой когда-то чистили беленькие кроличьи шубки детей. Крупа эта была серая от грязи, полная шерсти, но мы и ей были чрезвычайно рады. Дети сами накрывали на стол и молча усаживались. Сидели смирно и следили за тем, как готовится еда. Ни разу они не заплакали, ни разу не попросили еще: ведь все делилось поровну».
Женский голос: «А моя дочка прямо тронулась на справедливости: сидит и считает в супе каждую крупинку – одну мне, одну ей. Суп остывает, я уже плачу, мне с улицы горяченького хочется, а она все считает: тебе – мне, тебе – мне… Все должно быть поровну!»
Детский голос: «Двадцать четвертого марта одна тысяча девятьсот сорок второго года. В десять часов утра умер дядя Саша. Через два дня умер сын дяди Коли Игорь. Ему было семь лет. Теперь мы еще больше беспокоимся за маму. Мы ничего не желаем, только бы спасти ее жизнь. Она очень слаба, все время лежит, говорит вяло. Во что бы то ни стало мы решили спасти маму. Лиля у знакомой девушки покупает булку для мамы. Мы размачиваем маленькие кусочки хлеба и насильно кормим ее из ложечки. Лиля по этому поводу сочинила стихотворение:
Нет, не забыты трудные года,
Когда мы жили в осажденном Ленинграде.
Голодными работали тогда,
Но верили, придет конец блокаде.
Мы получаем скудный свой паек
В декаду раз по 200 грамм в мешочек —
Крупы немного, сахарный песок
И норму хлеба – маленький кусочек.
Ослабла мама, странный взгляд —
Глаза на нас как будто не смотрели.
В соседнем доме прогремел снаряд,
А мы ревели у ее постели.
Собрав все крохи, стали мы толкать,
Разжав с трудом синеющие губы,
Ее просили мы не умирать,
Об ложку лишь стучали зубы.
Ты ожила вдруг, руки потеплели,
Глоток, еще глоток. Не верится – жива.
Нас было пятеро, и как мы все хотели,
Чтоб вместе с нами ты жила.
Но странно, ни бомбежка, гул обстрела,
Ни холод, об отце плохая весть
Так не пугали, но как ты робела,
Когда мы все вдруг у тебя просили есть».
Голос немолодой женщины, не без резонерства: «Смерть с неба днем и ночью. Смерть на земле от голода, если нечего есть, смерть от холода, если нечем топить. Смерть от воды, если не можешь дойти до Невы. Ярко-красное ночное небо от пожаров, от прожекторов, державших самолеты в скрещивающихся лучах, и от чего-то еще, сброшенного с самолетов и горящего в воздухе, чтобы осветить город. Каждое утро – надежда услышать по радио, что наши пошли в наступление и мы победили. С трудом вдвоем, втроем открываешь парадную дверь на улицу из-за того, что кто-то не дошел до квартиры и упал. Гора тел в пальто, валенках, шапках или платьях около арки напротив. Слез не помню. Страха не было. Помню и вижу людей, город, дома, тропы среди сугробов почти до первого этажа. Черные окна, снег; снег и скрипучий, трескучий мороз.
Очень добрых людей рядом со мной и мамочкой помню. Чужие по крови, они нам стали роднее родных.
Дожили до весны с солнцем, хвоей и крапивой! Летом 1942 года участвовала в концерте для раненых в госпиталях с девочками из девятого и десятого классов, я одна была из третьего класса. Танцевала, читала стихи, пела все песни тех лет.
У нас не было стремления сиюминутного обогащения любой ценой: обманом, грабежом, насилием, развратом. Мы не тянули на себя с миру по нитке и не считали, что все средства хороши в достижении цели. Из блокады я вынесла свое понимание смысла жизни, он заключается в продолжении жизни и ее совершенствовании».
Еще одна женщина рассказывает, словно отчитывается: «В начале июня у меня начался голодный понос и появилась слабость. Выслушав меня и посмотрев анализы, врач сказала: “Тебе поможет только мясо”. – “А где его взять?” – спросила я. Врач пожала плечами.
Больше всего я боялась, что из-за дистрофии я не смогу закончить восьмой класс. Моя соседка по парте рассказала обо мне своей маме-врачу и передала мне, что надо по утрам жевать сухой чай. Придя из школы домой, я вновь жевала чай, съедала хлеб и садилась за уроки. Вечером чай я не употребляла, так как очень колотилось сердце и не давало уснуть. Но спать все равно не приходилось, именно ночью каждый час я бегала в то самое заведение.
Я усыхала, кожа становилась все суше, все темней, а тело все невесомее.
“У тебя плечи острые, как углы треугольника”, – говорили мне в школе, а я отвечала: “У меня голодание из-за недостатка белков в пище”.
Ах, как не хочется умирать! Я жить хочу, я люблю учиться, ходить в школу!
Примерно в то же время в нашей парадной со мной стала здороваться незнакомая улыбчивая женщина, а потом и познакомились, ее звали Клавдия Николаевна. И однажды они с мужем пригласили нас к себе в гости. Мама удивилась – в такое время какие гости? Но Клавдия Николаевна говорила, что без нас домой не уйдет, что ее муж хочет познакомиться с нами.
Только мы переступили порог их квартиры, как в нос ударил запах вареного мяса, и я скорей прислонилась к стене, чтобы не упасть. А Клавдия Николаевна положила мне полную тарелку замечательных, сочных, ароматных кусков отварного мяса без единой косточки. Только когда я проглотила последний кусочек, я подняла глаза и увидела, что все смотрят на меня. Я стала извиняться, а муж Клавдии Николаевны, рыжий здоровый мужчина, рассмеялся и сказал, что незачем извиняться, если такой хороший аппетит, просто надо еще поесть. А моя мама охала и ахала – мол, зачем же это, зачем? Мы ведь не сможем устроить ответное угощение в такое время. “И не надо”, – басил муж Клавдии Николаевны. Я стала благодарить и скромно отказываться, но только после второй тарелки я заметила, что у мамы хватило выдержки спокойно есть мясо, разговаривать с гостеприимными хозяевами и продолжать охать, что мы у них в неоплатном долгу.
После такого ужина исчезли самые острые симптомы дистрофии. Конечно, странно было, что в доме у одних – пусто, а у других – густо. Но “другие” могли и не накормить, спасая жизнь малознакомой школьницы.
И все-таки не одно мясо спасло меня. Если бы я поддалась утренней слабости, когда стоило громадных усилий встать с постели, если бы я позволила себе остаться дома, лежать и не идти в школу, я бы просто не дожила до этого сказочного ужина. Моя тяга к знаниям, моя любовь к учебе вытягивали меня из объятий постели и гнали на уроки. Наверное, это можно назвать активной жизненной позицией, и такая позиция продлевала жизнь».
Женский голос, словно не верящий сам себе: «У этой сотрудницы был мальчик – Игорь, она со страшной любовью его опекала. Очаровательный мальчик, красавец! А потом этот Игорь потерял карточки. И вот уже в апреле месяце я иду как-то мимо Елисеевского магазина (тут уже стали на солнышко выползать дистрофики) и вижу – сидит мальчик, страшный, отечный скелетик. “Игорь? Что с тобой?” – говорю. “Мария Васильевна, мама меня выгнала. Мама мне сказала, что она мне больше ни куска хлеба не даст”. – “Как же так? Не может этого быть!” Он был в тяжелом состоянии. Мы еле взобрались с ним на мой пятый этаж, я его еле втащила. Мои дети к этому времени уже ходили в детский сад и еще держались. Он был так страшен, так жалок! И все время говорил: “Я маму не осуждаю. Она поступает правильно – это я виноват, это я потерял свою карточку”. – “Я тебя, – говорю, – устрою в школу” (которая должна была открыться). А мой сын шепчет: “Мама, дай ему то, что я принес из детского сада”. Я накормила его и пошла с ним на улицу Чехова. Входим. В комнате страшная грязь. Лежит эта дистрофировавшаяся, всклокоченная женщина. Увидев сына, она сразу закричала: “Игорь, я тебе не дам ни куска хлеба. Уходи вон!” В комнате смрад, грязь, темнота. Я говорю: “Что вы делаете?! Ведь осталось всего каких-нибудь три-четыре дня – он пойдет в школу, поправится”. – “Ничего! Вот вы стоите на ногах, а я не стою. Ничего ему не дам! Я лежу, я голодная…” Вот такое превращение из нежной матери в такого зверя! Но Игорь не ушел. Он остался у нее, а потом я узнала, что он умер.
Через несколько лет я встретила ее. Она была цветущей, уже здоровой. Она увидела меня, бросилась ко мне, закричала: “Что я наделала!” Я ей сказала: “Ну что же теперь говорить об этом”. – “Нет, я больше не могу! Все мысли только о нем”. А через некоторое время она покончила с собой».
Женский голос, отчитывающийся: «Работала я недолго паспортисткой на Московском проспекте, дом двадцать. Помню, зашла к нам в контору жиличка и сказала: “Я съела ребенка”. Вид у нее был при этом виноватый и в то же время довольный. Что-то с головой у нее стало».
Старческий интеллигентный голос, который мы уже слышали: «В нашем доме вымерли семьи путиловских рабочих. Наш дворник Трофим Кондратьевич получал на них карточки и ходил вначале здоровым. На одной с нами площадке, в квартире Колосовских, как впоследствии узнали, произошел следующий случай. Женщина забирала к себе в комнату детей умерших путиловских рабочих (дети часто умирали позднее родителей, так как родители отдавали им свой хлеб), получала на них карточки, но… не кормила. Детей она запирала. Обессиленные дети не могли встать с постели; они лежали тихо и тихо умирали. Трупы их оставались тут же до начала следующего месяца, пока можно было на них получать еще карточки. Весной эта женщина уехала в Архангельск. Это была тоже форма людоедства, но людоедства самого страшного».
Женский голос: «А вот еще случаи непонимания блокадников. В одной квартире занимались изготовлением мыла. И одна знакомая женщина послала туда своего сына, что-то надо было попросить. И сын ее – Вовочка – исчез, его украли. И когда муж этой женщины узнал об этом, он не стал с нею жить».
Усталый мужской голос: «Начальство всегда останется начальством. Начальник и его зам не только обеспечены, но ведут себя просто вызывающе. Пьянство каждый день с девками, которые после кутежей уносят с собой по несколько коробок консервов, мясо, шпик и тому подобное. Слава по всей округе.
Передать мучительное состояние голода, мне кажется, не в состоянии никакие слова, никакое искусство. Это совершенно непередаваемый кошмар, особенно ужасный тем, что вы чувствуете, как вас покидают силы, а значит, и способность бороться, сопротивляться, что-то предпринимать. В таком состоянии однажды мне пришлось дежурить по штабу. Комната, где должен был сидеть дежурный, находилась, как это обычно принято, перед кабинетом начальника. Вечер. Сижу, читаю. Начальству понесли с кухни ужин. Через некоторое время из кабинета выставили грязную посуду, кто не помню. Сверху, на стопке грязных тарелок, стоит тарелка, полная жирной, с мясом вермишели, видимо почти нетронутой. Кто-то потерял аппетит или попросту зажрался. Поковырял ложкой и бросил. Первое мое движение было наброситься и съесть это прекрасное блюдо, о каком я не мог и мечтать давно. Но вдруг стало стыдно. Неужели я так низко пал, что стану подъедать объедки после людей, не пользующихся у меня каплей уважения, жалких жуликов, прохвостов, нечистоплотных выскочек, просто хамов. Бороться с собой было ужасно трудно. Я протягивал руку и опять отдергивал ее, отходил, опять подходил, даже брал рукой кусочек мяса и подносил его ко рту, а затем опять убегал. Все-таки гордость взяла верх, и, воспользовавшись приходом уборщицы, я отправил посуду на кухню».
Полный жалости, растерянный женский голос: «И вдруг уже взвешенный хлеб у мамы прямо из рук вырвал мальчик – лет десяти-двенадцати. И начал его есть, есть, как затравленный волчонок, – с такой жадностью и такими безумными глазами. Все стали кричать, даже бить, а мы с мамой стояли и плакали, и смотрели, как он его проглотил в мгновение ока, и мы остались голодными».
Голос, тоже женский, смущенный: «Прихожу я в булочную, а там дерутся.
Боже мой! Что же это дерутся? Говорят: бьют парня, который у кого-то отнял хлеб. Я, знаете, тоже начинаю его толкать – как же так ты, мы три дня хлеба не получали! И вы представляете себе, не знаю как, но евонный хлеб попадает мне в руку, я кладу в рот – чудеса – и продолжаю того парня тискать. А потом говорю себе: “Господи! Что же я делаю? Хлеб-то уже у меня во рту!” Я отошла и ушла из булочной.
Правда, потом снова пришла. Мне стало стыдно, я опомнилась. Пришла домой и простить себе не могу. Потом пошла и получила хлеб. Я получала двести пятьдесят граммов, я была рабочая, и девочка сто двадцать пять».
Еще женский голос, растроганный, но и как будто оскорбленный: «Она мне говорит: съешь, пожалуйста, мой хлеб (ну сколько там? Норма – 125 граммов хлеба), я не доживу до завтра. Лежит она рядом со мной. Койки стояли очень близко, чтобы побольше можно было впихнуть.
Помню, как я всю ночь не могла спать, потому что думала: взять хлеб или не взять? Все знают, что она не может уже есть. Но если возьму этот хлеб, то подумают, что я его украла у нее. А страшно хотелось есть. Страшная борьба с собой: чужое же! Так я хлеба и не взяла. Вот сейчас, когда говорят: голодный может все сделать, и украсть, и прочее, прочее, – я вспоминаю чувства свои, ребенка, когда чужое, хотя мне и отдавали его, я взять все-таки не могла.
А девочка действительно умерла, и этот кусок хлеба остался у нее под подушкой».
Женский голос торопящийся: «Нас, детей, было четверо: я (старшая) – восемь лет, сестра Дина – четыре года, а братья Витя и Юра – еще меньше. Папа был на фронте. Мама работала на фабрике “Веретено”. Мы быстро слабели, зима стояла холодная, но мама закутывала нас – одеяло на голову накинет и выводила гулять: “Постойте, дети, хоть немного, подышите воздухом!” Но мы быстро замерзали и просились домой.
Хотелось есть постоянно. Однажды, оставшись одни в комнате, мы достали конфеты-подушечки, сберегаемые мамой, и решили их съесть. Но я как старшая распорядилась: “Нельзя есть, мама не досчитается, будет ругать. Вы только пососите их и отдайте мне, я положу их на место”. Дети поспешно обсосали конфеты и вернули их мне. Но дети все же не проглотили их, а ведь как хотелось, знаю по себе, а те ж были совсем малышки».
Ее перебивает другой голос: «Я все время просила есть, мама тысячи раз открывала буфет, кухонный стол, но нигде ничего не было, ни одной крошки. Однажды мама не выдержала: “Доченька, если ты будешь просить есть, я пойду на Неву и утоплюсь!” Неву я знала хорошо, мы туда ходили за водой. Я обвила шею мамы руками и сказала: “Мамочка, я никогда не попрошу есть, только не ходи топиться…” Я свое слово сдержала».
Голос очень ответственный – отличница, отвечающая урок: «Потом мама стала брать меня в госпиталь, и, может быть, я поэтому и осталась жива. Я мотала бинты для раненых, плясала, рассказывала стихотворения. Когда мама привела меня в госпиталь, врач сказал нам (я там была не одна, нас было четыре девочки и один мальчик), что у раненых ничего брать нельзя. Когда мы уже ничего не могли делать от голода, раненые нам совали последние свои крохи, а мы со слезами говорили, что у раненых ничего брать нельзя.