Текст книги "Каменное братство"
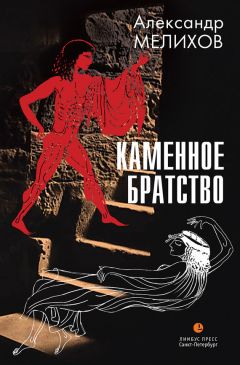
Автор книги: Александр Мелихов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
* * *
Я тоже бывал ужасно горд, рассыпая перед Иркой рублевки, полученные за черную работу, и чем чернее, тем лучше. Но мне случалось гордиться и кое-чем еще, а моему Андрею, похоже, кроме денег, было нечем прихвастнуть перед своей богиней.
Это я понял, вновь оказавшись в ночной кухне.
Если бы не запах полыни и далекого степного пала, еле слышно струившийся из позабытой фляжки, я бы решил, что мой гость мне привиделся. Но его невероятно полнозвучный проникновенный голос продолжал звучать у меня в ушах и на следующий день, а запах, даже когда я завинтил фляжку, держался до утра, это я знаю точно, потому что у меня до первых петухов, то бишь мусорных баков, сна не было ни в одном глазу – ведь видения это же не сны! И вовсе не отчаяние не позволяло мне заснуть, наоборот – окрыляющий подъем: раз уж судьба подарила мне возможность вступить в борьбу за Иркину жизнь, я был исполнен решимости хоть бы и своей судьбой убедить три любящие пары, что ничего дороже друг друга у них нет и никогда не будет.
Поэтому впервые за десятки месяцев я не отшатывался мысленно от нашего прошлого, так ослепительно много обещавшего и так жестоко обманувшего, но перебирал его в памяти – поначалу любовно, будто первые янтарные самородочки…
* * *
На песке, тускло поблескивая, словно дюралевая ложка, лежал исцарапанный металлический буй с футбольный мяч величиной. На нем проступало слово GDANSK. Потомки, надеюсь, не поймут, сколь волшебным нам представлялся всякий предмет, проникнувший в наш мир из-за границы. Это была не наша скромная Маркизова лужа, а настоящая Балтика, распахнутая холодному норвежскому ветру. Приближался сентябрь, и я имел полное право укрыться в одежду, но продолжал, не чуя под собою ног, в одних плавках шагать – лететь – по твердому мокрому песку навстречу ветру, испытывая наслаждение от своей силы и неуязвимости: если бы мне в лицо хлестал ливень или еще лучше снег, я бы чувствовал себя лишь еще более сильным и неустрашимым. Солнце холодно блистало с холодного синего неба, холодные сверкающие волны с мерным шумом накатывали на песок, и он, насыщаясь влагой, тоже начинал сверкать, а померкнув, открывал глазу капельки засахаренного меда – янтаря, которого я никогда прежде не видел в таких количествах, а может, и вообще никогда не видел – возможно, те немногие колечки и сережки были только пластмассовыми подделками, и в неподдельном янтаре меня пленяло именно то, что его медовая суть скрыта под обкатанной морем корявостью, и чем больше она походила на застывшую сосновую смолу, тем сильнее меня чаровала. Сначала я кидался на каждую капельку, потом стал выбирать лишь те, что покрупнее, потом еще и те, что потемнее, но и этих становилось все больше, и я уже начал колебаться, не отсыпать ли не вмещающийся в руки излишек прямо в плавки, когда передо мной развернулась какая-то грязевая река, растекшаяся по пологому склону, подобно лаве из жерла вулкана.
Я бы, конечно, никогда не ступил в грязь, но переполнявшая меня любовь к миру вдруг открыла мне, что никакая это не грязь, а всего только смесь двух самых чистых сущностей – земли и воды. И я бестрепетно присоединился к их союзу и тут же понял, что своей босою ступней ощущаю совсем не деревяшку, а что-то гораздо более интересное. Я бестрепетно погрузил руку в медленный густой поток и вытащил на холодное солнце пластину янтаря величиной с ладонь. Прополоскав ее в обжигающем прибое, я убедился, что лучшего представителя янтарного мира я бы и выдумать не мог: полированные светло– или темно-медовые изломы, смоляные натеки – мне казалось, я попал в сказку.
– Пограничный наряд, ваши документы! – Три пограничника в зеленых фуражках словно сошли с образцовой советской картины, не хватало только бдительной овчарки на поводке. Они были вежливы, но неподкупны.
Я растерянно развел руками, как бы демонстрируя, что у меня нет даже карманов, где могли бы храниться документы, и махнул рукой в обратном направлении: я-де все оставил вон там.
– Вы видели объявление – запретная зона?
– Как-то не обратил внимания…
И тут я заметил в прибрежных кустах небольшие остренькие ракеты, напоминающие памятники первым пилотам.
– Можно я это возьму? – я растерянно протянул пограничникам янтарную пластину, и старший, мгновение поколебавшись, кивнул.
Они сопроводили меня к моей одежде – рыжая ковбойка, серобуромалиновые «кеты» и зеленые, как фуражки моего конвоя, хабэшные джинсы, – попутно показав вбитый в песок метровый плакат:
ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА!
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!
Но как же мне было заметить подобную мелочь, если взгляд мой был устремлен к солнцу и янтарю!
Паспорта у меня не было, был только студенческий билет, и старший, снова козырнув, предложил мне пройти с ними для выяснения личности.
С янтарной пластиной в руке и видавшим виды тощим рюкзаком за плечами я брел под конвоем сквозь источающий смолистый дух солнечный сосняк не то чтобы в испуге, но в некоторой оторопи. Я понимал, разумеется, что меня не посадят в тюрьму, но если даже только оштрафуют – у меня же в кармане последняя треха… А может, еще и продержат под замком, покуда не убедятся, что я это я, – черт его знает, сколько это времени займет…
– Куда это вы его ведете? – девический голос звучал вполне свойски, и лесную дорогу она перекрыла своим велосипедом тоже совершенно по-хозяйски. Так что я не удивился, когда мои сержанты и старшины, откозыряв, принялись чуть ли не оправдываться: карьер, запретная зона, паспорта нету…
– Так он же ко мне приехал! – она не упрекала, она разъясняла недоразумение, ладненькая, крепенькая, в линялых блуджинсиках и облегающей футболке в белую и синюю полоску, заметно пошире, чем на матросской тельняшке, с растрепанной каштановой стрижкой и тем носиком, который в советских романах именовался задорным. – А это у тебя что, янтарь? Да у нас таким на даче дорожки мостят! В общем, ребята, я беру его у вас на поруки.
А через пять минут я уже вез свою спасительницу на раме к местам ее детских игр, вдыхая солнечный запах щекочущих волос (в лесу было почти жарко).
– Пограничники – они что, твои знакомые? – спросил я, стараясь не пыхтеть (песчаная дорога пошла в горку).
– Пограничники? Я их первый раз вижу.
Видеть в каждом встречном друга – в этом заключалось и счастье ее, и несчастье.
Нас затрясло на булыжной кольчуге, могучие деревья вдоль старинного шоссе были подпоясаны широкой белой полосой.
– Это немецкие липы, – требуя почтительного отношения, указала Ирка – она знала по имени каждое дерево в любом лесу. – А вот наша развалка.
Среди прошитого пожухлой травой кирпичного крошева высились звонкие готические зубцы, с которых Ирка, единственная из девчонок, решалась прыгать на единственный расчищенный пятачок (я прикинул, что и сам бы отважился на такое не вдруг). Играть в развалках, разумеется, строжайше воспрещалось: они могли и завалиться окончательно, и кишели ржавыми гранатами – мальчишки то и дело оставались без пальцев или без глаз, хотя погибали почему-то редко, – но Ирку судьба берегла для меня в целости и сохранности. Она очень жалела, что не может показать мне подземелье – власти все входы забетонировали, – а то можно было под тамошними кирпичными сводами добраться чуть ли не до самого Кенигсберга, они и забирались черт-те куда в поисках Янтарной комнаты. И колодец тоже забетонировали, а то бы мы посостязались, кто дольше провисит на счет над двадцатиметровой бездной на переброшенной через жерло ржавой трубе. Когда в шестилетнем возрасте папа застал ее за этим занятием, его чуть не разбил паралич – он не мог тронуться с места и потом до конца своих дней страдал невротическим радикулитом.
Хотя колодец вроде бы подходил папе по профилю, ибо высверлен он был как будто для неких ирригационных нужд – Ирка толком не знала. Немцы при отступлении взорвали какие-то шлюзы, ее папу-гидротехника и направили сюда после Ленинградского политеха заниматься осушением затопленных низин. Восточную Пруссию заселяли только нужными специалистами, поэтому Ирка выросла в удивительном мире, где не было шпаны, где – просто заповедник, если не зоосад! – было некого бояться. И солдаты из соседнего военного городка вели себя на диво благопристойно – маршировали с песней и скрывались за кирпичной оградой, – Ирка многие годы совершенно буквально воспринимала песню «Когда поют солдаты, спокойно дети спят».
Еще она показала мне взорванный мост – вздыбленный бетон, взывающий к небесам, заламывающий скрученные рельсы, по которым тоже было до жути увлекательно карабкаться, – показала и заматерелые яблони, на скрюченных лапах которых всегда можно было очень уютно разместиться. А вот показать немецкое кладбище ей уже не удалось – его снесли совсем недавно, и особенно жалко было надгробия генерала фон Фока, чугунной пирамиды, на которую тоже не каждому удавалось с разбега докарабкаться до самой вершины. Зато противотанковый ров с перекинутой через него, вросшей в оба берега ржавой швеллерной балкой зиял на прежнем месте. Перед этой балкой уже и самой Ирке приходилось пасовать: у них только один мальчишка, разогнавшись, ухитрялся перелететь по ней ров на велике.
Не мог же я уступить этому мальчишке!
Ирка пыталась меня удерживать, но лишь раззадорила. Ров, хотя и подзаплывший, был достаточно глубок, чтобы сломать шею, но Иркина колдовская власть над моей душой уже начала набирать силу: когда она была рядом, мне десятилетиями казалось, что я бессмертен и неуязвим. Я разогнался с бугорка и, вполне возможно, проскочил бы, но заднее колесо самую малость занесло в песке, я машинально тормознул, тоже слегка, но этой доли секунды хватило на то, чтобы переднее колесо вильнуло не на берегу, а еще над пустотой. Я успел извернуться и упал грудью на балку (черная полоса не сходила недели три, а вдохнуть полной грудью я не мог и того дольше), но чем мне удалось смыть свой позор – я, будто крючком, стопою левой ноги успел подцепить велосипед за раму и выбрался на спасительный мох вместе с ним, Ирка даже ахнуть не успела.
Правда, потом оказалось, что спасла меня она именно тем, что вовремя ахнула, только про себя, зажав рот ладошкой: она вполне серьезно до последних дней верила, что любовь может спасти от смерти. Однако она не сумела спасти нас даже от безобразия…
Известно, что женщины вдохновляют нас на великие дела, но мешают их совершить. Мне кажется, именно благодаря Ирке – не «из-за», а именно «благодаря» – я не достиг тех высот в своем деле, о которых когда-то грезил: она подарила мне счастье, а счастливым незачем еще куда-то карабкаться. Для меня это звучало когда-то неодолимым призывом: ДЕЛО ЖИЗНИ! А Ирка открыла мне, что жизнь и сама по себе уже есть дело, а главная ее драгоценность – беззаботность. Я мечтал когда-то прослушать весь мир – как звучит космос, как звучит океан, как звучит степь, пепельница, дерево, платяной шкаф, но тугоухость счастья не позволила мне расслышать более прочих. Я, конечно, уважаемый человек в своем мирке, да только мирок мой не слишком уважаемый. Может быть, именно поэтому мои дети больше похожи на свое время, чем на меня: три сына, и хоть бы один дурак. Менеджер по кадрам, менеджер по связям, менеджер по продажам, все прочно стоят на своих ногах, при необходимости наступая и на чужие, но без этого в наше время не проживешь, и жены у них прочно стоят каждая на своих ногах, а вот мы с Иркой как-то всю жизнь простояли на общих – я и сейчас не знаю, где у меня мои ноги, а где Иркины.
На чьих ногах будут стоять мои внуки и внучки, пока сказать трудно, но, похоже, тоже на своих. Помню, в одну особенно сумасшедшую ночь Ирка прошептала мне зачарованно: какие у нас должны быть удивительные дети, ведь у нас такая великая любовь!.. Но оказалось, великая любовь не любит делиться, и наши дети, боюсь, как-то почувствовали, что нам и без них хорошо. Нет, не Ирке, это мне для счастья было довольно ее одной: мальчишкам своим я всегда был самым старательным папашей, всякая их беда причиняла мне невыносимую боль, но когда у них все было хорошо, я легко мог о них забыть. А вот об Ирке никогда.
Более того, Ирку-женщину я просто любил, но перед Иркой-матерью я преклонялся – перед чудом преображения свойской девчонки в трепетную маму, выпрыгивающую из постели по первому шороху своего дитяти, готовую питать его и впрямь едва ли не кровью собственного сердца. Уж сколько бессонных ночей она провела по больницам, именно что склонясь к изголовью до судорог в пояснице. И даже когда наши самостоятельные сыновья приходили к нам на обед со своими самостоятельными женами и воспитанными детками, более всего меня трогала по-прежнему моя Ирка, в чьем голосе немедленно начинали звучать растерянные искательные нотки только что обзаведшейся котятами мамы-кошки.
Но что было особенным чудом из чудес – при всем своем могучем влечении к обихаживанию собственного гнезда Ирка обладала счастливой и вместе несчастной склонностью постоянно расширять его пределы. Если ей поручали подмести пол, она тут же начинала сама вязать веники, растить и резать прутья, и так далее, – покуда наконец не набредала на какое-то выгодное дело, где уже наталкивалась на сопротивление серьезных людей. Сначала она не могла поверить, что ее теснят исключительно корысти ради, пыталась отыскать у своих гонителей какие-то высокие мотивы, затем впадала в отчаяние, а затем – затем снова с упоением ныряла в какое-нибудь новое занятие, серь езных людей до поры до времени еще не интересующее.
Но даже средь бездн отчаяния довольно было призвать на головы ее притеснителей какие-нибудь ужасные кары, как она пугалась и тут же начинала лихорадочно выискивать для них оправдания – так она верила в силу не только любящего, но и проклинающего слова. А еще через пару-тройку месяцев кто-то из ее преследователей как ни в чем не бывало звонил ей с какой-нибудь просьбой, и она непременно шла навстречу, лишь восхищенно тряхнув своей каштановой стрижкой: ну наглец!..
К этому времени она уже успевала обжиться на заранее неподготовленных позициях и, как всякий счастливый человек, не нуждалась в мести. Мне и пожалеть ее толком не удавалось. Скажешь ей сострадательно: «Какая ты бледненькая!..» – и она тут же начнет трагически закатывать глаза, заламывать руки, а потом еще месяц будет подходить к зеркалу и сокрушаться: бледненькая я какая, не знаю, что и делать!
Между нами говоря, я и впрямь никогда не мог проникнуться к ней серьезным состраданием – слишком уж несокрушимо жила во мне уверенность, что если она всерьез пожелает, то и львы, и гиены послушно лягут к ее ногам.
Только в наше время она наконец забралась в какие-то выси или расселины, откуда не было обратного хода на заранее неподготовленные позиции. Что, где, куда, откуда? «Лучше тебе не знать», – на все был один ответ. Настолько лишенный всегдашнего ее желания хоть чуточку подурачиться, что я уже не смел расспрашивать дальше. Я лишь призывал ее спуститься с безвоздушных высот, выбраться из темных щелей – проживем как-нибудь и на равнине, на свету. «Все не так просто», – роняла она настолько серьезно и не похоже на себя, что любые мои изъявления преданности вмиг оборачивались лицемерными ужимками.
«Так что, все действительно так страшно?» – наконец решался я спросить, мертвея, и она отвечала тоже внезапно мертвеющим голосом: «Не так страшно, как стыдно». И у меня отваливалась глыба с души: стыд не дым, глаза не съест.
Ирку, однако, он съедал на глазах. Счастье ее и несчастье заключалось в том, что она с беззаветностью пятиклассницы верила в детские сказки – ну, что единожды солгавший обязан застрелиться, и всякое тому подобное, – так что я далеко не уверен, что она столь уж глубоко погрузилась в пучину порока, – но она-то была убеждена, что ей более нет места среди порядочных людей! И хуже всего или лучше всего было то, что именно за эту ее детскую доверчивость я больше всего ее и любил.
Ввязалась она, как всегда, в благородное и никчемное дело – хижины для бедных, очаги для влюбленных, кому выпала судьба вскармливать детенышей под кустом, как нам с нею когда-то. Но почему, когда в грудах перерытого ею песка замерцали искорки золота, ее не отодвинули, как это всегда бывало, а наоборот, вцепились мертвой хваткой, – одному дьяволу известно. Я уже и не задавал вопросов, зная, что услышу только стон: «Ну за что, за что ты меня мучаешь?!»
Поскольку никакой исход впереди не брезжил, Ирка начала искать забвения, и я довольно долго с радостью шел ей навстречу. Наши вечера даже сделались еще более приятными – то мы дегустировали неиспробованные сорта сидра или пышные имена коктейлей, то посвящали вечер какому-нибудь валлонскому пиву или нормандскому кальвадосу, испытывая дополнительное удовольствие, что подобные роскошества нам по карману. Мир виски тоже был разнообразен до неисчерпаемости, не говоря уже о вселенной вин – нас забавляло, что эти напитки герцогов и мушкетеров, все эти бургундские и анжуйские всегда готовы по первому слову излиться в наши бокалы пацана и пацанки из советского захолустья, – оставаясь вдвоем, мы разом обращались друг для друга в тех юнцов, какими предстали друг другу когда-то на лесной дороге к погранзаставе.
Это было одним из самых сладостных наших времяпрепровождений – предаваться воспоминаниям о нашей упоительной нищете сначала под кустом, потом в Свиной балке, где ленинградские хитрецы на городской полуокраине придумали откармливать изрядное свинячье поголовье, изводя вонью окрестное население, – зато цены на тамошние конурки сделались по карману даже таким голодранцам, как мы с Иркой. Для нас все тогда становилось поводом посмеяться – а теперь еще и растрогаться: вспомнить, скажем, как к негодованию окрестных свинарок Ирка перетаскивала меня на себе через оборонительную лужу, запирающую вход в Свиную балку всяческим соглядатаям, – резиновые сапожки были только у нее, а таскать рюкзачищи в походах она умела чуть ли не наравне с мужиками, хотя сложения была не атлетического, но всего лишь спортивного. А в какой мы купались роскоши, когда Ирка могла вдруг устроить вечер с икрой и шампанским, зная, что завтра не хватит на хлеб! Каким-то чудом Ирка внушила мне свою уверенность: будет день – будет и пища.
Когда я разглядывал Ирку сквозь бокал с шампанским, вино представлялось мне насыщенным воздушными пузырьками янтарем, а Ирка какой-то смесью их обоих – легко вскипала и тут же опадала в смех, и была такой же солнечной и прозрачной, как та моя добытая из грязи пластина, матовую поверхность которой я не поленился отшлифовать сначала шкуркой, а после зубной пастой. Теперь и янтарная пластина казалась мне пронизанным пузырьками воздуха застывшим солнечным светом, единственным земным пятнышком в котором была замершая в полете мушка – Иркина ребячливость. Только к самым краям пластины начинал сгущаться туман, как будто в шампанское с двух сторон вылили топленое молоко.
Моя привязанность к янтарной реликвии явно трогала Ирку, хоть она и подтрунивала, что после войны таким янтарем у них в городке топили печи. А я отвечал, что она так и не освободилась от своего янтарного происхождения: стоит ее потереть, и к ней тут же липнет всякий мусор. Наша дворничиха – для кого Татьяна, для кого Танька, и только для Ирки Татьяна Руслановна – во время запоев трезвонила исключительно в нашу дверь, – привадить ее Ирка сумела, а отвадить уже не могла, только умоляла через дверь: Татьяна Руслановна, мне же не жалко, но вы себя губите, давайте я вам дам денег на лечение, но Танька – страшная, опухшая, охваченная фиолетовыми протуберанцами слипшихся завитков, – понимала лишь одно: ее не гонят, значит, есть шанс.
Когда она запивала, то целыми днями, зимой и летом опираясь на лыжную палку, бродила по двору и по подъездам, а к ней, словно гиены, из каких-то нор стекались еще более страшные зловонные бомжихи и начинали водить вокруг нее загадочные хороводы. А однажды медлительная, словно водолаз, раздувшаяся, как утопленник, баба вдруг вцепилась сзади в Танькины слипшиеся протуберанцы и начала драть их что есть мочи. На что Танька лишь недовольно мычала: ну кончай, ну хватит, ну ладно…
А потом запой спадал, подобно цунами, и Танька, повязавшись платком по моде двадцатых, начинала энергично мести двор, гоняя голубей и алкашей.
Бог ты мой, мог ли я усмотреть в нелепой Таньке предвестие Иркиного будущего! Потихоньку-полегоньку в наших воспоминаниях она начала заходить чересчур далеко, умиляться до слез, и когда до меня дошло, что это пьяные слезы, я стал уклоняться от трогательных погружений в канувшее, пытался переключиться на что-нибудь бодрящее – какие у нас самостоятельные и успешные сыновья, каким чудесам света мы поедем дивиться в близящиеся недели отпуска, однако не тут-то было, ее никак не удавалось переключить ни на что, по поводу чего нельзя было бы пустить слезу. Да, да, эта ее пьяная слезливость уже начала меня раздражать до такой степени, что я иной раз мысленно употреблял именно такие выражения: пьяная слезливость, пустить слезу…
Употреблял пока еще только мысленно. Но если я слишком заметно пытался перевести разговор на что-нибудь более бодрящее, она впадала в патетическую скорбь: я понимаю, тебе неинтересно наше прошлое, я тебе надоела, я тебя понимаю, я сама себе противна, – так что лучше уж было неиссякаемое струение слез по поводу Свиной балки, где мы были так счастливы, чем мраморная неподвижность, прерываемая лишь на то, чтобы нетвердой, отнюдь не мраморной рукой налить и опорожнить еще одну стопку, еще одну рюмку, еще один бокал…
У меня ведь когда-то дух захватывало от нежности, когда она любую ласку немедленно переводила в озорство. Погладит, скажем, меня по голове и тут же отвернет ухо проверить, не выросли ль на его изнанке бесконтрольные волоски: «Безобразие, ты уже месяц ходишь неощипанный!» А в последние месяцы (или годы? да, конечно, годы) придет, бывало, в умиление, да так и замрет с обмякшей рукой у меня на голове, и не знаешь, забыла она про тебя и можно уже высвободиться или надо терпеть, покуда она окончательно не размякнет.
* * *
Когда я не пересказывал Орфею (я не смел сомневаться в его имени, чтобы не убить Ирку окончательно), а перебирал нашу историю для себя самого, мне уже не открывалось в ней ничего особенно ослепительного: да, было трогательное, было радостное, было грустное – всё как у всех. И только присутствие этого удивительного слушателя, подобно философскому камню, обращало наше прошлое в восхитительную сказку. Даже Иркино пьянство становилось пусть страшной, но все-таки сказкой, а не историей болезни, историей погружения в тупость и грязь. Зато когда Орфей покинул меня, опьянение ушло вслед за ним, а воскрешенный рассудок остался, и я сразу же перестал понимать, какую такую поэзию я ухитрился высмотреть в стареющей тетке, которая от бессонницы выходит подышать ночной свежестью и полюбоваться воздушной громадой Александринки и электрической стройностью улицы Росси и возвращается с фингалом во всю щеку: сначала приложилась к стаканчику виски в какой-то ночной забегаловке, а потом к косяку в подъезде.
Слава богу, в последние годы у нас были разные спальни, но я все равно часами не мог заснуть, прислушиваясь через дверь, как она что-то бормочет, с кем-то объясняется, может быть даже со мной, но мне был так мерзок ее заплетающийся язык, ее пьяный пафос, что я сам бежал прочь из дому и бродил по улицам либо сидел в каком-нибудь шалмане, покуда не приходило милосердное отупение. Тогда я решался вернуться домой и обычно мне сопутствовала удача: она уже отрубилась и будет отсыпаться до вечера. Но иногда я заставал ее валяющейся в кухне среди разгроханной посуды, часто в крови из рассеченного локтя или лба, иногда у сортира в задранной выше задницы рубахе, а изредка она и засыпала прямо на унитазе, не считая нужным хотя бы затвориться – а, чего там!..
Пять лет назад я бы отдал голову на отсечение, что ничего подобного… Да я бы и обсуждать не стал подобный бред. И даже когда этот бред начал повторяться через два дня на третий, ко мне уже к вечеру второго приходила уверенность, что все это мне приснилось. И даже когда этот страшный сон стал занимать больше места, чем явь, все равно одного ее искательного взгляда, одной ее затравленной улыбки было достаточно, чтобы я все забыл и уверился, что весь этот кошмар теперь-то уж точно остался позади. И ненависть, омерзение сменялись невыносимой жалостью – пьяная баба с бесстыдно задранным подолом превращалась в маленькую беспомощную девочку в задравшейся рубашонке. А жалость сменялась заоблачным счастьем, что все эти ужасы наконец-то позади и мы теперь снова всегда будем вместе.
Затеревши синяки, желтяки и зеленяки «телесным» гримом, делающим ее неотличимой от подержанного покойника, для которого служба хорошего настроения сделала все, что смогла (какие это мелочи, когда знаешь, что видишь их в последний раз!), моя Эвридика начинала новую жизнь с таким размахом, словно хотела возместить все упущенные радости. Прежде всего она закупала несколько тонн баранины, телятины, семги, белуги, севрюги, груш, яблок, винограда, смоквы, хурмы, зелени и овощей (огромными пластиковыми мешками зафрахтованный шофер заваливал половину нашей немаленькой кухни), дабы отпраздновать возвращение к жизни с самыми любимыми друзьями, чьей дружбой она гордилась не менее, чем соседством с Александринским театром, Фонтанкой и улицей Росси. Именно ради каждого из них в отдельности она закупала любимые сорта скотч и айриш виски и расшибалась в лепешку, дабы к их приходу изрубить, изжарить, испарить, протушить и сварить ровно четыреста тринадцать блюд, каждого из которых было бы довольно, чтобы прославить ее имя как лучшего кулинара нашей компании и всех ее окрестностей.
Но что особенно ей удавалось – пышнейшие пироги из белых сушеных грибов, которые нужно было размачивать за сутки, а заготавливать с лета. Прежде, когда были победнее, мы наслаждались лесными заготовками сами, а в последние годы Ирка целыми клетчатыми сумками закупала эту труху у какого-то одичавшего интеллигента в перекошенных очках над перекошенной полустеснительной-полублаженной улыбкой. «Ты не боишься, что однажды он насушит тебе поганок», – время от времени интересовался я, и она немедленно принимала торжественный вид: «Как тебе такое приходит в голову? Сразу же видно, что он порядочный человек!»
– Но он же чокнутый…
– Не настолько же он чокнутый, чтобы белый от поганки не отличить!
Ирка вкладывала в это искупительное пиршество столько души, что по мере приближения торжественной минуты испытывала потребность все чаще и чаще выйти подышать и в итоге встречала долгожданных гостей, едва ворочая языком и с трудом сохраняя равновесие. Наши деликатнейшие друзья и даже их жены с напряженными улыбками выслушивали ее неразборчивые речи о том, как она их всех любит и какая для нее честь их посещение, а когда огромная фарфоровая миска с салатом разлеталась вдребезги, все бросались кто прибирать осколки и протирать изгаженный пол, кто доставать из духовки обуглившееся мясо в горшочках, но самое невыносимо стыдное заключалось в том, что Ирка никак не позволяла усадить себя в кресло, а, мыча, рвалась в бой, как классический бузотер в вытрезвителе.
Гости быстро вспоминали о срочных делах, Ирка засыпала в кресле, всхрапывая и пуская слюни, я, изнемогая от позора, относил переведенные продукты на помойку, а вернувшись, обнаруживал супругу уже на полу рядом с ополовиненной бутылкой скотча или айриша.
(Еще давно, при возрождении нашего благосостояния Ирка приобрела изящный итальянский столик на колесиках – и однажды ночью рухнула на него так удачно, что разнесла в щепки, – не для нашей широкой души их ренессансная утонченность. Дубовый белорусский держался дольше; собственно, ей и отломать удалось лишь одно колесико от его монументальности, но я его все равно выволок на помойку – уж очень тошно было видеть этого атлета скособоченным.)
В последний год, правда, стало немного легче: на Иркины приглашения наши друзья начали рассыпаться в сожалениях, что именно в это воскресенье прийти не могут. И в следующее, увы, тоже. А на субботу супруга сама никого не приглашала, ибо отсыпалась после пятничного запоя.
Но даже и в эти месяцы одной ее жалкой улыбки было достаточно, чтобы я все забыл и все простил. А взлет счастья и благодарности, что она вновь ко мне вернулась, в тот миг, казалось, искупал все. Я увлекал ее в какие-нибудь волшебные края – и так упоительно было после дождливой балтийской зимы оказаться на сверкающем зеркале Нила, побродить в могучем каменном бору Карнака, посидеть у подножия исполинских пирамид пред не желающим нас замечать каменным Сфинксом, наслаждаясь более всего Иркиной детской радостью: а я-то думала, никогда пирамиды выше фон Фока не увижу, ну скажи, скажи, могли мы подумать в Свиной балке, что когда-нибудь будем здесь сидеть?!
Для меня же это был сущий пустяк в сравнении с тем чудом, что судьба вновь вернула мне прежнюю Ирку.
А на грузовом итальянском ковчеге с экипажем филиппинцев, кланяющихся каким-то спортивным нырком, подавая тебе блюдо в кают-компании (а какой там был крепчайший кофе на камбузе в любое время дня и ночи!), мы бродили зигзагами по всему Средиземноморью, спускаясь на берег по рифленым стальным сходням вместе с рычащими корейскими автомобилями то в гриновской Каподистрии, где нам было не скучно битый час любоваться сияющим водяным ежом прибрежного фонтана, то в бетонно-коробчатом Пирее, в котором не осталось ни зернышка магии, кроме имени, то в раскаленном Ашдоде, где у нас над ухом с оглушительным звоном лопнула палестинская ракета, – но мы бы могли и вовсе никуда не сходить, а так и стоять рука к руке на баке, или как там его, лицом к теплому ветру, околдовываясь бескрайней гладью, из которой, к Иркиному восторгу, время от времени то выпрыгивали дельфины, тугие и толстые, как чайная колбаса, то медленно вырастали из моря до небес розовые и пустынные не то Спорады, не то Киклады.
А потом мы снова возвращались в постыдный ад нормальной жизни, и на ее щеках снова начинали разгораться прыщи, как будто не зеленый змий, а какой-то гнойный червь погружал в нее свои зубы. Однако лишь последний всплеск кошмара открыл мне, что той Ирки, которую я так любил, больше нет.
Хотя именно она погнала меня к врачу, когда в моем голосе появилась пленительная хрипотца под Высоцкого: «Мне кажется, что с этим новым голосом ты уже не ты». Я согласился, потому что и глотать стало больновато. И заподозрили – что бы вы думали? – да, да, то самое. Всемирное пугало. А в тот день, когда я сидел в больничном коридоре, ожидая окончательного приговора, мне на мобильник позвонила, не выдержав напряжения, замученная Ирка. Я собрал в кулак все свое деланое безразличие, чтобы ее хоть немножко успокоить, – и услышал в трубке пьяный смех: «Я спылю… И нны рыбботту не ппышшла…» Это же так смешно – спать в четыре часа дня. И забыть, что у обожаемого супруга в эти часы решается судьба – жить ему или умереть.









































