Текст книги "Каменное братство"
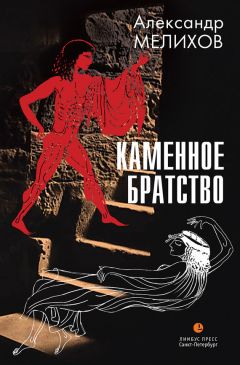
Автор книги: Александр Мелихов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Понятно, дело клонится к объявлению Черноморска вольным городом. – Так я называл многолетнюю Иркину мечту выдать замуж свою лучшую школьную подругу Галку. – А эту замухрышку мы бы выдали за Сережу…
Сережа был пожизненно влюбленный в Ирку однокурсник, за которого она много лет тщетно пыталась выдать то одну, то другую не занятую свою знакомую, оберегая от него только Галку.
– Нет, Сережа бы ей не подошел, он очень хороший, но зануда. Вообще-то несправедливо, что замечательных мужчин на всех не хватает, мы, кому повезло, по-хорошему должны бы делиться.
Я и до сих пор не знаю – может, она и впрямь была бы способна поделиться мною, если бы видела очень уж горькую нужду. Но я-то собою уж точно делиться был не способен – мне было просто нечем, Ирка заполняла во мне все.
А вот много ли заполнял в ней я в эти последние страшные годы? Пустоту, которую она пыталась залить, – выело ее разочарование, быть может, не только в мире, не только в себе, но и во мне? Уж очень мелководным оказалось плавание моего корабля…
Я снова ощутил, что мне есть куда бледнеть. Если Ирка наконец почувствовала, что я не тот, за кого себя выдавал, вернее, не тот, кем когда-то грезил стать…
Нет, ни за что! Если я усомнюсь, что я для Ирки так же бесценен, как она для меня, я не смогу ей помочь. Ибо лишь безграничная уверенность в себе может породить всевластное нужное слово! Вспомни, ведь твоя красивая неправда перевесила однажды даже слово Сына Человеческого!
* * *
Хотя в начале были неприятности.
Неприятности начались еще на кряжистой галерее Гостиного. Сновавшая с независимым видом по второму этажу фарца не глядя бросала мне короткие, как плевки, «чего надо?», «чего надо?» так отрывисто и презрительно, что я хотел сразу же уйти. Но цыганка, цветастая, будто клумба, глядя прямо в душу своими печальными индийскими глазами, говорила до того проникновенно, словно предлагала не «техасы», но свою любовь и преданность. Техасами в ту пору называли джинсы, и все, что я о них знал, а стало быть, и желал, это были выстроченные W на задних карманах и красные молнии на них же (клепки полагалось добавлять по вкусу), – я был уверен, что нашей Паровозной, которую я намеревался ослепить, сравнивать будет не с чем.
Если уж ослепленным оказался я сам. Хотя из недр приоткрытой кирзовой сумы лишь на миг успели просиять и желтые пунктирные W, и красные молнии, и никелированные клепки, насаженные гуще, чем на паровозном котле. Когда у меня появилась Ирка, желание красоваться покинуло меня в считаные недели: та единственная, на которую я желал производить впечатление, и без того мне принадлежала, да ее было бы и не взять ни молниями, ни громом. Но в тот год меня еще можно было пленить этим дикарским бисером.
Зачем мерить такому стройному красавцу, я и так вижу, что прямо на тебя пошиты, изнемогая от любви и скорби, внушала цыганка, не сводя с меня печальных индийских глаз, поедешь к папе с мамой (как она узнала, что я нездешний?..) – все девушки будут вслед смотреть, не скупись, красавец, тебя много счастья впереди ждет, что такое пятнадцать рублей для такого молодого?
Я не скуплюсь, оправдывался я, у меня правда только десять, ну, хотите, возьмите авторучку, она стоит три рубля. Только ради меня она взяла авторучку, сунула мне под мышку джинсы – и округлила свои индийские глаза в смертном ужасе:
– Милиция! Беги, красавец!
И исчезла. А я остался на внезапно опустевшей галерее, сияя из подмышки алыми молниями.
Не верьте этому предрассудку – толстогубые люди с водянистыми глазами и бесцветными ресницами вовсе не обязательно добродушны, – этот милиционер повел меня в пикет не просто по долгу службы, но прямо-таки с нескрываемым сладострастием. «Что с того, что не продавал, – все равно участвовал в спекулятивной сделке. Студент? Значит, все, отучился. Послужишь родине в стройбате». Я даже не пытался его о чем-то просить – слишком уж очевидно было, что это только обострит его наслаждение, – лишь старался не понимать, что происходит. (Вот и зря, впоследствии пеняла мне Ирка, к людям всегда нужно подходить с открытой душой, даже к самым противным.) Бежать уже было невозможно – не пробиться сквозь толпу.
То-то мать порадуется, сладострастно разглаживал мой убийца на убогом канцелярском столе какие-то протоколы, а где она, кстати, живет (тоже как-то понял, что я нездешний…) – неправильно, надо говорить не рабочий поселок, а поселок городского типа. А на какой улице? На Паровозной? Вот ни хрена себе пироги, а я жил на Тепловозной.
Я изобразил почтительное удивление: паровозам-де, конечно, за тепловозами не угнаться, не всем так везет – уродиться на Тепловозной! Но электровозы все же будут почище…
– А вот тут я с тобой не соглашусь. Для электровоза напряжение тянуть надо, а тепловоз на любой автобазе может заправиться!
Если бы я уступил ему электровозы без сопротивления, он бы ни за что не проникся ко мне такой нежностью. Он мне даже дал старую газету «Труд», чтобы я не привлекал своими алыми молниями опасного внимания. И еще напутствовал меня крамольным анекдотом о газетном киоске: «Правды» нет, «Советская Россия» продана, остался один «Труд».
Когда он произносил слова «Россия продана», в его голосе прозвучала неподдельная горечь.
Этим «Трудом» мне и надо было бы накрыться, когда за галечными осыпями и порожистыми речушками Южного Урала меня под утро разбудила сотня прапорщиков. Вернее, их было только трое, но галдели они за целую роту, обращаясь друг к другу по званию: прапорщик Иванов, прапорщик Петров, прапоушчик Куксенко. Ат-ставить! Я свесил голову, чтобы они меня заметили, и они отреагировали с предельной благовоспитанностью – мы вам-де не мешаем? (Всего-то три бутылки на столике, а шуму…)
– Конечно, мешаете, – сердито ответил я и перевернулся на другой бок, еще не отдавленный полированным деревом (в ту пору я не тратил скудные рублевки на такую глупость, как постель).
Один из прапорщиков поднялся на ноги и потрогал меня за плечо:
– Может, и ты к нам?
– Куда его к нам, ты что, не видишь, у него задница красная? – раздался голос снизу, и всякие церемонии были окончательно отброшены.
Что в пору Питеру, то рано для степей, куда я направлялся, но убедиться в этом мне еще предстояло. Сползши с полки, я побрел в тамбур, – там хотя бы не было самых противных в мире звуков – бесцеремонных человеческих голосов, один только ничего о себе не воображающий честный лязг вагонных стыков, дверь к которым не удавалось захлопнуть никакими усилиями.
Я прижался лбом к стеклу, и оно тут же исчезло, осталась только степь.
Через год я бы сказал: осталась степь за стеклом и моя Ирка во мне. Но тогда я смотрел и смотрел для себя одного.
Мягкая оранжевая трава лежала до горизонта, причесанная в одну сторону, словно речное дно, а из-за горизонта выдувался огромный приплюснутый пузырь, вырастая и расправляясь с каждой минутой… У меня и сейчас сжимается сердце, когда – где угодно, хоть в метро – на миг прикрыв глаза, я оказываюсь в нашей степи. Кажется, что там ничего нет, но это неправда – там есть она, степь.
Я вернулся в вагон и не испытал ни досады, ни злорадства, когда обнаружил в купе возню вокруг раскисшего прапорщика Куксенко: «Прапоушчик Куксенко, устать!» Куксенко сидел, свесив слюни (бог ты мой, мог ли я подумать, что буду так когда-нибудь поднимать мою Эвридику!..) на белые подштанники из той же рубчатой холстины, что и мои техасы, только они были синие, как спецовки в нашем железнодорожном депо.
Тем не менее когда мы с моим другом Сашкой Васиным отправились по старой памяти покататься на товарняках, ему сошли с рук даже длинные золотые волосы (нет, нет, к Орфею эти пижонские кудри точно не могли иметь никакого отношения!), а меня окликнул первый же работяга: «Эй ты, с красной задницей, ты чего тут отираешься?» Я оглянулся – мой оскорбитель стоял на груде ржавого металлолома со ржавой железякой в руках, облеченный в спецовку того же цвета техасского неба, щедро помазанную мазутом и ржавчиной, от крещения коими я так легкомысленно отрекся.
Сашка, мудро избравший умеренный технический вуз в отчих краях – не то в Челябинске, не то в Омске, не то в Барнауле, – деликатно потупился; я тоже хотел сделать вид, что не расслышал, однако не на того напал. «Я тебе, тебе – какого тут отираешься?» Из полумрака кирпичного цеха, с недобрым любопытством посвечивая африканскими белками, подтянулась еще парочка-тройка таких же чумазых помазанников, вооруженных исполинскими гаечными ключами.
Год спустя, когда у меня появилась Ирка, окажись она здесь, я бы пошел на этих африканцев с голыми руками, – правда, Ирка тут же все бы и утрясла, вооруженная главным своим орудием – открытой душой. Только при Ирке у меня и лихачить прошла охота – та единственная, ради которой стоило рисковать, и без того мне принадлежала. (Сам наутро бабой стал, внезапно прогремел у меня в ушах грозный оперный хор, и ему немедленно откликнулся скоморошистый тенорок: «А зачем бабе баба?» – и меня в очередной раз обдало особым морозцем.)
А в ту паршивую минуту лишь готовность пойти на риск увечья спасла меня от унижения: на мое счастье, подкатил грозно полязгивающий товарняк, слишком даже быстрый, чтобы вскакивать на ходу, но я не колеблясь ухватился за ободранную скобу у тормозной площадки. Рвануло так, что чуть не выдернуло руку из плеча – я и не заметил, как из техасов вывалилась последняя клепка (теперь они казались простроченными из пулемета), зато отчетливо почувствовал, как они затрещали в шагу, и ощутил там приятное веяние прохлады, хотя мазутный воздух был по-степному горяч. Сашку я втащил уже за руку – товарняк внезапно наддал. И не притормозил даже у светофора, где мы обычно спрыгивали.
Он так и молотил по рельсам с серьезной крейсерской скоростью – спрыгивать было бы чистым самоубийством, и мы довольно скоро оставили шуточки, а, спустившись с тормозной площадки на ступеньку с двух сторон, принялись махать машинисту.
Вотще. «Ты не помнишь, где следующая станция», – как бы небрежно прокричал Сашка со своей ступеньки, и я как бы небрежно прокричал в ответ: «Где, где – в Караганде». И мы как бы непринужденно засмеялись. На самом деле мы уже были черт-те где, а поезд все наддавал и наддавал. Я теперь старался лишь не вдумываться, что происходит, но только следил за мелькающей ржавой щебенкой у себя под ногами.
Наконец я выкрикнул Сашке: «Давай!» – и изо всех сил оттолкнулся против движения: мне показалось, что этот тепловозный садист сбавил ход до терпимого. Но показалось только по контрасту – я лишь чудом удержался на ногах, и не в последнюю очередь благодаря тому, что техасы уже не стесняли мой бег. Если бы я сумел выдержать такой темп на стометровке, меня наверняка взяли бы в олимпийскую сборную.
Когда мне удалось остановиться, товарняк уже прогрохотал в неведомую даль, открыв мне Сашку, неспешно отряхивающего степную пыль со своих отглаженных брюк цвета кофе со сливками. К нему удивительно быстро вернулись манеры британского лорда (и все-таки красные молнии оказались более враждебными народу… Ба, вот он на кого был похож – на Ференца Листа! Не догадывался я, что и это сходство было предвестьем…).
Перешучиваясь еще более оживленно, мы зашагали обратно по отполированной до глянца, мелко растрескавшейся грунтовой дороге. День клонился к вечеру, солнце припекало все более и более снисходительно, и наши длинноногие тени шагали перед нами, утягиваясь все дальше и дальше. И мы добрались бы до дома еще до темноты, если бы слева не вырос Красный Партизан.
Странные, неведомо кем и для чего расставленные среди степи ряды бетонных коробок, не оживленные ожерельем одноэтажных домишек с огородами, были населены свирепым племенем красных партизан, из чьих когтей и зубов еще ни один чужак не ушел живым. Рассуждая по-умному, нам следовало бы перебраться через железную дорогу и обогнуть партизан по степи, но для этого мы слишком долго перешучивались. Поэтому мы продолжали идти навстречу опасности, перешучиваясь, правда, уже вполголоса, хотя до окраины Красного Партизана, которой почти касалась наша дорога, оставалось еще не меньше километра. И наши шуточки вполголоса сделались еще более принужденными, когда мы увидели, что нам навстречу катит велосипедист.
Это был жилистый, ошпаренный солнцем паренек в линялых синих трениках со штрипками и еще более линялых красных «кетах». По-хозяйски тормознув, он спросил нас: «Ну? Что?» – только что не добавив: «Допрыгались?». «Ничего», – юмористически пожали мы плечами, переглянувшись так, словно нам очень забавно. И будто ни в чем не бывало двинулись дальше, чувствуя, как он оценивающе смотрит нам вслед, стараясь решить, что сильнее оскорбляет здешние обычаи – длинные золотые волосы и благородное выражение чистого лица или мои техасы? «Красножопый», – наконец услышал я свой приговор, и злой вестник просвистел мимо нас, припав к рулю.
– Поехал оркестр готовить, – пошутил я и сам почувствовал, до чего это не смешно.
Нас встретили и впрямь с народными инструментами – кто с гаечным ключом, кто с обрезком свинцового кабеля, а уже знакомый нам велосипедист и на этот раз был с ржавой велосипедной цепью. Все они, человек шесть, были похожи как двоюродные братья – небольшие, жилистые, прокаленные, в обвислых майках и попугайских рубашках навыпуск – «расписухах». Они и сюда уже добрались, и длинные волосы, как я заметил, тоже, но техасы…
– Это ты красножопый? – без экивоков обратился ко мне паханок, самый жилистый, самый перекаленный и самый расписной. – Какого тут отираешься?
И здесь меня осенило.
– Батю ищу, – проникновенно сказал я.
– Какого еще батю?..
– Батя нас бросил, когда я еще маленький был. А мне сказали, что он живет в Красном Партизане.
– А чего не из города шлепаете?
– Хотели на товарняке подъехать, а он, гад, разогнался, соскочить не могли.
– А твой батя – он какой из себя? Как зовут?
– Николай, – наобум брякнул я, и мой собеседник, с каждым словом смягчающийся, задумался:
– Николай, Николай… Как моего. Моего тоже Николай звали.
– А где он? – с робкой надеждой спросил я.
– Батя? Где ему быть, – одобрительно усмехнулся он и гордо повел глазами на своих дружков. – Сидит.
– Мой тоже сидел. Матушка говорит, его как посадили, так он уже к нам и не вернулся. А за что твой сидит?
– По бакланке. За драку.
– Клево, и мой за драку. Матушка говорит, как выпьет, обязательно должен кому-то в ухо заехать.
– Вот и мой то ж самое.
– У моего, матушка говорит, было на пальцах выколото К-о-л-я…
– И у моего Коля! Слушай, а когда его посадили?
– Лет двадцать назад. Я родился, и его тут же посадили. Всего на год, но он к нам уже не вернулся. Соседи говорят, обиделся, что матушка сама милицию вызвала. Он грозился, если она не даст добавить, он меня придушит.
– Мой тоже всегда грозился, но матушка всегда ему давала.
При слове «давала» по рядам красных партизан пробежала ухмылка, но засмеяться никто не посмел ввиду торжественности минуты.
И тут меня снова озарило.
– Братан, – шагнул я к паханку, подергиваясь морозцем от проникновенности собственного голоса. – Так это ж он и есть, наш батя!
И мы в едином порыве по-братски обнялись. Под расписухой спина у него была жилистая, как трос, а щека, прижавшаяся к моей щеке, шершавая и раскаленная, словно кирпич на солнцепеке.
Дальнейшее помню слабовато – такое чувство, что наливать начали прямо тут же, на дороге. А потом какие-то бетонные лестницы, тесные кухни, потные и радостные парни и девахи, мужики и бабы, и везде жмут руку, везде хлопают по спине, везде наливают. Мой братан, мой братан, в Ленинграде учится, всюду представляет меня Гоша и радостно добавляет: «А мы его чуть не отхерачили!»
А когда на том же месте под огромной степной луной мы на прощанье трясли друг другу руки, с трудом выловив их из ускользающего пьяного пространства, Гоша вдруг выдохнул потрясенно:
– Ты понимаешь, как может получиться?.. Ты кого-то херачишь, а он, может быть, твой брат?..
– Один чувак сказал, – проникновенно ответил я, – что вообще все люди братья.
Гоша напряженно задумался и после долгой паузы, во время которой нас вразнобой водило из стороны в сторону, озабоченно спросил:
– Офонарел, что ли?
* * *
Когда я впоследствии пересказывал это приключение Ирке, она пришла в торжественный настрой:
– Вот видишь, что бывает, если идешь к людям с открытой душой!
– С какой открытой душой – я же его обманул!
– Ты по форме обманул, а по сути сказал правду: люди же действительно все братья. Только ты выразил это в доступной им форме.
Ирка была так довольна и благостна, что даже заговорила в лекторском тоне.
* * *
Вот и с моими безвестными Эвридиками мне нужно будет отыскать такую ложь, которая в какой-то глубинной сути окажется правдой. И я найду эту ложь! Удалось же мне однажды исторгнуть алмазно чистые слезы из бесхитростной души фальшивыми, крадеными звуками.
Случилось это у бабушки. Не помню, сколько мне было лет, но меня еще занимало, как далеко я сумею дотянуться ногой со стула, подбоченясь свившимися с его плетеной спинкой руками. И мне еще никак не удавалось оторвать взгляд от черно-фиолетовых корней бабушкиных рук, споро сматывавших в один большой клубок мохнатые нитки из нескольких клубков поменьше, вертевшихся у ее ног в облупленной эмалированной миске. Один, покрупнее прочих, смотанный и сам из двух ниток – коричневой и белой, – штрихованно-рябой, как колорадский жук, вел себя еще посолиднее, зато остальные, мелкота, прыгали бесенятами, скакали друг через дружку, кидались на стенку, пытаясь выскочить наружу.
Поведение клубков отбрасывало и на бабушку некий отсвет легкомыслия, но лицо ее, как всегда, выражало одну только примиренность. Непонятно было даже, что ей все-таки подарить на сегодняшний день рождения.
Кажется, лицо у нее было темное, иконописное, высветлявшееся лишь светлым его выражением. Выражение помнится еще и сейчас, а лица давно уже нет. Да, подзывала, да, наливала, да, любовалась, да, будто бог весть какое лакомство, совала конфетку-подушечку, выдирая ее из поллитровой банки, – все это было, а лица уже нет…
Самый маленький черный клубок ухитряется-таки выскочить из миски и беснуется на полу. Я бросаюсь ловить его – я еще недалеко ушел от котенка, – и тут меня озаряет совершенно взрослая мысль: я напишу бабушке стих!
Про что, с какой такой стати, сумею ли – что за пустяки! Кому и писать стихи, как не мне? И через минуту я уже пятился к выходу, пряча за спиной лист бумаги и огрызок химического карандаша.
В дверях я напоследок окинул бабушкину склоненную фигуру оценивающим взглядом портного, намеревающегося шить без примерки. Позади бабушки на оконном стекле, на ниточке, как прищепки, сушились грибы – черные против света. Нотные значки, запятые, холерные вибриончики – арабская вязь.
На мой взгляд бабушка подняла седую голову, и в глазах ее тут же ожило неотступное беспокойство, не захворал ли кто, не проголодался ли, – безнадежное беспокойство, всю жизнь она беспокоилась, а никого ни от чего не уберегла – ни от голода, ни от горя, ни от смерти.
И я из дверей покровительственно сделал ей ручкой: не тушуйся, мол, я сейчас все устрою, – шагнул в сторону, чтобы она не заметила моих поэтических орудий, и рванул прямиком за сарай: овладевшая мною стихия и без моего ведома знала, что творцу необходимо уединение.
Лица бабушкиного не помню, а вот стол так и стоит в глазах: сколоченный наспех, но надолго, кособокий, но кряжистый, трава вокруг вытоптана в прах, а окурки в него тщательно втерты, образуя странное тиснение, – так выражают свое волнение болельщики, образуя два-три слоя вокруг вечернего домино. На столе еще валяются несколько черных извивающихся червяков – до конца сгоревших спичек, – это Закутаев так прикуривает: спичку не гасит, а ждет, пока обнажится из пламени меркнущая головка, потом берет ее, пшикнувшую, послюнявленными пальцами и, заслоняя ладонью, ждет, торжествуя и тревожась, когда пламя сойдет на нет.
Бабушка называет его соболезнующе – Закутаюшка, но в лице его нет ничего от умильных суффиксов «ушк»-«юшк», когда он шагает со службы в своей черной форменной тужурке – настоящая ветчина в форме. А когда он рассказывает, зловеще супя брови и хватая невидимую трубку: «Охрана мебельной фабрики слушает!» – то совсем уж непонятно, при чем тут Закутаюшка.
Меж тем я готовился к сочинительству так сноровисто, будто занимался этим всю жизнь. Прежде всего следовало погрузиться в поэтический транс, отрешиться от всего мирского, уйти из его плотной плотской атмосферы, густой, как в столовке или на автовокзале. Удалиться от мира за сарай – даже этого было слишком мало, что-нибудь все равно за тобой потащится.
Вот куст – хоть и совсем сквозной, а ухитрился-таки поднять, да так и держит на себе тень сарая, которая без него лежала бы на земле. Вот бочком проскользнула черная собака, угнетаемая стыдом и общим презрением, но прикидывающаяся, будто она всегда готова хоть жалко, но огрызнуться. Где-то с гулким звоном, словно из железной бочки, лают другие собаки. Из сарая слышны полувздохи-полустоны – это дедушка шаркает рашпилем по дереву.
Звучит все, не только хваленая раковина: прижмись ухом покрепче к коре любого дерева и услышишь, как где-то в глубине разогревают могучий авиационный мотор.
Все начинает звучать, только прижмись покрепче. А может, это ты сам начинаешь звучать. И если хочешь отсечь от себя весь этот мирской галдеж, ни к чему не прижимайся, ни на что не засматривайся, ни во что не вдумывайся. И грубая телесная сторона мира понемногу станет меркнуть, умолкать…
Но сам ты внутри себя еще опаснее. Память, только ее зачерпни, всколыхнется, словно бак с кислыми щами, – и так шибанет оттуда мирским духом – хоть топор вешай. Отрешись и от себя, и голова потихоньку наполнится пустотой, станет легче, больше, воздушнее, подобно аэростату, и понемногу обнаружится, что атмосфера заряжена поэтическим электричеством – рифмами, ритмами, мелодиями читанных и не читанных, и даже не писанных стихотворений, песен и басен, и какие-то внутренние антенны уже прощупывают этот поэтический эфир, какие-то переменные емкости пытаются подстроиться к нужным частотам, – минута, и стихи свободно потекут из-под моего карандаша.
Пока еще только подступал гул мировых поэтических пространств, врывались куски чужих передач – что-то вроде: «Неси меня ветер за дальние горы» или «О чем шумите вы, колосья?», – но пробудившийся во мне инстинкт медиума отвергал их с порога. Настройка все уточнялась, шумы отфильтровывались – вот сейчас, сейчас…
Вещание началось так внезапно, что я едва не прозевал божественный глагол и лишь в последний миг успел схватить карандаш. Атмосферные разряды мирской суеты проникали в мое общение с небом только в виде плохо оструганного стола, на котором рельефно проступали древесные волокна, превращая прямые в дрожащие, да еще карандаш угодил в щель и прорвал неуместную дырку, через которую сразу же попытался просунуть нос житейский мусор, так что у меня само собой вырвалось: «Гад ты, а не стол!» Но это был маломощный разряд, передача лилась практически бесперебойно. Очевидно, это было знаменитое автоматическое письмо сюрреалистов, вскрывшее мое небогатое подсознание.
На последней строке порыв вдохновения, как былинку, переломил мой химический грифель, но я, будто циркульным держателем, стиснул крошечный кончик пальцами и, словно Паганини на последней струне, довершил финал и в сладостном изнеможении принялся читать, что получилось.
Там в степи, от солнца опалённой,
Там, где не смолкает ветра вой,
Полз боец, сам весь окровавлённый
И с осколками пробитой головой.
Вот главу он уронил на руки,
И глаза вот устремились вдаль.
А в глазах его как бы светится
Никому не ясная печаль.
Только птичка-невеличка, что над ним кружилась,
Донесла до наших весть, что с бойцом случилось.
В атаку шла бойцов бесстрашных рота,
И дрогнул, отступает враг-фашист,
Но тут раздался выстрел миномёта
И ухо режущий снаряда свист.
Хоть миномёт теперь уж завоёван,
Но все-таки один снаряд ведь в цель попал,
И тот боец, что с русыми кудрями,
Взмахнув руками, на землю упал.
Я пошарил еще немножко в мировом эфире, но божественный глагол уже прекратил диктовку. Я сунулся под стол за скатившимся туда, чуть его выпустили из рук, карандашом, схватил его вместе с горстью серой пудры и бросился к дому, но у дверей затормозил и вошел, задумчиво глядя в свой продырявленный лист, словно в раскрытую книгу, ступая медленно и беззвучно, похожий одновременно на Гамлета и на тень его отца.
Узнав, что в подарок ей изготовлен стих, бабушка надела стальные очки и приготовилась слушать: она привыкла, что ее просвещенные внуки и читают лучше нее, и пишут, и толкуют о таких вещах, чьих и названий ей не выговорить. Вероятно, она не видела особой разницы между поэзией и, скажем, географией, и меня это несколько задело – в броню моей недостаточной начитанности тщетно стучалось что-то вроде: «Голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом, меня искали, но не нашли».
Я прочел свое сочинение, отчасти вновь впадая в сомнамбулическое состояние, с торжествующей скромностью поднял глаза – и обомлел: по темному бабушкиному лицу катились до оторопи светлые слезинки. А она потихоньку вытирала их кончиком своего белого платочка. Плакала она так же, как занималась всяким одной ее касающимся делом – стараясь не привлекать к себе внимания сверх минимальнейшей необходимости. Кажется, я ни разу не видел, как она ест, и совершенно точно не видел, как она умывается.
Я мог бы возгордиться, что моя лира способна исторгать слезы, ничуть не отличающиеся по своему составу от слез, исторгнутых лирой Пушкина, но что-то мне в этих ее слезах не понравилось. Что-то низменное, мирское…
– Что? Чего ты плачешь? – спросил я с досадой, и бабушка, подбирая последние слезинки, прошептала:
– Убили ведь его…
«Кого?» – чуть не спросил я, поскольку в точности не помнил, про что я там навалял – я ведь писал под диктовку высших сфер.
Однако, пробежавшись по волнистым строчкам, быстро разыскал в них убитого.
И тогда снова сделал бабушке ручкой, бодрой припрыжкой ускакал за сарай, там, выкрасив фиолетовым угол рта, обгрыз конец карандаша, чтобы оголить грифель, – бегать за ножом было некогда, – и, как зрелый профессионал, уже без участия дилетантских высших сфер, всяких там муз и граций, сотворил новый, оптимистический финал, в котором, прослышав в его груди последние удары, бойца уж подобрали санитары, и теперь уж он здоров, благодарит всех докторов, что жизнь ему спасли, благодарит и санитаров, что с поля боя унесли.
Но когда я явился за добавочным триумфом, бабушка уже почему-то лежала на кровати – лежала как-то косо, ноги касались края, – наверно, потому, что только прилегла, а чуть «полутчеет», так тотчас же и встанет.
Я благодушно зачитал бабушке новую концовку и покровительственно взглянул на нее: ну, что, мол, – а ты боялась! Но бабушка смотрела на меня обычным своим взглядом – ласково-ласково, но как будто в последний раз.
– Молодец какой, умничка! – похвалила она меня слабым голосом (видно, и впрямь ей было худо – впрочем, иначе она бы и не легла) и, подтянув меня к себе, неловко, краем губ поцеловала в лоб. – Ну, иди, поиграй.
И осталась лежать – одна, в своем беленьком платочке, – прилегла переждать боль, чтобы, как «полутчеет», снова приняться за дела.
Она всегда так лежала, как будто прилегла на минутку. Она и в гробу так лежала.
И вот теперь у нее уже нет лица.
А я так никогда ни о чем ее и не спросил – ведь у стариков в жизни и не могло быть ничего интересного.
А спросил бы – может, во мне бы что-то и откликнулось, не такая гулкая пустота, что отозвалась эфирному мусору.
Ведь петь может только тот, кто служит чьим-то эхом. Кто слышит и отзывается.
Когда-то я хотел слышать и отзываться всему на свете, но после встречи с Иркой мне довольно стало отзываться ей одной. И тому, чему отзывалась она.
И больше мне ничего не требовалось – только служить эхом эха.
Но от этого я каким-то чудом сделался богаче. Когда я со смущенной усмешкой однажды рассказал Ирке тот стих, который на меня нашел, к изумлению моему, на ее темно-янтарных глазах тоже выступили слезы.
– Слушай, ты прямо как моя бабушка! Как можно плакать над такими фальшивыми стихами?..
– Люди никогда не плачут над чем-то фальшивым. Они плачут только над правдой. Которую угадывают под фальшью.
* * *
Вот это и будут мои три урока – отыскать три лжи, под которыми будут угадываться три правды, неизвестные, может быть, и мне самому. Но все, надо хотя бы полежать с закрытыми глазами, иначе завтрашний… какой завтрашний – сегодняшний день наполовину пропал. А кто их знает, сколько дней мне отпустит Орфей.
Я закрыл глаза и оказался на полузабытой станции, не то Сарышаган, не то Кашкентениз – ах, как и доныне чаруют мой слух эти звуки: Моинты, Чаганак, который в детстве я называл Чугунок… Впереди – плоский серый Балхаш, позади – плоская серая Бетпак-Дала, добравшаяся под самые колеса своей пустынностью, после нашей шелковистой хотя бы на глаз степи представляющаяся каким-то строительным пустырем. Беленый станционный барак здесь тоже выглядит строительной времянкой, и по этому пустырю, поджимая пальцы на горячей щебенке, в одних семейных трусах понуро бродит голый человек с вафельной чалмой на голове.
Мы каждый раз видим здесь эту фигуру, и мне чудится, что она так вечно здесь и скитается среди железнодорожных путей, однако на самом деле она обновляется едва ли не ежедневно одним и тем же приключением. Поезд здесь калится на адском солнцепеке чуть ли не час, и народ из своих духовок радостно бежит купаться. А покуда он плещется в не то пресных, не то соленых водах (папа с мамой так ни разу меня и не отпустили, и я до сих пор не знаю, какая половина Балхаша горькая, а какая сладкая), подходит другой поезд, из которого бежит купаться новая истекающая потом волна, и кто-то самый легкомысленный так и не замечает обновления декораций: поезд стоит? – стоит – таблички на нем прежние? – прежние – народ купается? – купается, народ знает, что делает. И когда несчастный замечает, что это другой народ и, что гораздо ужаснее, другой поезд, оказывается уже поздно, родное купе успело крадучись растаять в пустынных далях…
Однако на этот раз я катил полузабытым путем уже более чем взрослым, прекрасно понимая, что унылая фигура в портьерных трусах и вафельном тюрбане меня больше не ждет на плоском балхашском берегу. Хотя духовка в купе была еще пояростнее прежней, и это при том, что пеклось нас здесь всего трое.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































