Текст книги "Какая музыка была!"
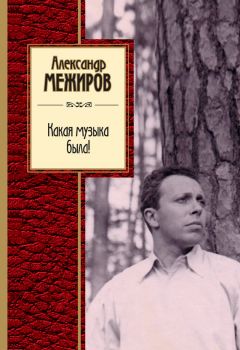
Автор книги: Александр Межиров
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Баллада о цирке
Метель взмахнула рукавом —
И в шарабане цирковом
Родился сын у акробатки.
А в шарабане для него
Не оказалось ничего:
Ни колыбели, ни кроватки.
Скрипела пестрая дуга,
И на спине у битюга
Проблескивал кристаллик соли…
. . . . . . . . . . . . . . . .
Спешила труппа на гастроли…
Чем мальчик был, и кем он стал,
И как, чем стал он, быть устал,
Я вам рассказывать не стану.
К чему судьбу его судить,
Зачем без толку бередить
Зарубцевавшуюся рану?
Оно как будто ни к чему,
Но вспоминаются ему
Разрозненные эпизоды.
Забыть не может ни за что
Дырявое, как решето,
Заштопанное шапито
И номер, вышедший из моды.
Сперва работать начал он
Классический аттракцион:
Зигзагами по вертикали
На мотоцикле по стене
Гонял с другими наравне,
Чтобы его не освистали.
Но в нем иная страсть жила,—
Бессмысленна и тяжела,
Душой мальчишеской владела:
Он губы складывал в слова,
Хотя и не считал сперва,
Что это стоящее дело.
Потом война… И по войне
Он шел с другими наравне,
И все, что чуял, видел, слышал,
Коряво заносил в тетрадь.
И собирался умирать,
И умер он – и в люди вышел.
Он стал поэтом той войны,
Той приснопамятной волны,
Которая июньским летом
Вломилась в души, грохоча,
И сделала своим поэтом
Потомственного циркача.
Но, возвратясь с войны домой
И отдышавшись еле-еле,
Он так решил:
«Войну допой
И крест поставь на этом деле».
Писанье вскорости забросил,
Обезголосел, охладел —
И от литературных дел
Вернулся в мир земных ремесел.
Он завершил жестокий круг
Восторгов, откровений, мук —
И разочаровался в сути
Божественного ремесла,
С которым жизнь его свела
На предвоенном перепутье.
Тогда-то, исковеркав слог,
В изяществе не видя проку,
Он создал грубый монолог
О возвращении к истоку:
Итак, мы прощаемся.
Я приобрел вертикальную стену
И за сходную цену
подержанный реквизит,
Ботфорты и бриджи
через неделю надену,
И ветер движенья
меня до костей просквозит.
Я победил.
Колесо моего мотоцикла
Не забуксует на треке
и со стены не свернет.
Боль в моем сердце
понемногу утихла.
Я перестал заикаться.
Гримасами не искажается рот.
Вопрос пробуждения совести
заслуживает романа.
Но я ни романа, ни повести
об этом не напишу.
Руль мотоцикла,
кривые рога «Индиана» —
В правой руке,
успевшей привыкнуть к карандашу.
А левой прощаюсь, машу…
Я больше не буду
присутствовать на обедах,
Которые вы
задавали в мою честь.
Я больше не стану
вашего хлеба есть,
Об этом я и хотел сказать.
Напоследок…
Однако этот монолог
Ему не только не помог,
Но даже повредил вначале.
Его собратья по перу
Сочли все это за игру
И не на шутку осерчали.
А те из них, кто был умней,
Подозревал, что дело в ней,
В какой-нибудь циркачке жалкой,
Подруге юношеских лет,
Что носит кожаный браслет
И челку схожую с мочалкой.
Так или иначе. Но факт,
Что не позер, не лжец, не фат,
Он принял твердое решенье
И, чтоб его осуществить,
Нашел в себе задор и прыть
И силу самоотрешенья.
Почувствовав, что хватит сил
Вернуться к вертикальной стенке,
Он все нюансы, все оттенки
Отверг, отринул, отрешил.
Теперь назад ни в коем разе
Не пустит вертикальный круг.
И вот гастроли на Кавказе.
Зима. Тбилиси. Ночь. Навтлуг[3]3
Навтлуг – окраинный район Тбилиси.
[Закрыть].
Гастроли зимние на юге.
Военный госпиталь в Навтлуге.
Трамвайных рельс круги и дуги.
Напротив госпиталя – домик,
В нем проживаем – я и комик.
Коверный двадцать лет подряд
Жует опилки на манеже —
И улыбается все реже,
Репризам собственным не рад.
Я перед ним всегда в долгу,
Никак придумать не могу
Смехоточивые репризы.
Вздыхаю, кашляю, курю
И укоризненно смотрю
На нос его багрово-сизый.
Коверный требует реприз
И пьет до положенья риз…
В огромной бочке, по стене,
На мотоциклах, друг за другом,
Моей напарнице и мне
Вертеться надо круг за кругом.
Он стар, наш номер цирковой,
Его давно придумал кто-то,—
Но это все-таки работа,
Хотя и книзу головой.
О, вертикальная стена,
Круг новый дантовского ада,
Мое спасенье и отрада,—
Ты все вернула мне сполна.
Наш номер ложный?
Ну и что ж!
Центростремительная сила
Моих колес не победила,—
От стенки их не оторвешь.
По совместительству, к несчастью,
Я замещаю завлитчастью.
Апология цирка
Всё меняется не очень, —
Следует за летом осень,
И за осенью зима,
И вослед за светом – тьма.
Был когда-то цирк бродячим,
Сделался передвижным.
И смеемся мы и плачем,
Всюду следуя за ним.
Ничего не изменилось,
Просто этим стало то,
Снится мне, как прежде снилось,
Штопаное шапито.
Он ишачил на Майдане,
Стал трудиться у метро.
То же вечное мотанье
Незапамятно-старо.
Не дают ему работать
(Прежде был городовой)
И с него сбирают подать,
Гонят улицей кривой.
Но никем не победима,
Ныне, присно и вовек
Мотогонщика Вадима
Труппа – восемь человек.
Перед публикой открыта
Нищенского реквизита
Роскошь пестрая его,
Бедной жизни торжество.
Бедной жизни добровольцы,
В мире вашем я гостил.
Там летят под купол кольцы,
Как мистерия светил.
Всё меняется не очень,
Следует за летом осень,
Как начало и конец, —
И летят все те же восемь
Пламенеющих колец.
Чтоб девятое прибавить,
Надо пальцы окровавить,
Перемочь такую боль.
Новую набить мозоль.
Низко публика поникла
Над грохочущей стеной,
Над орбитой мотоцикла
Зачаженно-выхлопной.
Я не слишком в этих тайнах,
Но без памяти люблю
Зрителей твоих случайных,
Мотогонщиков отчаянных,
Низко никнущих к рулю.
Я люблю кураж Вадима,
Выхлоп дыма и огня,
До сих пор непобедима
Эта «горка» – на меня.
Он, танцуя в ритме вальса,
Под перегазовок шквал,
Со стены сырой срывался,
Кости, падая ломал.
Облупился дом-вагончик,
И болеет мотогонщик, —
Вертикальная стена
За пустырь оттеснена.
Но, красиво-некрасивый,
Он появится опять,
Чтобы вновь над культом силы
В клоунаде хохотать.
Кто он?
Клоун?
Или Будда?
Улыбающийся, будто
Понял тайну мысли той:
Мир спасется красотой.
Храм дощатый,
Одноглавый,
В час треклятый,
Помоги!
Я люблю твои булавы
С тусклым проблеском фольги.
Узкой проволокой жизни,
Чтобы я не падал ввысь,
Подо мной опять провисни
Или туго натянись.
Над манежем вновь и снова
Слово «ап!» – всему основа.
Мир содеян по нему.
Всех, кто здесь бросал булавы,
Ради их безвестной славы
Этим словом помяну.
Этим словом цирк помянем,
Представляющийся мне
Постоянным состояньем
Всех живущих на земле.
Цирк передвижной, гонимый,
Мирового бытия
Образ подлинный, не мнимый,
Мной любимый. Жизнь моя.
«Одиночество гонит меня…»
Одиночество гонит меня
От порога к порогу —
В яркий сумрак огня.
Есть товарищи у меня,
Слава богу!
Есть товарищи у меня.
Одиночество гонит меня
На вокзалы, пропахшие воблой,
Улыбнется буфетчицей доброй,
Засмеется,
разбитым стаканом звеня.
Одиночество гонит меня
В комбинированные вагоны,
Разговор затевает
Бессонный,
С головой накрывает,
Как заспанная простыня.
Одиночество гонит меня. Я стою,
Елку в доме чужом наряжая,
Но не радует радость чужая
Одинокую душу мою.
Я пою.
Одиночество гонит меня.
В путь-дорогу,
В сумрак ночи и в сумерки дня.
Есть товарищи у меня,
Слава богу!
Есть товарищи у меня.
«Скоро, скоро зима, зима…»
Скоро, скоро
зима, зима
Снегом окно залепит.
Я отдаю тебя задарма,
Губы твои и лепет.
Лучшее, что имел,
отдаю,
И возвратят мне уже едва ли
Добрую, чистую душу твою
И тело,
которое так предавали.
Мы с тобою
друг другу —
недалеки,
Но сам я воздвиг между нами стену, —
На безымянный палец
левой руки
Кольцо серебряное надену.
«Одиночество гонит меня…»
Стоял над крышей пар,
Всю ночь капель бубнила.
Меня ко сну клонило,
Но я не засыпал.
А утром развели
Мастику полотеры,
Скрипели коридоры,
Как в бурю корабли…
Натерли в доме пол,
Гостиницей пахнуло,
В дорогу потянуло —
Собрался и пошел.
Опять бубнит капель
В стволе у водостока,
А я уже далеко,
За тридевять земель.
Иду, плыву, лечу
В простор степной и дикий,
От запаха мастики
Избавиться хочу.
«Что-то дует в щели…»
Что-то дует в щели,
Холодно в дому.
Подошли метели
К сердцу моему.
Подошли метели,
Сердце замели.
Что-то дует в щели
Холодом земли.
Призрак жизни давней
На закате дня
Сквозь сердечко в ставне
Смотрит на меня.
«Все разошлись и вновь пришли…»
Все разошлись и вновь пришли,
Опять уйдут, займутся делом.
А я ото всего вдали,
С тобою в доме опустелом.
Событья прожитого дня,
И очереди у киоска,
И вести траурной полоска —
Не существуют для меня.
А я не знаю ничего,
И ничего не понимаю,
И только губы прижимаю
К подолу платья твоего.
1953
Гуашь
По лестнице, которую однажды
Нарисовала ты, взойдет не каждый
На галерею длинную. Взойду
Как раз перед зимой, на холоду,
На галерею, по твоим ступеням,
Которые однажды на листе
Ты написала вечером осенним
Как раз перед зимой ступени те
Гуашью смуглой и крутым зигзагом.
По лестнице почти что винтовой,
По легкой, поднимусь тяжелым шагом
На галерею, в дом открытый твой.
Меня с ума твоя зима сводила
И смуглая гуашь, ступеней взмах
На галлерею, и слепая сила
В потемках зимних и вполупотьмах.
Черкешенка
Был ресторанный стол на шесть персон
Накрыт небрежно. Отмечали что-то.
Случайный гость за полчаса до счета
Был в качестве седьмого приглашен.
Она смотрела на него с Востока,
Из глубины веков, почти жестоко,
Недоуменно:
«Почему мой муж,
Прославленный джигит, избранник муз,
Такое непомерное вниманье
Оказывает этому вралю,
Который в ресторане о Коране
Болтает, – мол, поэзию люблю?!»
Во всеоружье, при законном муже,
Полна недоуменья:
«Что за вид у странного пришельца!
Почему же
Прекрасный муж к нему благоволит?
Затем ли бился Магомет в падучей,
Чтобы теперь какой-нибудь нахал
Святые Суры на удобный случай,
Для красного словца приберегал?
И стоит ли судить такого строго,
Когда не верит это существо,
В тот факт, что нету Бога, кроме Бога,
И только Магомет – пророк его».
Потом она приподнялась и встала.
Пустынно стало. Обезлюдел зал.
А странный гость остался
И устало
Еще коньяк и кофе заказал.
«Органных стволов разнолесье…»
Органных стволов
разнолесье
На лейпцигской мессе,
Над горсткой пречистого праха
Пречистого Баха.
И ржавчина листьев последних,
Растоптанных,
падших…
О чем ты, старик проповедник,
Бубнишь, как докладчик?
Что душу печалишь,
Зачем тараторишь уныло, —
У Лютера дочка вчера лишь
Ресницы смежила…
Стирание граней
Меж кирхой и залом собраний.
Мы все лютеране.
«Подкова счастья! Что же ты, подкова!..»
Подкова счастья! Что же ты, подкова!
Я разогнул тебя из удальства
И вот теперь согнуть не в силах снова —
Вернуть на счастье жалкие права.
Как возвратить лицо твое степное,
Угрюмых глаз неистовый разлет,
И губы, пересохшие от зноя,
И все, что жизнь обратно не вернет?
Так я твержу девчонке непутевой,
Которой все на свете трын-трава, —
А сам стою с разогнутой подковой
И слушаю, как падают слова.
«Твои глаза и губы пожалею…»
Твои глаза и губы пожалею,—
Разорванную карточку возьму,
Сначала утюгом ее разглажу,
Потом сложу и аккуратно склею,
Приближу к свету и пересниму,
И возвращу товарищу пропажу.
Чтоб красовалась на краю стола,
Неотличимо от оригинала.
По сути дела, ты права была,
Что две пропащих жизни доконала.
«Крытый верх у полуторки этой…»
Крытый верх у полуторки этой,
Над полуторкой вьется снежок.
Старой песенкой, в юности петой,
Юный голос мне сердце обжег.
Я увидел в кабине солдата,
В тесном кузове – спины солдат,
И машина умчалась куда-то,
Обогнув переулком Арбат.
Поглотила полуторатонку
Быстротечной метели струя.
Но хотелось мне крикнуть вдогонку:
– Здравствуй, Армия, – юность моя!
Срок прошел не большой и не малый
С той поры, как вели мы бои.
Поседели твои генералы,
Возмужали солдаты твои.
И стоял я, волненьем объятый,
Посредине февральского дня,
Словно юность промчалась куда-то
И окликнула песней меня.
Любимая песня
Лишь услышу – глаза закрываю,
И волненье сдержать нету сил,
И вполголоса сам подпеваю,
Хоть никто подпевать не просил.
Лишь услышу, лишь только заслышу,
Сразу толком никак не пойму:
То ли дождь, разбиваясь о крышу,
Оглашает кромешную тьму,
То ли северный ветер уныло
Завывает и стонет в трубе
Обо всем, что тебя надломило,
Обо всем, что не мило тебе?
И казалось, грустить не причина,
Но лишь только заслышу напев,
Как горит, догорает лучина,—
Сердце падает, оторопев.
Эту грусть не убью, не утишу,
Не расстанусь, останусь в плену.
Лишь услышу, лишь только заслышу —
Подпевать еле слышно начну.
И уже не подвластный гордыне,
Отрешенный от суетных дел,
Слышу так, как не слышал доныне,
И люблю, как любить не умел.
«Люди, люди мои! Между вами…»
Люди, люди мои! Между вами
Пообтерся за сорок с лихвой
Телом всем, и душой, и словами,—
Так что стал не чужой вам, а свой.
Срок положенный отвоевавши,
Пел в неведенье на площадях,
На нелепые выходки ваши
Не прогневался в очередях.
Как вы топали по коридорам,
Как подслушивали под дверьми,
Представители мира, в котором
Людям быть не мешало б людьми.
Помню всех – и великих и сирых, —
Всеми вами доволен вполне.
Запах жареной рыбы в квартирах
Отвращенья не вызвал во мне.
Все моря перешел.
И по суше
Набродился.
Дорогами сыт!
И теперь, вызывая удушье,
Комом в горле пространство стоит.
«В руинах Рим, и над равниной…»
В руинах Рим, и над равниной
Клубится дым, как над котлом.
Две крови, слившись воедино,
Текут сквозь время напролом.
Два мятежа пируют в жилах,
Свободой упиваясь всласть, —
И никакая власть не в силах
Утихомирить эту страсть.
Какая в этом кровь повинна,
Какой из них предъявят счет?
Из двух любая половина
Тебе покоя не дает.
«Не вечно Достоевским бесам…»
Не вечно Достоевским бесам
Пророчествовать и пылать.
Хвала и слава мракобесам,
Охотнорядцам исполать.
Всё на свои места поставлю.
Перед законом повинюсь,
Черту оседлости прославлю,
Процентной норме поклонюсь.
В них основанье и основа
Существованья и труда,
Под их защитой Зускин снова
Убит не будет никогда.
1952
Прощание со снегом
Вот и покончено со снегом,
С московским снегом голубым, —
Колес бесчисленных набегом
Он превращен в промозглый дым.
О, сколько разных шин! Не счесть их!
Они, вертясь наперебой,
Ложатся в елочку и в крестик
На снег московский голубой.
От стужи кровь застыла в жилах,
Но вдрызг разъезжены пути —
Погода зимняя не в силах
От истребленья снег спасти.
Москва от края и до края
Голым-гола, голым-гола.
Под шинами перегорая,
Снег истребляется дотла.
И сколько б ни валила с неба
На землю зимняя страда,
В Москве не будет больше снега,
Не будет снега никогда.
«Москва. Мороз. Россия…»
Москва. Мороз. Россия.
Да снег, летящий вкось.
Свой красный нос,
разиня,
Смотри, не отморозь!
Ты стар, хотя не дожил
До сорока годов.
Ты встреч не подытожил,
К разлукам не готов.
Был русским плоть от плоти
По Слову и словам, —
Когда стихи прочтете,
Понятней станет вам.
По льду стопою голой
К воде легко скользил
И в полынье веселой
Купался девять зим.
Теперь как вспомню – жарко
Становится на миг,
И холодно и жалко,
Что навсегда отвык.
Кровоточили цыпки
На стонущих ногах…
Ну, а писал о цирке,
О спорте, о бегах.
Я жил в их мире милом,
В традициях веков,
И был моим кумиром
Жонглер Ольховиков.
Он внуком был и сыном
Тех, кто сошел давно.
На крупе лошадином
Работал без панно.
Юпитеры немели,
Манеж клубился тьмой.
Из цирка по метели
Мы ехали домой.
Я жил в морозной пыли,
Закутанный в снега.
Меня писать учили
Тулуз-Лотрек, Дега.
Два стихотворения
1
Я тебе рассказывать не буду,
Почему в иные времена
Мыл на кухне разную посуду,
Но и ты не спросишь у меня.
Разную посуду мылом, содой,
Грязную до блеска, до светла,
B пятый раз, в десятый раз и в сотый, —
А вода текла, текла, текла.
У других была судьба другая
И другие взгляды на войну,
Никого за это не ругая,
Лишь себя виню, виню, виню.
2
На воде из общего колодца
И на молоке из-под козы
Мы варили кашу, как ведется, —
Все другое – если бы кабы.
Мы варили так, а не иначе,
Нечего над кашей слезы лить, —
Каша перестанет быть горячей,
Перестанет каша кашей быть.
Если вы заботитесь о соли,
Здесь и так немалый пересол.
Так что, mille pardon и very sorry,
Плачьте сами, ну а я пошел.
«В огромном доме, в городском июле…»
В огромном доме, в городском июле,
Варю картошку в маленькой кастрюле.
Кипит водопроводная вода, —
Июльская картошка молода, —
Один как перст,
Но для меня отверст
Мир
Накануне
Страшного
Суда.
На всех пространствах севера и юга
Превысил нормы лютый зной июля.
Такого не бывало никогда, —
Ах, Боже мой, какие холода…
Варю картошку в мире коммунальном,
Равно оригинальном и банальном.
Мудрей не стал, – но дожил до седин.
Не слишком стар, – давным давно один.
Не слишком стар, давным-давно не молод,
Цепами века недоперемолот.
Пятидесяти от роду годов,
Я жить готов и умереть готов.
Обзор
Замри на островке спасенья
В резервной зоне,
Посреди
Проспекта —
И покорно жди,
Когда спадет поток движенья.
Вот мимо запертых ворот,
Всклокоченный и бледный некто,
По левой стороне проспекта
Как революция идет.
Вот женщина
Увлечена
Ногами длинными своими.
Своих прекрасных ног во имя
Идет по улице она.
Серпухов
Прилетела, сердце раня,
Телеграмма из села.
Прощай, Дуня, моя няня, —
Ты жила и не жила.
Паровозов хриплый хохот,
Стылых рельс двойная нить.
Заворачиваюсь в холод,
Уезжаю хоронить.
В Серпухове
на вокзале,
В очереди на такси:
– Не посадим, —
мне сказали, —
Не посадим,
не проси.
Мы начальников не возим.
Наш обычай не таков.
Ты пройдись-ка пёхом восемь
Километров до Данков…
А какой же я начальник,
И за что меня винить?
Не начальник я —
печальник,
Еду няню хоронить.
От безмерного страданья
Голова моя бела.
У меня такая няня,
Если б знали вы,
Была.
И жила большая сила
В няне маленькой моей.
Двух детей похоронила,
Потеряла двух мужей.
И судить ее не судим,
Что, с землей порвавши связь,
К присоветованным людям
Из деревни подалась.
Может быть, не в этом дело,
Может, в чем-нибудь другом?..
Все, что знала и умела,
Няня делала бегом.
Вот лежит она, не дышит,
Стужей лик покойный пышет,
Не зажег никто свечу.
При последней встрече с няней,
Вместо вздохов и стенаний,
Стиснул зубы – и молчу.
Не скажу о ней ни слова,
Потому что все слова —
Золотистая полόва,
Яровая полова́.
Сами вытащили сани,
Сами лошадь запрягли,
Гроб с холодным телом няни
На кладбище повезли.
Хмур могильщик. Возчик зол.
Маются от скуки оба.
Ковыляют возле гроба,
От сугроба до сугроба
Путь на кладбище тяжел.
Вдруг из ветхого сарая
На данковские снега,
Кувыркаясь и играя,
Выкатились два щенка.
Сразу с лиц слетела скука,
Не осталось ни следа.
– Все же выходила сука,
Да в такие холода…
И возникнул, вроде скрипок,
Неземной какой-то звук.
И подобие улыбок
Лица высветлило вдруг.
А на Сретенке в клетушке,
В полутемной мастерской,
Где на каменной подушке
Спит Владимир Луговской,
Знаменитый скульптор Эрнст
Неизвестный
глину месит;
Весь в поту, не спит, не ест,
Руководство МОСХа бесит;
Не дает скучать Москве,
Не дает засохнуть глине.
По какой-то там из линий,
Слава богу, мы в родстве.
Он прервет свои исканья,
Когда я к нему приду,—
И могильную плиту
Няне вырубит из камня.
Ближе к Пасхе дождь заладит,
Снег сойдет, земля осядет —
Подмосковный чернозем.
По весенней глине свежей,
По дороге непроезжей,
Мы надгробье повезем.
Ну, так бей крылом, беда,
По моей веселой жизни —
И на ней
ясней
оттисни
Образ няни – навсегда.
Родина моя, Россия…
Няня… Дуня… Евдокия…
«Всего опасней – полузнанья…»
Всего опасней – полузнанья.
Они с историей на «ты» —
И грубо требуют признанья
Своей всецелой правоты.
Они ведут себя как судьи,
Они гудут, как провода.
А на поверку – в них, по сути,
Всего лишь полуправота.
И потому всегда чреваты
Опасностями для людей
Надменные конгломераты
Воинственных полуидей.
Разлука
В узкие окна, отвесно и прямо,
Падает солнце в морозной пыли.
Пыльное солнце высокого храма…
Господи! Душу мою исцели.
Мы расстаемся. Но я не заплачу.
Над перелесками свищет зима.
Завтра покинет казенную дачу
Хмурый хозяин, Гордеев Фома.
Свищет зима над покинутым домом,
В бочке застыла гнилая вода.
Волжский купец с декадентским надломом,
Мы расстаемся. Прощай навсегда.
Балетная студия
В классах свет беспощаден и резок,
Вижу выступы полуколонн.
Еле слышимым звоном подвесок
Трудный воздух насквозь просквожен.
Свет бесстрастный, как музыка Листа,
Роковой, нарастающий гул,
Балерин отрешенные лица
С тусклым блеском обтянутых скул.
Из истории балета
Гельцер
танцует
последний
сезон,
Но, как и прежде, прыжок невесом, —
Только слышней раздаются нападки,
Только на сцене, тяжелой, как сон,
В паузах бешено ходят лопатки.
Воздух неведомой силой стеснен —
Между последними в жизни прыжками
Не продохнуть, —
и худыми руками
Гельцер
танцует
последний
сезон.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































