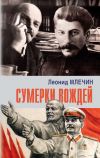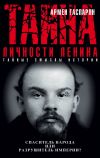Текст книги "Тут и там"

Автор книги: Александр Петров
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Милану Буневцу
На угощение богатое,
такое, что и у богов бы слюнки потекли,
с напитками, что сердце воспламенят
да вдруг и остановят,
когда мечта его сбудется —
наполнить мозг вином,
как наполнают бочку дубовую,
еще с плодами из морских глубин,
эффект которых не сравнить с виагрой,
от них и обезьяны попадали б с дерев,
когда бы на ветвях совокуплялись,
не говоря уж о редчашей снеди,
от птиц молока и до яиц от попугаев,
на это плоти торжество,
на парад страсти этот,
пригласил всех лично он,
сын богача
со звучным именем —
Платон,
дам первых и вторых,
особо оных,
паденью склонных
(и трех красавиц куртизанок),
в них мужей влюбленных,
и неверных,
и рогоносцев совершенных,
и мальчиками обуянных козлов,
и неучей атлетов, и сверхученных стариков,
чтоб, если есть желанье жрали,
бражничали, пели, скакали,
под лиры звуки поплясали,
пока бы на траву не пали,
чтоб напоследок им
открыть доселе
тайну, в себе хранимую.
Чтобы его слыхали,
чтоб поразительная весть
дошла до уха всех,
во весь кричит он голос:
«Довольно было,
ну, довольно!»
Не пакость здесь причиной или злоба,
а мир души
и духа озаренье
ему велят без сожаленья
всем объявить,
что навсегда он оставляет роль
устроителя пиров,
борделей этих.
«А стихи мои,
детей от тела моего,
здесь перед вами,
вот, на папирусе,
пусть поглащает пламя.[1]1
Жаль – подумает человек, совершая прогулку по страницам истории. Поэзия, все же, исполнена не только страстями, как штрудель с маком или с козьим сыром пирог. Ибо пожелал бы кто-нибудь и сегодня прочесть стихи Платона. Но и пепел развеял ветер. Так что вместо удовольствия, pleaisir du texte – печаль.
[Закрыть]
По-ученически смиренно,
нога к ноге,
отправляюсь на заре
к Сократу».
2013(Перевод с сербского Мариной Петкович)
Статьи
Стихотворение «Смольный» в аспектах памяти
В статье разбирается стихотворение «Смольный» (А. Петров, 1979) – в аспектах коммуникативной, автобиографической и культурной памяти.
Мама – моя личная связь с Лениным.
Ленин – в Смольный. Мама – из Смольного.
Ленин из Смольного руководил революцией.
Мама в Смольном проходила гимназический курс.
В так называемом институте благородных девиц.
Смольный для мамы был, как клетка для птицы.
Раз в неделю отпуск. Как в армии.
Летние каникулы, пока их дождешься!
Рождество. Пасха.
Заключительный бал.
И тут Ленин. На улицах – рабочие отряды.
Революция – краткий перерыв в уроках.
Перемена между французским и немецким.
По-русски говорили только по воскресеньям. Или шепотом.
И в вагоне, когда ехали в Харьков…
Вокзал. Старый Петроград на перроне.
Провожают с иконами.
Девушки в форменной одежде. Родные с цветами.
Конфеты, извлеченные из потайных ящичков.
Будь осторожна! Пиши нам!
Благословение бабушки. Брат-близнец с шапкой в руке.
Скоро увидимся!
Смольный – обратно в Смольный?
Красные в Харьков. Мамин Смольный – в море.
Новая классная дама. С желтым лицом.
На голодных уроках впервые не откликаются вызванные.
Одесса – Варна – София – Ниш – Белград.
Наконец Турецкий Бечей. Кофе с молоком на завтрак.
Тайные записи на всех языках. Знакомые русские кавалеры.
Одни с эполетами, другие в штатском.
Балканский Смольный.
Выпускные экзамены. Двери настежь!
Десять часов за кассой.
И так – десять лет…
Благородная девица в капиталистическом обществе.
За чужой кассой.
Мамина новая семья. Не изменившиеся обычаи.
Война. Красная армия.
Чаепитие с красными офицерами. Разговор по душам. До рассвета.
Разные взгляды. Общие слезы.
Занавес. Упал. Поднялся.
И мама пришла к Ленину,
как в торжественный зал. Как на прием
к новому директору в Смольном.
Поклонилась и молча прошла.
Седая.
Он уже был моложе.
(Перевод с сербского Музы Павловой.)
И. П. Смирнов в известной и уже ставшей классической книге «Порождение интертекста (Элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б. Л. Пастернака)» утверждает, что текст-текст отношение является текстопорождающим отношением в словесном искусстве[2]2
Смирнов И. Порождение интертекста. Элементы интертексту-ального анализа с примерами из творчества Б. Л. Пастернака / Wiener Slawistischer Almanach. 1985, Sbd. 17. С. 5. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.peterlang.com/downloadpdf/title/67231 (дата обращения: 20.07.2019).
[Закрыть]. Я вполне согласен с такой «концептуализацей» текст-текст отношения для многих литературных произведений, включая и некоторые мои стихотворения. Очевидная текст порождающая интертекстуальная связь концовки стихотворения «В русской церкви в Белграде» («Здесь восприемник / вложил ему в уста / иной язык, / пьянящий его своим вином. / Но, вот, он молится / на том / ржаном, родном») со стихами Есенина: «Потому, что я с севера, что ли, / Я готов рассказать тебе поле, / Про волнистую рожь при луне. <…> // Эти волосы взял я у ржи…» («Шаганэ ты моя, Шаганэ!»). Такое же текст-текст отношение и со стихом Цветаевой: «Русской ржи от меня поклон» («Русской ржи от меня поклон»).
Но я не думаю, что даже возможное «выявление» «Смольного» как интертекста будет определяющим в реконструкции его «генеративного процесса»[3]3
Там же.
[Закрыть]. По-моему, возникновение «Смольного» определили три момента: рассказы матери автора, мемуары, журналы и книги по истории Революции и эмиграции, воспоминания автора. Все три момента связаны с тремя типами памяти: коммуникативной, культурной и индивидуальной, или автобиографической.
Ян Ассман указывал на разницу между коммуникативной и культурной памятью. Содержание первой – «история в рамке автобиографической памяти, недавнее прошлое», второй – «мифическая история, события в абсолютном прошлом (in illo tempore)». Форма первой – «неформальная традиция и жанры повседневной коммуникации», а второй – «высокая степень формы, церемониальность». Носители информации первой – «живая, воплощенная память в повседневном языке», а другой – «тексты, иконы, танцы, ритуалы, спектакли разных типов; “классический” или формальный язык(и)». Структура времени в первой – «80–100 лет, подвижной горизонт 3–4 взаимно действующих поколений», второй «абсолютное прошлое, мифическое примордиальное время, “3000 лет”». В первом случае структура участников «разнородная», во втором – это «специализированные носители памяти, иерархической структуры»[4]4
Assman J. Communicative and Cultural Memory // Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook / Astrid Erll, Ansgar Nünning (Hg.). Berlin – N. Y., 2008. P. 117.
[Закрыть].
Необходимо уточнить, что Ян Ассман свои строгие бинарные оппозиции оценил «не вполне соответствующими современной обстановке», так как в современном обществе есть тенденция «к дифференциации бинарных структур и к лингвистическим разнообразностям из-за многосторонности средств информаций культуры, таких как кино, радио и телевидение»[5]5
Там же.
[Закрыть]. Но его предупреждение больше относится к культурной, чем к коммуникативной памяти.
По моему мнению как автора, коммуникативная и автобиографическая память, а в меньшей степени и культурная память, но не текст-текст отношение, являются основным текст порождающим фактором «Смольного».
Я не планировал писать стихотворение об Октябрьской революции. Я решил написать стихотворение о матери после ее кончины в 1978 году. Почему у меня возник Ленин? Вероятно, потому что из-за революции моя мать Ирина вместе со Смольным институтом благородных девиц покинула родину и семью, оказавшись по окончании Великой войны в далеком и для нее тогда чуждом и незнакомом мире – в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев, Новом Бечее – небольшом местечке на берегу Тисы. Несомненно, Октябрьская революция изменила жизнь матери, хотя в октябре 1917 года ей было всего четырнадцать лет.
А разве может стихотворение с именем Ленина в первых строках не быть и стихотворением о революции? Не расстается мать с Лениным до конца первой строфы, и снова они вдвоем в последней строфе. А рядом с ними как бы происходит столкновение двух миров, которые, по мнению Ленина, не могут существовать одновременно и рядом. Один мир – олицетворяемый Лениным, другой – тот, в котором родилась моя мать. Это два мира, противопоставленные друг другу на одной и той же исторической вертикали; тот, кто со дна ее, хотел бы все перевернуть и поставить с ног на голову, а тот, что с ее верха, стремится все сохранить.
Первая строфа – свидетельство тому, что в стихотворении «Смольный» не ставилась задача создания точной исторической картины Революции. Институт еще летом 1917 года покинул знаменитое здание, одно из красивейших в городе Петра, которое в классическом стиле в 1806 году возвел архитектор Джакомо Кваренги при Воскресенском новодевичьем Смольном монастыре. Здесь тогда проходило обучение принятых кандидаток, здесь же ученицы и жили. Поэтому второй стих не является достоверным. Институт покинул здание Смольного не по приказу Ленина, а по решению Временного правительства Керенского, вождя Февральской революции 1917 года. Причина – отмена дворянских привилегий. Это была причина, выражавшая волю большинства русского народа, к которой с пониманием отнеслись и многие представители дворянского класса.
Ленин впервые переступил порог Смольного лишь поздним вечером 24 октября. После полуночи было принято решение занять Зимний дворец. В ту же ночь началось и к утру завершилось свержение Временного правительства Керенского. В тот день 1917 года Смольный стал и десятилетиями оставался символом Октябрьской революции. Так запечатлено во многих книгах по истории, но не совсем так в стихотворении «Смольный». Но разве строго изложенный порядок событий важен для поэзии? Разве сущность октябрьского переворота не содержит совсем незамысловатая строка – «Ленин из Смольного руководил революцией»? Ленин провел в Смольном всего 124 дня. «Эти 124 дня – важнейший период в истории Великой Октябрьской социалистической революции, в жизни Ленина»[6]6
Великанова А. Ленин в Смольном. Л.: Лениздат, 1990. С. 3.
[Закрыть]. Мне удалось за несколько лет до «рождения» «Смольного» увидеть комнату, в которой Ленин жил.
Но меня интересовал тот Смольный, который был обречен на гибель.
Революции часто бывают праведными, но почти всегда насильственными. Смольный институт все же мирно покинул российскую столицу летом 1917 года, а затем, в гораздо более тяжелых условиях войны и голода, в 1919 году, и Россию. Были ученицы, которым не удалось дойти до конца этого беженского пути, став жертвами «желтой дамы».
«Смольный» – это стихотворение и о русской эмиграции. А эмиграция – это одновременно и рассказ о революции: русская эмиграция создала обширную литературу на эту тему, в том числе и мемуарную. О чем другом могли быть эти мемуары, если не об Октябрьской революции?
Мемуары писались, публиковались, читались и в Сербии. Профессор д-р Мила Стойнич в своей работе «Отголоски русского Октября в журнале “Српски књижевни гласник”» подчеркивала, что сотрудники СКГ «очень пристально следили за огромным потоком мемуарной литературы», и что «мемуары были представлены избранными отрывками, критическими отзывами или свободными интерпретациями и текстами, в которых мемуары были основным, относительно обширно цитированным источником»[7]7
Стойнич М. Отголоски русского Октября в журнале “Српски књижевни гласник”. Сто година Српског књижевног гласника. Београд, 2003. С. 286–287.
[Закрыть].
Авторы мемуаров в основном придерживались двух позиций. Правые осуждали Октябрьскую революцию, хотя одиночки в их среде признавали необходимость общественных перемен. Для левых, в основном эсеров, характерно было «позитивное отношение» к Революции, но не к большевистской власти, преследовавшей их повсеместно «как прокаженных представителей буржуазной интеллигенции или либерального дворянства»[8]8
Там же. С. 288.
[Закрыть], так что они вынуждены были эмигрировать.
Русская эмиграция развернула и собственную значительную издательскую деятельность. В Сербии, которую русские эмигранты воспринимали как своего рода вторую славянскую родину, издавались книги, газеты и журналы на русском языке. Замечательный «Русский архив» (1928–1937), в котором сотрудничали эмигрантские писатели, художники, критики и историки, обосновавшиеся в Европе (Цветаева, Ремизов, Замятин, Гончарова, Марк Слоним), выходил даже на сербском языке. Редакторы журнала считали, что неверно отождествлять Россию с ее правительством и режимом, поскольку тем самым на первый план выдвигался политический вопрос и совсем исчезают Россия и ее народ. Задача журнала состояла в том, чтобы повернуться лицом к России и, в отличие от «абсолютно политического» и потому необъективного подхода, «показать и представить подлинную Россию во всем блеске ее гения»[9]9
Руски архив (Београд). 1927, № 1. С. 1.
[Закрыть].
Издательская деятельность, как и другие общественные, педагогические области, включая разные виды искусства, были отмечены двумя уже упомянутыми противостоящими позициями, достигнувшими политического апогея накануне Второй мировой войны, особенно в ходе войны, когда формировались эмигрантские воинские части для борьбы на стороне гитлеровской Германии против «коммунистической России»: некоторые русские эмигранты в оккупированной Югославии были готовы воевать вместе с самим дьяволом, только чтобы свергнуть Сталина и его коммунистическую власть (а немцы заставили их воевать в Боснии против югославских партизан).
Однако большинство русских эмигрантов не встало на сторону нацистов. Несмотря на идеологические различия, они не отождествляли большевистскую власть с русским народом. Тем более что Сталин провозгласил войну против немецких захватчиков народной и даже «священной войной».
И моя семья в оккупированном Белграде сочувствовала освободительной борьбе в Югославии и в России и молила Бога о ниспослании помощи. Вот почему и офицеры Красной Армии были встречены в 1944 году с большой теплотой в нашем белградском доме, а одна из его комнат была приспособлена для их круглосуточного пребывания. Мы со слезами на глазах слушали о страшных страданиях и огромных потерях русского народа, об опустошенных и сожженных селах и городах. И русские офицеры, закаленные в многолетних боях, иногда не могли, да и не хотели сдерживать перед нами слезы. Оттуда «общие слезы» в стихотворении «Смольный». Отец мог совершенно откровенно, как говорится, «по душам» разговаривать с некоторыми из офицеров и о жертвах Советской власти. Впоследствии он узнал, что в сталинской чистке Красной Армии пострадал и его родной брат (он окончил жизнь в сибирских лагерях). Он не был согласен и с отправкой белых генералов в Советский Союз в 1945 году (никто из них не вернулся), особенно тех, кто отказывался от какого-либо сотрудничества с нацистами. Общий враг все же не мог устранить их различные взгляды на жизнь и общество.
Но и эти «различные взгляды» не смогли помешать матери и отцу при первой возможности, когда был поднят железный занавес (относительная десталинизация во времена Хрущева), посетить Россию и ближайших родственников.
Хотя и с этими взглядами дела обстояли не так просто. Мать составила представление о благодатях демократии и капитализма, но и о его ограничениях, выраженных в самоуправстве работодателей. Ей особенно мешало неравноправное отношение к женщинам, особенно на рабочем месте. Она подметила нечто положительное в социализме: стремление к социальной справедливости и равноправию женщин. Даже коммунистическая диктатура не делала различий относительно пола.
Стихотворение «Смольный» опубликовано в Белграде в 1979 году, еще при жизни Тито, вопреки необычной в поэзии «встрече», вероятно, и единственной в своем роде. Встрече в стихах вождя Октябрьской революции с одной не особо заслуживающей его внимания женщиной, бывшей дворянкой и белоэмигранткой.
Первые возможные, причем весьма сокрушительные последствия публикации стихотворения подобного содержания начал предугадывать поэт Васко Попа. «Еще никто не осмеливался, – говорил он мне, – Ленина, икону Октября, помещать в такой контекст. И живого Ленина в начале стихотворения, а тем более мертвого». «Что значит, – задавался вопросом Васко, – и какие представления вызывает эпилог стихотворения? Никаких других кроме конца ленинской эпохи и возвращения той, побежденной Октябрем». «Эпилог не только ироничен! Если бы только это!» – утверждал Васко Попа. И все же он пожелал быть единственным, кто это стихотворение истолковал настоящим, пусть и «опасным» образом.
Васко Попа не остался единственным толкователем. Стихотворение понравилось и Стояну Вуйчичу, сербскому писателю из Венгрии. Он сразу перевел стихотворение, но все отказывались его публиковать. Без комментариев!
На польский язык «Смольный» перевела Малгожата Вежбицкая и предложила одному из лучших польских журналов «Творчество» («Twórczošć»). Редакция включила его вместе с еще парой моих стихотворений в январский номер 1987 года, причем на почетное, ударное первое место. Даже раньше стихотворений Магнуса Энценсбергера. Однако все это происходило во времена Ярузельского и жестокой цензуры. Цензоры не могли позволить публикацию такого стихотворения, прежде всего в его оригинальном виде, но редакция отклонила все их требования по сокращениям и изменениям. Журнал все же выиграл этот бой, хотя январский номер вышел в свет только в ноябре 1987 года[10]10
Несколько страниц (с 76-й по 82-ю) перевела с сербского Марина Петкович.
[Закрыть].
Стихотворение «Смольный» переведено на многие иностранные языки (великолепны переводы Чарльза Симича и Ричарда Бернса на английский), а в России в переводе Музы Павловой оно опубликовано в моей книге «Пятая сторона света»[11]11
Петров А. Пятая сторона света. М., 2015–2016.
[Закрыть].
Но дальнейшая судьба «Смольного» заставляет меня задуматься и об аспектах, о которых писал И. П. Смирнов: «Специфика художественной интертекстуальности рассматривается в трех аспектах: идеологическом (трансформация темо-рематических связей антецедентов), семиотическом (трансформация знаково-референтных связей антецедентов) и коммуникативном (приемы, посредством которых литературное произведение указывает идеальному читателю на свою трансформативную историю)»[12]12
Смирнов И. Указ. соч. C. 5.
[Закрыть].
Читатели, критически относившиеся к «Смольному» (безразлично, были ли они идеальными, как Васко Попа, или нет), рассматривали стихотворение в идеологическом и коммуникативном аспектах, особенно имея в виду радикальную трансформацию привычного образа и живого, и мертвого Ленина.
При создании «Смольного» определенную роль сыграла и культурная память. Работая над подготовкой антологии русской поэзии[13]13
См.: Антологија руске поезије. XVII–XX век. Београд, 1977.
[Закрыть], я прочитал несколько десятков стихотворений, посвященных Ленину, но ни одно не включил в антологию.
Один из ранних примеров моей культурной памяти, связанной с Лениным, была пьеса Мирослава Крлежи «Cristoval Colon» (1918), опубликованная в 1933 году под названием «Kristifor Kolumbo». Действие пьесы происходит на корабле «Святая Мария», в ночь накануне открытия Новой земли. Адмирал является главным выразителем идеи пьесы, в сущности утопической. Он стремится не к освоению незнакомой территории и связанным с ней богатством, а к метафорическим «звездам». Это звезды нового общественного порядка. Экипажу чужды мечтания Адмирала о новом человеке, о светлом будущем человечества, особенно его осуждение всего «старога», включая и Бога. Матросов со странными именами (Неизвестный, Голодный, Наглый, Пьяный, Сломанный, Упрямый, Дикий, Безголовый) интересует лишь возможность наживы. Большинство членов экипажа после долгого плавания начало сомневаться в реальности осуществления затеи, в которую они пустились без знания короля, и потребовало от Адмирала вернуться назад. Их тревожило не только безбрежное незнакомое направление, но и страх перед голодом и смертью вдали от родины. Когда их окончательно оставила надежда на достижение цели путешествия на поврежденном корабле, они начали толковать о трагической судьбе, о Божьем наказании и решили изменить свое печальное положение освобождением от злого духа Адмирала. Ведь Адмирал не скрывал, что он не верит ни в Бога, ни в короля – ни во что, во что верили они. Кульминация пьесы наступает в момент распятия Адмирала. Распятый Адмирал очевидно сходен с образом распятого Христа, чуждого и Адмиралу, и автору. Так утопическая в своей основе драма Крлежи приобретает в эпилоге антиутопический характер.
Крлежа намеревался посвятить пьесу Ленину, но передумал. Шесть лет спустя, в 1924 году, после кончины вождя Октябрьской революции, Крлежа объяснил почему он решил «стереть» посвящение:
«В то время Ленин представлял для меня уплывший в океан субъект, наподобие черной адмиралтейской фигуры, которая в своем трагическом солипсизме разрывается на носу корабля и плывет в ничто, и тогда я написал одно стихотворение (назовем это так), с Лениным как таковым не имевшее никакой связи. Уже события ранней весны и лета 1918 года убедили меня в том, что мое посвящение Ленину было выстрелом в молоко. И, поняв это, я его стер. Потому что уже весной восемнадцатого Ленин для меня не представлял ни субъективизм, ни солипсизм, ни ничто, ни штирнеровское сомнение, а наоборот – коллектив и волю, и самосознание, и стремление к цели на полных парусах. Как Маркс и Дарвин уничтожили бога и общество, так и Ленин предстал зодчим, творцом, работающим по плану…»[14]14
Krleža M. Panorama pogleda, pojava i pojmova. Knj. 3. Sarajevo: Oslobodjenje; Zagreb: Mladost, 1975. S. 539–540.
[Закрыть]
В том же 1918 году Александр Блок написал поэму «Двенадцать». Образ Иисуса Христа у Блока вполне противоположен распятой «черной адмиралтейской фигуре» Христофора Колумба. Несравним Христос «в белом венчике из роз» и с образом Ленина Крлежи из 1924 года, который символизировал «коллектив и волю».
Ленин Крлежи из 1924 года подобен образу Ленина из поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин» (1924), написанной непосредственно после кончины вождя. Сходство этих образов не случайное, а идеологическое. Презирая субъективизм, Маяковский дает имя коллективу: «величественнейшее слово “ПАРТИЯ”». И уточняет: «Мы говорим Ленин, / подразумеваем – /партия, / мы говорим / партия, / подразумеваем – / Ленин…» И далее: «Партия – / рука миллионопалая, / сжатая / в один / громящий кулак. / Единица – вздор, / единица – ноль, / один – / даже если / очень важный – / не подымет / простое / пятивершковое бревно, / тем более / дом пятиэтажный».
Вот он, Ленин, Ленин-коллектив, Ленин-Партия, он, как и у Крлежи, зодчий, строитель. Маяковский не отказывается и от символики: Ленин символ вечной жизни, он и после смерти «живее всех живых». Ленин непричастен смерти даже лежа в мавзолее: «Свезли в мавзолей частицу Ленина – / тело. / Но тленью не взять – / ни земле, / ни золе – / первейшее в Ленине – / дело. / Смерть, / косу положи! / Приговор лжив. / С таким / небесам / не блажить» («Комсомольская»).
В поэме «Владимир Ильич Ленин» Маяковский «начертил» и портрет живого Ленина, с поднятой рукой, его характерное движение, когда он вещает народу или своим товарищам-революционерам. Он включил и цитату устной речи Ленина, конечно, сооруженную стихотворным ритмом: «– Товарищи! – / и над головами / первых сотен / вперед / ведущую / руку выставил. – / – Сбросим зодчества обветшавшие лохмотья». Аналогичен был и план Ленина – грязную лексическою рубашку заменить чистой.
В статье «“Высокая болезнь” и проблема эпоса в 1920-е годы» И. З. Серман указал, что поэме Маяковского предшествовал специальный номер Лефа 1924 года (под редакцией Маяковского) с научными работами опоязовцев В. Шкловского, Ю. Тынянова, Б. Томашевского Л. Якубинского. Статью «Словарь Ленина-полемиста» Тынянов начал цитатой Ленина из его первого «Письма о тактике»: «Надо уметь приспособить схемы к жизни, а не повторять ставшие бессмысленными слова»[15]15
Тынянов Ю. Словарь Ленина-полемиста. Проблема стихотворного языка. М., 1965. С. 197.
[Закрыть]. И он пришел к выводу, что «речь Ленина упрощенная, сниженная, вносящая в традицию ораторской речи и политической литературы быт, и потому необычно динамичная, влияющая…». В речи Ленина несомненно было влияние и Герцена. «Но эта традиция была освежена вводом небывалого свежего лексического материала. Этот лексический материал сдвигает речь Ленина»[16]16
Там же. С. 247.
[Закрыть].
Возможно, что и Шкловский своей статьей «Ленин, как деканонизатор», опубликованной в «Лефе», повлиял на Маяковского своим мнением: «Ленин все еще наш современник. / Он среди живых. / Он нужен нам, как живой, а не как мертвый». Далее в тексте Маяковского «Не торгуйте Лениным!», изъятом из «Лефа», можно прочитать: «Учитесь у Ленина, но не канонизируйте его. Не создавайте культа именем человека, всю жизнь боровшегося против всяческих культов»[17]17
Так же как программный текст Маяковского «Не торгуйте Лениным!» (в оглавлении № 5 «Лефа» за 1924 год в рубрике «Программа» этот текст числится на стр. 3–4, однако из журнала удален), и ссылка на него в статье Шкловского, опубликованной в журнале «Леф» (№ 5, 1924. С. 53–56), отсутствует. См. интернет-ресурс: http://libelli.ru/works/ shklovsv.htm (дата обращения: 7.8.2019).
[Закрыть].
В поэме И. Сельвинского «Уляляевщина» Ленин диктует машинистке: «Итак, Резолюция IX съезда полагала, / Что путь пойдет нормальной шкалой, / А шкала пошла совершенно не так. / Можно ли это явленье замазать? Нет. / Признаемся волей-неволей, / Что наша стомильонная / крестьянская / масса / Установленной формой отношений недовольна. / Однако Шляпников, Коллонтай / Хотят завинчивать гайки потуже. / Стремясь отдать мужицкие души / В распоряженье махновских стай. / Где же союз с крестьянством, друзья, / Если у вас держимордовы меры?» В речи Ленина вырисовывается полемическое отличие от «высокой» лексической окраски, «разоблачение “гладких” слов-мошенников, снятие “ореолов”»[18]18
Тынянов Ю. Указ. соч. С. 247.
[Закрыть]. А запоминается и визуальный образ Ленина. Он шагает по ковру «Засунув пальцы нервных рук / За проймы / губсоюзского / жилета».
И Есенин отозвался на смерть Ленина двумя стихотворениями: «Гуляй поле» (1924) и «Капитан земли» (1925). И в том, и в другом слышится живое слово Ленина, но оно в тени его визуального/ нарративного образа, особенно в стихах «Гуляй поле». Одно сравнение в изображении Ленина абсолютно уникальное – «Он с лысиною, как поднос». Несправедливым был Есенин к себе, когда признавался журналисту П. И. Чагину: «Я в долгу перед образом Ленина… Ведь то, что я писал о Ленине – и “Капитан Земля” и “Еще закон не отвердел” – это слабая дань памяти человека, который не то что как Петр Первый Россию вздернул на дыбы, а вздыбил всю нашу планету»[19]19
Чагин П. Сергей Есенин в Баку // Есенин в воспоминаниях современников: в 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1986.
[Закрыть]. Есенин действительно в траурное время, зимой 1924 года, писал на скорую руку стихи ради денег. Его друг Лев Полоцкий советовал ему даже стихи не печатать[20]20
Половецкий Л. Сергей Есенин в жизни и творчестве // Литературные новости. 1992, № 5. С. 12.
[Закрыть], а П. И. Чагин отказался их опубликовать[21]21
Они частично опубликованы в 1926, полностью впервые в: Есенин С. Собр. соч. Т. 3. М., 1962. С. 37.
[Закрыть]. Причина отказа заключалась в недоработанности стихов. Но сегодняшнего читателя скорее не удовлетворяет оголенная революционная риторика и слишком подчеркнутый человеческий облик «мятежника» и «сурового героя» («Глядел скромней из самых скромных. / Застенчивый, простой и милый»). Есенин и противоречив в стихах о революции. С одной стороны, он более причастен Блоку со своим видением революции как метели и непогоды («Шуми и вей! / Крути свирепей, непогода, / Смывай с несчастного народа / Позор острогов и церквей; И мы пошли под визг метели, / Куда глаза его глядели»), с другой стороны, он близок к строительскому концепту Маяковского («А те, кого оставил он, / Страну в бушующем разливе / Должны заковывать в бетон. / Для них не скажешь: / Ленин умер!».). Однако в лучших стихах Есенин остается имажинистским поэтом русской природы: «Россия / – Страшный, чудный звон. / В деревьях березь, в цветь – подснежник».
В год смерти Ленина и Висенте Уидобро, чилийский поэт, виднейший представитель испаноязычного литературного авангарда первой половины XX в., основатель «креасьонизма», написал «Элегию на смерть Ленина», одно из лучших стихотворений, посвященных вождю революции. Элегию Уидобро отличает возвышенный стиль, насыщенный оригинальными метафорами и архетипическими символами в связи с загробной жизнью:
<…>Ты вступил в свою смерть,
Как внезапное солнце в промерзшую полночь,
Как зеленое лето в пустыню могилы,
И приняв тебя, смерть поднялась выше жизни.
Отступают века пред твоим саркофагом,
Как паломники, реки струятся к нему. <…>
Зерна слов твоих ветер разнес – и они
Проросли, сочленяя враждебные земли
И сплотив их в единую Землю Людей.
Ты пришел, как прообраз обещанных вёсен,
Как предтеча еще не родившихся лет…
Ты инстинкты земли подчинил своей воле. <…>
Каждый, каждый внимает тебе и, прислушавшись, слышит,
Как колотится сердце твое по ту сторону Смерти!
Отступают века перед вечным твоим Мавзолеем!
И Пастернака, и Мандельштама привлек образ Ленина.
У Мандельштама в 1937 году в стихотворении «Если б меня наши враги взяли» Ленин возникает неожиданно, шелестом, только в одном стихе, в самом конце:
И – в легион братских очей сжатый —
Я упаду тяжестью всей жатвы,
Сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы —
И налетит пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой Ленин,
И на земле, что избежит тленья,
Будет будить разум и жизнь Сталин.
Кажется, что Мандельштам в стихах предчувствует свою гибель в спелой грозе (в постреволюционной сталинской России, в зрелом, социализме), а не возможность спасения жизни. Кстати, революция в этом стихотворении – явление природы, концепт, сходный концепту революции у Блока и Есенина. Вернее, образ Ленина – воплощение стихии, а образ Сталина – олицетворение разума.
Образ Ленина в стихотворении Мандельштама вступает в интертекстуальные отношения с отрывком из поэмы «Высокая болезнь» Пастернака второй редакции (1928 года, первая 1923). У Мандельштама – «Прошелестит спелой грозой Ленин», у Пастернака Ленин:
И вырос раньше, чем вошел.
Он проскользнул неуследимо
Сквозь строй препятствий и подмог,
Как этот, в комнату без дыма
Грозы влетающий комок
И далее в тексте:
Я помню, говорок его
Пронзил мне искрами загривок,
Как шорох молньи шаровой.
Помимо грозы (молнии), стихотворение Мандельштама откликается на Пастернака и синонимом шороха: шелесть. Мандельштам помнит Пастернака, а Пастернак Есенина (непогода). И, конечно, стихию Блока. Пастернак настаивает на том, чтобы в говорящем Ленине описать то, что запомнилось (помню, помним) именно им, а это то, что с Лениным «в тот миг связалось с ним одним»:
Он был как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет.
Слова могли быть о мазуте,
Но корпуса его изгиб
Дышал полетом голой сути,
Прорвавшей глупый слой лузги.
И эта голая картавость
Отчитывалась вслух во всем,
Что кровью былей начерталось:
Он был их звуковым лицом.
Когда он обращался к фактам,
То знал, что, полоща им рот
Его голосовым экстрактом,
Сквозь них история орет.
И вот хоть и без панибратства,
Но и вольней, чем перед кем,
Всегда готовый к ней придраться,
Лишь с ней он был накоротке.
Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому – страной.
Ощущение, что в стихах слышна речь Ленина, хотя Пастернак не прибегает к цитированию его, возникает потому, что его разные впечатления о речи Ленина сочетаются в одном образе – в звуковом лице. И. З. Серман в уже упомянутой статье указал на порождение пастернаковского образа как элемента интертекста. Блок в «Крушении гуманизма» писал, что Венера Милосская есть некий звуковой чертеж. Он также утверждает, что строками «Он управлял теченьем мыслей / И только потому – страной», «Пастернак объявляет причиной победы большевиков “те рационалистические обобщения”, которые презрительно отвергал Блок во имя “музыкальных ритмов”, во имя стихии»[22]22
См.: https://document.wikireading.ru/55638 (дата обращения: 7.8.2019).
[Закрыть].
В заключительных стихах Пастернак дает обобщенную оценку «Века связующих тягот», называя Ленина, как и Есенин, гением:
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход».
Последний стих о мертвом Ленине слишком двусмыслен и не мог повлиять на поэтов как Маяковский стихами «Ленин жил – / Ленин жив – / Ленин будет жить» («Комсомольская»). Они стали парадигматическими в советской поэзии.
Малоизвестные стихи одного рабочего, грузчика Олизаровича, о мертвом Ленине выделяются евангельским концептом зерна: «Глядите, о братья, какое зерно[23]23
Концепт зерна положен и в основу стихов Бродского о тех, кто «толковали Талмуд, оставаясь идеалистами», но концепт зерна не библейский: «И не сеяли хлеба. / Никогда не сеяли хлеба. / Просто сами ложились / в холодную землю, как зерна. / И навек засыпали. / А потом – их землей засыпали / зажигали свечи, / и в день Поминовения / голодные старики высокими голосами, / задыхаясь от голода, кричали об успокоении. / И они обретали его. / В виде распада материи» («Еврейское кладбище около Ленинграда», 1958). О концепте зерна/семени в связи с концептом кладбища пишет Кринка Видакович Петрова в ее еще неопубликованной статье.
[Закрыть] / Для жатвы грядущей земле он отдал: / Оно – без соринки, оно – золотое».
Образ Ленина в стихах некоторых советских потов бывает отчасти близок религиозным текстам о чуде и – теогуманизму. Смерть Ленина – это рождение Ленина в вечности. Жизнь Ленина в смерти подобна загробной жизни святых.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?