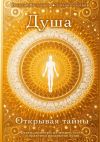Текст книги "Очищение. Том 2. Душа"
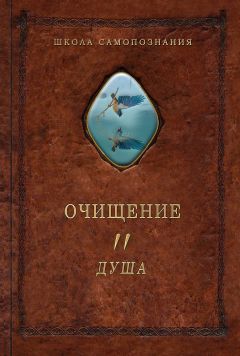
Автор книги: Александр Шевцов
Жанр: Психотерапия и консультирование, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Слой первый. Философия светская и научная
Русский восемнадцатый век
Начало русской нерелигиозной философии было положено преобразованиями Петра, но историки философии имеют об этом иные мнения.
Александр Иванович Введенский в очерке «Судьбы философии в России», с которым выступал на публичном заседании Санкт-Петербургского Философского общества в 1898 году, считал, что: «временем появления философии в России можно считать 1755 год, то есть открытие Московского университета» (Введенский. Судьбы…, с. 28).
Это он пояснял противопоставлением светского образования духовному:
«В самом деле, не говоря уже о том, что в существовавших до той поры духовных академиях Москвы и Киева под именем философии преподавалась лишь безжизненная схоластика, не надо забывать, что эти учреждения не были устроены по типу высших учебных заведений и оказывали самое ничтожное влияние на развитие нашей образованности» (Там же).
Эрнест Леопольдович Радлов в 1912 году оспаривает это мнение:
«В истории русской философии профессор А. И. Введенский различает три периода: подготовительный период, период господства немецкого идеализма и период вторичного расцвета или самостоятельной мысли. Началом русской философии он считает 1755 год, то есть год основания Московского университета.
С таким делением трудно согласиться: во-первых, нет основания отождествлять философию с университетским преподаванием философии…» (Радлов. Очерк, с. 100).
Думаю, тут Радлов совершенно прав, потому что философию в Университете преподавали на латыни приглашенные для этого немцы, и влияние их на русское мышление было ничтожным. Но даже если оно и было, достаточно сказать, что в отношении понятия души наши философы испытывали влияние немецкой философии. Само же понятие – с влияниями или без них – я предпочту исследовать по работам русских философов.
Тем не менее, этот спор о начале русской философии, а я показываю лишь его малую частицу, был и может продолжаться даже сейчас. В чем его суть и почему возможны такие разногласия? Ответ, я думаю, уже дан в предыдущей главе. И скрыт он в понятии о целях исследователя и соответствующем мировоззрении. Если кто-то хочет делать философию и только философию, то он будет исходить из одного понятия о ее развитии. Если другой занят просвещением и его выражением в распространении образованности, то это другая точка зрения. Если же видеть в философии или науке мировоззрение определенного сообщества, стремящегося к власти в обществе, то это совсем иной подход.
Как психолог я исхожу именно из того, что Наука проникла в Россию не случайно и не сама по себе. Ее мощный и разрушительный вход в российский уклад жизни диктовался необходимостью вывода России в число основных игроков на международной сцене. И это нельзя было сделать с прежним правящим сообществом – родовой знатью или боярами. Просто потому, что они уже этого не сделали и никак не меняли себя. Почему? По той простой причине, что им было не нужно. У них и так все было.
Их нужно было заменить на голодное сообщество, которое пошло бы на драку и со старейшинами своего племени и с другими племенами, чтобы получить жизненное пространство и причитающиеся ему блага. Сообществом этим в начале восемнадцатого века было дворянство.
Чем оно было хорошо для тех целей, что преследовал Петр? Кроме желания сражаться за место под солнцем, дворяне были исконно воспитаны в двух основных мировоззрениях Руси – христианском и двоеверном, то есть народно-языческом. Эти мировоззрения можно назвать русской культурой той поры. Это означало, что, овладев новым мировоззрением и объединившись с его помощью, дворяне все равно останутся понятными для народа, поскольку являются людьми русской культуры. При этом, как гораздо более многочисленное, чем бояре, сообщество, дворянство оказывалось и более действенным для управления огромным народом. Дворяне могли подпихивать к движению гораздо большее число людей просто потому, что их самих было много.
Что было сутью правящего мировоззрения новой русской власти? Его безрелигиозность. О Петровских реформах образования историки в голос пишут примерно вот такие восклицания:
«Начавшаяся при Петре европеизация России сказывается в сфере образованности прежде всего тем, что просочившееся уже к нам богословское знание отводится в надлежащее ему русло.
Государство как такое обращается к науке европейской, светской. Нет ничего при этом удивительного, что сам Петр и его ближайшие помощники ценят науку только по ее утилитарному значению – таково свойство ума малокультурного. Невежество поражается практическими успехами знания; полуобразованность восхваляет науку за ее практические достижения и пропагандирует ее как слугу жизни и человека.
Но наука имеет свои собственные жизненные силы и свои имманентные законы развития» (Шпет, с. 238).
Именно про подобные высказывания время от времени писали, что очередная мера правительства вызвала вой интеллигенции. Верные слуги и жрецы Науки, естественно, не могли принять разумный подход Петра к их Богине. Богов нельзя использовать для своих нужд, им надо служить страстно и беззаветно!
Петр же, возможно, дал самый яркий пример здравого подхода к Науке. Он ее именно использовал для решения вполне понятных задач. И при нем она оставалась орудием и управляемым слугою в делах государства. Однако, Наука существо хитрое и коварное. Как только она усилилась за счет втягивания в свое тело большого числа людей, она начала битву за захват власти и в России. Итог мы все знаем – кровавая резня 1917–20 годов и последующее «единственное истинно научное общество научного коммунизма». Однако это относится совсем к другому исследованию.
Что же касается светской или научной философии, то восемнадцатый век действительно был для нее временем неблагоприятным. И 1755 год, когда стараниями Шувалова и Ломоносова был создан Московский университет, в действительности нельзя считать временем начала светской философии в России. Повторю: философия прочно связывается в то время в умах дворянства с богословием. Богословие же – основа мировоззрения бояр. Им заняты Киевская и Московская духовные академии. Что же касается всех открывшихся в том веке университетов, то к ним вполне относятся слова Густава Шпета о петровской Академии:
«Вследствие всей совокупности и внешних и внутренних условий жизни Академии словесно-исторические науки испытали в ней особо превратную судьбу. Они то исключались вовсе из “классов Академии”, то опять вводились, но замирали под давлением ненаучных обстоятельств. Не сразу они заняли подобающее им место.
Но все же заняли, и лишь для философии ничего не было сделано. Правда, в XVIII веке, пока при Академии существовали университетские курсы, там преподавалась какая-то философия, но устав 47-го года настоятельно требовал от профессоров философии, чтобы они не учили ничему противному православной вере, добронравию и форме правительства» (Шпет, с. 244).
Этот рассказ Шпет продолжает словами, которые я бы посчитал выводом и объяснением всей той эпохи существования философии в России:
«Только учреждение Московского университета ввело философию в постоянный состав высшего преподавания. Однако и здесь ее влияние на общественное сознание оказывалось ничтожным, потому что проходившие через университет единицы в подавляющем большинстве смотрели на прохождение ими курса как на тяжкую повинность, затем лишь открывавшую доступ к приятным и прибыльным государственным и военным должностям. Университет был открыт не для науки» (Там же).
Верно. И не надо по этому поводу горевать. Это наука для человека, а не человек для Науки! Искать истину мы можем и без служения божеству, которое уже почти погубило планету и отбило у людей способность думать. И открытия, и прорывы в познании действительности совершают люди, а не Наука! И если сейчас кому-то и удается делать что-то настоящее, то это или вопреки противодействию научного сообщества или за счет огромных усилий по преодолению его сопротивления.
Что же касается восемнадцатого века, философия весь тот век рассматривалась не более чем составная часть общего образовательного минимума, необходимого для занятия должности. Это отражает суть мировоззрения правящего русского сообщества. Подобное явление повторилось в веке двадцатом, когда мы все обязательно учили философию Диамата лишь затем, чтобы сдать экзамены и прорваться к получению дипломов.
И в то, и в наше время философией занимались лишь те, кто действительно имел философский склад ума. У них не было профессионализма, какой обрела научная философия в девятнадцатом веке, зато у них была любовь к мудрости, а не к Науке!
Возвращаясь к уже сказанному, добавлю: мое мнение – единственным временем, когда в России действительно существовала светская философия, была первая половина девятнадцатого века. Россия вдруг почувствовала прелесть и очарование романтического путешествия в иные миры и состояния сознания и открыла, что ключом к ним является углубление собственного сознания путем рассуждения. И она рассуждала и спорила. Последним всплеском этого порыва были бесконечно рассуждающие и спорящие герои Достоевского и Льва Толстого.
Все остальные философы становятся профессионалами и служат Науке. На долю настоящего философствования остаются лишь считанные порывы либо однажды в юности, когда приходит озарение, либо перед смертью, когда приходят мысли о вечном. Но это уже совсем другой рассказ.
Что же касается самого начала, то для меня ярчайшим примером светской философии той поры являются работы Василия Никитича Татищева (1686–1750). Дворянин, служил в армии, участвовал во всех битвах Северной войны, затем государственник. Тридцать лет собирал материалы по истории России.
В философию он вошел через кружок Феофана Прокоповича, именовавшийся «Ученой дружиной Петра I». Как и все желавшие стать образованными русские люди той поры, он много изучает европейцев. Поэтому совершенно нет смысла рассказывать о нем как о философе. О его же взглядах на природу души можно судить по написанному им в 1733 году «Разговору двух приятелей о пользе наук и училищ», который Плеханов называл энциклопедией.
Я очень не люблю словено-российский язык восемнадцатого столетия и поэтому я воспользуюсь рассказом о взглядах Татищева на природу души советского историка философии Галактионова. Как бы ни глубок был Татищев, но его понятие души гораздо меньше известно русскому человеку, чем рассказ о нем историка философии, по чьему учебнику учились тысячи и тысячи русских студентов. Тем более, что через него видно, как живут старые понятия в общественном сознании.
«Главной наукой, сосредотачивающей в себе высшее знание, мыслитель считал философию, ибо только она способна ответить на наиболее сложные вопросы бытия. В своем стремлении познать человека и внешний мир она прежде всего сталкивается с проблемой души и тела. Без выяснения вопросов, как соотносятся между собой душа и тело, какие функции свойственны каждой из этих сторон человека, невозможно понять ни самой человеческой сущности, ни того, как человек связан с миром, ни того, наконец, каков процесс познания.
Телесная организация человека объявляется областью философии. Душа (психика) относится к компетенции религии. Тело принадлежит роду вещей конечных, оно смертно и, разрушаясь, отходит к первоначальным стихиям, из которых состоит; “свойство души есть дух, не имеющий никакого тела или частей, следовательно, нераздельна, а когда нераздельна, то и бессмертна”.
Нераздельность, как аргумент в пользу бессмертия души, был позаимствован из вольфианской философии и выражал у Татищева ту неразрешимую проблему, которая возникла при обращении к сложнейшему вопросу о природе сознания. Подобное затруднение испытали философы даже второй половины XVIII века, например, Радищев, хотя он, в отличие от Татищева, уже знал классическое определение сознания как свойства особым образом организованной материи.
Дуалистически ответив на вопрос о сущности души и тела, Татищев, однако, не мог не учитывать очевидных фактов их функционального взаимодействия. Он признал, что душа, во-первых, формируется в процессе жизни, испытывая влияния со стороны человеческого тела и внешних вещей; во-вторых, выступает как активная сила по отношению к телу, но не может себя обнаружить иначе, как “чрез орудия телесные”. Естественно, поэтому Татищев не разделял картезианскую теорию врожденных идей.
Более того, он доказывал, что душа новорожденного неразумна; она лишь в возможности обладает силой ума. Ее разумные способности (“понятность”, память, догадка и суждение) вырабатываются в процессе общения с жизнью, благодаря передаточной деятельности телесных органов чувств, а именно: слышания, вкушения, зрения, ощущения. В результате “внешние человеку вещи душой в понятии представляются”. Таким образом, при объяснении источников формирования сознания в процессе познания Татищев дополняет свой дуализм сенсуализмом в духе локковской концепции. В этих пунктах он отчасти приближается к материализму» (Галактионов, с. 79–80).
При всей предвзятости этого рассказа, он очень показателен. Первое, что из него можно вынести, это ощущение общей скуки от того, чем была философия восемнадцатого века вообще, и в ее попытках рассуждать о душе в частности. Достигается это всего лишь средствами простонаучного языка наших учебников.
За этим видно, что Татищев действительно старается освоить достижения европейской мысли. Он вовсе еще не пытается так и видеть мир, он, скорее, сдает некий экзамен на владение западной философией. Вот поэтому мне и важен рассказ о нем профессионального философа, который тонко видит то, что мы заимствовали у Европы, и не очень ценит собственную часть русского философствования.
Верно ли он видит эти заимствования, можно усомниться, и я уверен, что другой историк оспорил бы мнения Галактионова. К примеру, то, что Татищев спорит с картезианством. Где-то спорит, а где-то следует. Нераздельность души может быть и какой-то мыслью Христиана Вольфа, но это сомнительно. Скорее всего, за нею стоит исходная картезианская предпосылка о непротяженности души. Непротяженная точка не может быть делима.
Но тут я спорить не намерен, меня интересует не философская основа этих мыслей, а то, как они отзывались в общественном сознании. А отзывались они удивительно! Галактионов приводит этому подтверждение, которое, возможно, стоит всего рассказа о Татищеве:
«Добавим к этому, что позднее он (довод о нераздельности души – АШ) превратился в поэтический образ, например у Пушкина: ”Друзья, прекрасен наш союз! Он, как душа, неразделим и вечен”» (Галактионов, с. 79).
Довод о неразделимости души выглядел для людей той эпохи не философским рассуждением, а здравым смыслом или очевидностью. Вот так в русское общество входило первое философское понятие о душе.
И, тем не менее, основа этого понятия, как это отчетливо и однозначно заявлено Татищевым, относится к компетенции религии. Вот исходная часть всех философских построений начала восемнадцатого века.
В середине века, со времени императрицы Екатерины, все изменится. В моду вступит вольтерьянство, а с ним и французский материализм, а потом масонство. Чем объясняются эти увлечения русской аристократии?
Думаю, все той же борьбой сообществ за власть. Уже Петр завез в Россию неметчину. После него русское государство, как во времена варягов, быстро теряет свою русскость. Русским народом правит, условно, немецкая династия. Настолько немецкая, что император Александр восклицает как-то: Да есть ли во мне хоть капля русской крови?!
На самом деле это неверно. Династия не совсем немецкая. Все королевские дома Европы перероднились за века своего правления. В итоге, Европой правит особая нация, которую можно считать «варяжской». То есть чужой по отношению к собственным народам. Иными словами, русскость или немецкость правящего дома определяется не его кровным родством со своим народом, а исключительно проводимой политикой. Это как большая игра, в которой двоюродные братья, а они все действительно были двоюродными братьями и сестрами, играют в войну, разделившись на армии. Предавать собственную армию в игре – это низость. Другое дело, бросить ее, чтобы занять французский престол, к примеру, как это делали польские королевичи!.. Или польский, как делали королевичи французские.
Борьба за власть в России той поры велась между сообществом политических проходимцев, в изрядной своей части немецкого происхождения, и русской родовой знатью. Знать отодвигали и уничтожали, заставляя принять сложившийся порядок. Плохо это или хорошо, я судить не берусь. Возможно, это было единственным выходом для России. Но в отношении философии это означало, что весь восемнадцатый век она была полем сражений за правящее мировоззрение. И старая русская знать в лице духовенства билась за право единовластно говорить о душе.
Война 1812 года объединяет русское общество, и оно вдруг осознает, что за предыдущее столетие родилось новое правящее сообщество, в которое вошли все те, кто хотел участвовать в управлении государством. Сословия, как оказалось, слились в своем стремлении к власти. Они-то и возглавили борьбу против порабощения России. В начале девятнадцатого вдруг становится ясно, что противоречий в мировоззрении этого сообщества больше нет. И тут же происходит всплеск интереса к философии, идущий с обеих сторон. Так творится мировоззрение нового – дворянско-боярского – сообщества России, которое теперь можно называть просто аристократами, то есть благородными людьми у власти.
Для выработки нового мировоззрения, конкурентоспособного в отношении современного европейского мировоззрения, требуется теперь способность философски рассуждать. И русские аристократы тянутся изучать философию и философствовать, а русские богословы стремятся обучать философии. Народ снова един в порыве к собственной силе. В итоге рождается почти единая философская школа, хотя и с двумя ликами, повернутыми в противоположные стороны.
На сердцевину из европейских философских школ самого разного качества надстраиваются поиски собственного русского пути и поиски пути к Богу. При этом обе стороны относятся друг к другу с определенным уважением. Славянофилы однозначно религиозны, хотя и не чужды свободомыслия. А богословская философия никак не выказывает своего неудовольствия их поисками.
Но это будет в следующем веке. А пока о том, как мы к этому шли.
С середины восемнадцатого века Наука, точно почувствовав, что сильной руки Петра больше нет, начинает битву за захват России. Проникновение ее к нам идет в самом страшном из всех возможных обличий – в виде французского революционного просвещения. То есть как раз того мировоззрения, которое более всех было нацелено на насильственный и кровавый переворот существующего государственного правления. Причем, мода на это мировоззрение оказывается столь заразительна, что сама императрица Екатерина переписывается с Вольтером, называя его своим учителем.
Выяснять, какое европейское сообщество сделало из поиска истины и познания мира революционную теорию, способную уничтожить Церковь и тем подорвать опоры монархического строя, мне не хочется. По итогам деятельности просветителей видно, что, благодаря этому, к власти в Европе придет буржуазия, и этого для меня вполне достаточно. Так же как и простого указания на то, что Россия в то время живет иначе, чем Европа, но ощущает себя не иной, а отсталой. Поэтому и заимствует с жадностью все новое, что якобы и составляет славу и силу европейского ума.
Как нам всем известно, приведет это все к той же буржуазной революции, которая в России окажется гораздо более разрушительной, чем европейские революции, и в силу стечения враждебных обстоятельств мы проскочим за слой буржуазии прямо в недра пролетарско-бандитского ада. Наверное, это следствие того, что мы слишком разогнались в своей погоне за Европой.
Что же касается понятия души, то мне придется сделать отступление и кратко рассказать, что думали о душе зарубежные просветители, которых так усердно штудировали у нас в XVIII веке.
Просвещение было вовсе не движением за то, чтобы сделать народ образованнее. Это пропагандистский фокус. Для того, чтобы показать, что правящие классы не заботятся о народе, идеологи набирающего силу сообщества избрали вполне мистический способ нанесения удара. Они обвинили правящее сообщество и его идеологов – Церковь – в том, что они лишают народ света! Какой ход! Совершенно непонятно, что это может значить, но вызывает возмущение прямо из тех глубин души, которые помнят пещерное время. За свет и убить не зазорно.
Естественно, отсюда родились черные метки, которые клеились на спины и двери тех, кто был обречен на вырезание возмущенной чернью: мракобесы!
Однако, простого утверждения, что кто-то лишает тебя света, может хватить лишь на мгновенную вспышку ярости, а вот на подготовку общества к перевороту его маловато. И тогда делается тонкая подмена. Источником света объявляется разум. Это, безусловно, как-то связано с христианским же пониманием Софии-премудрости божией, жены, облаченной в солнце, мистическим понятием Христос-Свет и определением Духа святого как Логоса. Святость для русского языка, по крайней мере, однозначно связана со светом и способностью святого светиться.
Но это вовсе не то же самое, поскольку, что такое разум, не знал никто. А святые светились не от рассудочности. Более того, их «разум» находился в древнем обиталище души – сердце. И святой должен думать сердцем. А просветители перевели место думания в мозг.
Еще ничего не зная о том, о чем сами заявляли, они очертя голову бросились действовать, исходя из своих непроверенных гипотез об устройстве человека. Наполеон вовсю будет применять тот же подход при захвате мира: сначала нужно ввязаться в хорошую драку, а подумать успеем после победы или поражения. За ним его подхватил восхищавшийся этим великим неудачником Ленин, который прямо ссылался на эту наполеоновскую науку терять победы, как на основу своей революционной стратегии.
Ввязавшись в драку, просветители во главе с Даламбером и Дидро тут же начали издавать «Энциклопедию или толковый словарь наук, искусств и ремесел». Как я уже показывал в начале исследования, все перевороты мировоззрения совершаются толковыми словарями, потому что они не могут растолковывать слова иначе, как исходя из какого-то мировоззрения. И нет лучше способа менять мировоззрение, иначе как распространив в народе как можно больше словарей, позволяющих в случае замешательства извлечь понятие и вставить его и в речь и в мышление.
Уже одно это однозначно выводит на вопрос: а что и как должны были растолковывать энциклопедисты? Два вывода очевидны: если ты хочешь захватить власть в обществе, сначала ты должен уничтожить поддерживающую его силу, в данном случае – христианское мировоззрение, а затем внести образы, которые смогут поразить воображение людей, а значит, будут жить в их сознании сами. В сущности, совершенно все равно, что это сознание поразит. И энциклопедисты вовсе не были материалистами сами по себе – они были антиидеалистами! Материалистами они стали просто потому, что это был самый действенный антиидеализм.
Надо отдать европейскому обществу должное – в нем было достаточно много такого, что заслуживало исправления, как это всегда было и в России. Поэтому, когда близкие к энциклопедистам Вольтер или Гельвеций принимались разрушать все, что попадало им под перо, это возмущало, но одновременно находило и отклик в душах. Их не любили, их боялись, но очень часто поддерживали, потому что в чем-то они были и правы. Это «в чем-то» вполне можно было спокойно добавить к существующему мироустройству. И этого было бы достаточно, чтобы мир изменился к лучшему.
Но использование прессы для нагнетания истерии повело к тому, что в 1789 году во Франции произошла резня, подобной которой можно считать лишь русские революции 1917 года. Как говорят сами французы, вместе с грязной водой выплеснули и ребенка…
Но это дела политические, меня же интересует понятие души. Что касается его, то тут мы имеем пример того, как понятия переползают из культуры в культуру, из эпохи в эпоху. Когда Сеченов начинает свои «Рефлексы головного мозга», он скромно заявляет:
«Психическая деятельность человека выражается, как известно, внешними признаками, и обыкновенно все люди, и простые, и ученые, и натуралисты, и люди, занимающиеся духом, судят о первой по последним, то есть по внешним признакам. А между тем законы внешних проявлений психической деятельности еще крайне мало разработаны, даже физиологами, на которых, как увидим далее, лежит эта обязанность. Об этих-то законах я и хочу вести речь.
Войдемте же, любезный читатель, в тот мир явлений, который родится из деятельности головного мозга. Говорят обыкновенно, что этот мир охватывает собою всю психическую жизнь, и вряд ли есть уже теперь люди, которые с большими или меньшими оговорками не принимали бы этой мысли за истину. Разница в воззрениях школ на предмет лишь та, что одни, принимая мозг за орган души, отделяют по сущности последнюю от первого; другие же говорят, что душа по своей сущности есть продукт деятельности мозга.
Мы не философы и в критику этих различий входить не будем. Для нас, как для физиологов, достаточно и того, что мозг есть орган души, то есть такой механизм, который, будучи приведен какими ни на есть причинами в движение, дает в окончательном результате тот ряд внешних явлений, которыми характеризуется психическая деятельность.
Всякий знает, как громаден мир этих явлений. В нем заключено все то бесконечное разнообразие движений и звуков, на которые способен человек вообще. И всю эту массу фактов нужно обнять, ничего не упустить из виду? Конечно, потому что без этого условия изучение внешних проявлений психической деятельности было бы пустой тратой времени. Задача кажется на первый взгляд действительно невозможною, а на деле не так, и вот почему:
Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению – мышечному движению» (Сеченов. Рефлексы, с. 2–3).
В точности как лиса в сказке про то, как у лисы была избушка ледяная, а у зайчика лубяная. Мягко входим, заявляем, что судить о душе не беремся, а просто опишем ее деятельность со стороны проявлений. А описав, вдруг громко кричим: а и нет никакой души, потому что все исчерпывается нашими описаниями движений! Откуда этот прием? Неужто Сеченов его сам придумал?
Ничего подобного, это старая научная традиция, идущая через просветителей, но созданная, кстати сказать, не во Франции. А где, вы можете догадаться, следуя простейшей последовательности мысли.
Если задачей просветителей был захват власти во Франции, для чего требовалось разрушить правящее французское мировоззрение, то где легче всего можно было найти нечто разрушительное и для Франции и для ее мировоззрения, как не у ее исконного врага? В итоге Вольтер вдруг заделался главным пропагандистом и двигателем идей Ньютона, а все французские материалисты старательно разворачивали в своих трудах краткие, но емкие высказывания Джона Локка о природе души. И разворачивали всегда так, чтобы от души ничего не оставалось.
Давайте же прочитаем исходную мысль Локка и сравним ее с Сеченовым. С Локка все начиналось в Европе, с Сеченова – в России. Во Введении в первую книгу «Опыта о человеческом разумении», в первом же параграфе Локк уподобляет разум глазу, откуда и было выведено понятие его светоносной природы просветителями, а во втором, посвященном собственной цели, пишет:
«Так как моей целью является исследование происхождения, достоверности и объема человеческого познания вместе с основаниями и степенями веры, мнений и согласия, то я не буду теперь заниматься физическим изучением души. Я не буду вдаваться в исследования о том, в чем ее сущность, вследствие каких движений души и перемен в нашем теле мы получаем любые ощущения через свои органы чувств или идеи в своем разуме, зависят ли при своем образовании некоторые или все эти идеи от материи или не зависят. Как ни интересны и ни любопытны все эти вопросы, я не буду касаться их, поскольку они лежат за пределами моей задачи.
Для моей настоящей цели достаточно изучить познавательные способности человека, как они применяются к объектам, с которыми имеют дело» (Локк, с. 91).
Это довольно еще туманное рассуждение, призванное сгладить свою разрушительность передт английским обществом, было, однако, однозначно понято и взято на знамя французами. Главное в нем были не слова или мысли, а метод: давайте выкинем душу из рассмотрения и зайдем в изучении человека не с ее стороны, а как раз наоборот – от любых внешних проявлений и будем изучать только их, будто души и нет совсем. Локк изучает со стороны познания, Сеченов – со стороны телесных движений. А французы – со стороны отрицания Декарта, которое звучит в утверждении того же Локка, что в душе нет никаких врожденных идей или принципов. Она – пустая доска, на которую мир пишет себя, как это впоследствии скажут, пером стимул-реакций.
Именно с этого начинает свой «Трактат о душе» Ламетри. Вернее было бы его назвать Трактатом об отсутствии души.
«Ни Аристотель, ни Платон, ни Декарт, ни Мальбранш не объяснят вам, что такое ваша душа. Напрасно вы будете мучиться в поисках познания ее природы: не в обиду будь сказано вашему тщеславию и упорству, вам придется подчиниться неведению и вере.
Сущность души человека и животных есть и останется всегда столь же неизвестной, как и сущность материи и тел. Более того: душу, освобожденную при помощи абстракции от тела, столь же невозможно себе представить, как и материю, не имеющую никакой формы. Душа и тело были созданы одновременно, словно одним взмахом кисти. По словам одного имевшего смелость мыслить крупного богослова (Тертуллиана – АШ), они были брошены в одну и ту же форму для отливки.
Поэтому – тот, кто хочет познать свойства души, должен сперва открыть свойства, явно обнаруживающиеся в телах, активным началом которых является душа.
Такого рода рассуждение логически приводит к мысли, что нет более надежных руководителей, чем наши чувства. Они являются моими философами» (Ламетри, с. 45).
Далее эти мысли многократно перепевались и перетолковывались в «Энциклопедии» и прочих толковых словарях революции. Причем, с явным обращением, все тем же мягким входом к людям религиозного мировоззрения. Вот, как пример, извлечение из Жана Батиста Робинэ о законах связи духа и тела: