Текст книги "Я в степени n"
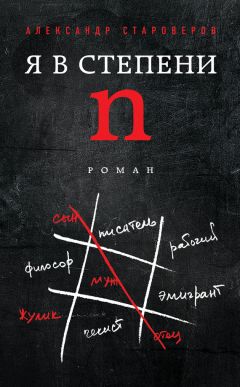
Автор книги: Александр Староверов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Прошлое
В декабре знаменитого тридцать седьмого года в седьмой класс старой московской школы на Воздвиженке, где учился Славик, зашла новенькая. Учительница ее представила:
– Дети, это Маруся Блуфштейн, ее родители переехали из Киева. С сегодняшнего дня она будет учиться с нами.
Славик на новенькую даже не посмотрел. Он сидел на последней парте и увлеченно играл с соседом в фантики. В классе установилась необычная тишина, а он все пытался, негромко хлопая ладонью по столу, перевернуть неподдающийся фантик. Пытался, пока сосед не ткнул его больно локтем в бок и не прошептал горячо на ухо:
– Славик, глянь!
Славик глянул и пропал навсегда. Муся тоже удивленно посмотрела на хулигана, играющего в фантики посреди урока. Славик позорно покраснел и закашлялся.
– Вячеслав, вы в каких эмпиреях витаете? – строго спросила учительница. – Это школа все-таки. Или вам нехорошо?
– Мне хорошо, – глупо, но честно ответил Славик. – А это кто?
Он потянулся обеими руками к стоящей у доски Мусе. Как будто он ребенок маленький, а она – мамка долгожданная, вернувшаяся с работы. Очень смешно получилось. Класс заржал, а Муся, довольная произведенным ею феерическим эффектом, проследовала на указанное ей место.
Это, конечно, реконструкция. Дед, например, утверждал, что он, лишь мельком взглянув на новенькую, продолжил спокойно играть в фантики. Новенькая же, напротив, покраснела от его короткого взгляда и даже глупо чихнула, пораженная его суровой мальчишеской красотой.
Бабушка только смеялась в ответ:
– Да ты тогда, дурачок, со стула чуть не свалился от счастья. Бормотал что-то невразумительное – молился, наверное. Совсем ты, папка, старый стал, склероз у тебя, что ли, начинается?
Дед горячился, говорил, что нет, он точно помнит – продолжил спокойно играть и даже выиграл у соседа по парте замечательный фантик от карамельки. Там еще лебедь такой смешной был нарисован, с оранжевым клювом.
Бабушка смеялась и целовала постаревшего Славика в проплешину на голове. А ему нравилось, и в восемьдесят лет млел он от своей Мусечки, хитрил, доказывал:
– Лапки еще у лебедя были коричневые… В этом и весь юмор – лапки коричневые, а клюв оранжевый.
Муся только громче смеялась и опять его целовала.
…Но тогда, зимой тридцать восьмого года, до поцелуев было еще далеко. Впервые влюбившийся Славик не понимал, что с ним происходит. Новенькая, Маруся Блуфштейн из Киева, повсюду преследовала его. Не в реальности, а в мечтах. Но это было еще хуже. Он делал уроки и вместо легко дающихся ему математических формул видел в учебнике ее мягкие, как бы светящиеся изнутри каштановые волосы. Зашвырнув бесполезные книжки под кровать, он шел на каток – развеяться, а там его встречали удивительные, цвета спелой сливы глаза Маруси. Он, известный на всю Воздвиженку конькобежец, не мог проехать по льду и десяти метров – спотыкался, падал, расшибал нос и колени. Разбивался о следящие за ним глаза, тонул в них, пропадал… Пытался изгнать видение – и не мог.
Славик пугался, ему казалось, что он сходит с ума. Жил себе не тужил, был главарем местной шпаны по кличке Егоза, учился при этом лучше всех в классе. И на тебе – здравствуйте, не ждали! Какая-то Маруся Блуфштейн… Как человек с огромным и негнущимся стержнем внутри, Славик решил сопротивляться. Он дергал Мусю за косички, обзывал ее и всячески третировал. Настоящий советский человек не бежит от опасности, а принимает открытый и честный бой. Если нужно, он даже погибает в бою, но открыто и честно. Погибнуть у Славика не получилось, ничего у него не получилось. Чем больше он издевался над Марусей, тем больше она его преследовала в воображении. Коварная новенькая пробралась даже в сны. И там она вытворяла такое… Он не сдавался, стиснув зубы, еще ожесточеннее глумился над девчонкой. Бил ее портфелем, подкладывал кнопки на стул…
В конце концов Марусе надоело терпеть издевательства, и однажды на перемене, при всем классе, она насмешливо спросила:
– Влюбился, что ли? Так и скажи. Чего дурью маешься?
Страшные слова были произнесены вслух. Обидный и смертельный диагноз поставлен. Весь класс, затаив дыхание, ждал ответа Славика. Сейчас легендарный главарь хулиганов ее отбреет, сейчас он отчебучит такое… мало не покажется. Пауза не затягивалась, а натягивалась, как кожа на барабан. До звона, до хруста… И лопнула! Славик медленно опустил голову и, сильно покраснев, прошептал:
– Влюбился… А что, влюбиться нельзя?
Кто-то злорадно хмыкнул, но тут же подавился смехом. С него станется, с этого Славика, наваляет еще – бывали случаи. Опять стало тихо. Теперь все ждали ответа Маруси. Она не спешила, держала паузу не хуже знаменитых мхатовских звезд. Уже в четырнадцать лет она была женщиной до мозга костей. Что все звезды мира по сравнению с женской природой? Мусор – не более.
Муся молчала долго. И чем дольше она молчала, тем меньше становился Славик. Лилипут с маленькими, пылающими красными ушками перед гигантской королевой. И только когда Славик почти исчез, Маруся без тени иронии, совершенно серьезно и даже сочувственно ответила:
– Почему нельзя? Можно влюбиться. Ты же человек? Люди влюбляются, им можно. Только прекрати вести себя как обезьяна. Обезьянам нельзя. Понял?
Славик покорно и пристыженно кивнул.
– Ну, а если понял – лови! – крикнула Муся, швырнула Славику портфель, не дожидаясь, пока он его поймает, развернулась и не оглядываясь пошла по коридору. Славик поймал, замер на пару секунд, а после радостно и гордо побежал за своей будущей женой и моей будущей бабушкой.
Муся оттопталась на нем по полной! Два года он был у нее в рабстве: таскал портфель, делал за нее уроки, прислуживал и унижался. При этом она не подпускала его близко. Все разговоры о чувствах немедленно пресекала. Милостиво разрешала служить, но не больше. Чего только Славик не делал, однажды даже нырнул в холодную апрельскую Москву-реку за унесенной ветром Мусиной шляпкой. И был забран в милицию, между прочим. Вместо «спасибо» на следующий день Муся заявила ему, что он – клинический идиот и безмозглая обезьяна.
Отчаявшись, дед тайно бросил школу и поступил в артиллерийское училище. Только ради формы – уж больно красивая форма была у юных курсантов. Все девчонки от нее млели. Получив форму и надраив черные хромовые сапоги до блеска, Славик гордо заявился к Мусе домой. Она в это время мыла пол в коридоре коммуналки. Увидев новоявленного курсанта, надутым павлином вышагивающего по невысохшим доскам, она так отходила его грязной тряпкой, что форма пришла в полную негодность. Дед ее, конечно, простил, но как бы условно-досрочно. До самой смерти он вспоминал тот случай с обидой…
– Ну ладно, я сглупил, выпендриться хотел. Но форму-то зачем? Такая форма была, сапоги, сукно, пуговицы, эх…
* * *
Ранним утром 22 июня 1941 года, отгуляв выпускной вечер в школе, Славик и Муся первый раз поцеловались. Днем по радио объявили, что началась война. Славику было шестнадцать с половиной лет, Мусе в июле должно было исполниться семнадцать. Дед, конечно же, сразу побежал в военкомат врать, что ему уже восемнадцать. Он хорошо подготовился. Выждал неделю, отпустил жидкую бороденку, переправил в метрике год рождения. Могло и прокатить, в бардаке первых дней войны и не такое прокатывало. Но его отец, мой прадед Никанор, своим большим и тяжелым старообрядческим сердцем почуял неладное. Выследил сына, поймал прямо в кабинете у военкома, взял за ухо и молча отвел домой. Всю дорогу Славик умолял отца отпустить его на войну. Никанор, будучи бывшим нэпманом и человеком дела, многословием не отличался. Лишь у самых дверей в подъезд, убедившись, что их никто не слышит, он зло прошипел:
– Хватит болтать, дурак, документы я у тебя забираю. Увижу около военкомата, сам пришибу. Гитлеру пулю не придется тратить. Разговор окончен. – И для верности отвесил сыну подзатыльник.
Без документов в Красную армию не брали. Один раз Славика прямо из военкомата сплавили в милицию. Очень уж подозрительный парень. Хочет на фронт, а про документы лепечет что-то невразумительное. Пришлось назвать имя и адрес. Отец забрал его из милиции и, придя домой, первый раз в жизни разбил ему своими пудовыми кулаками лицо. Славик не сопротивлялся, только шептал еле слышно, сплевывая кровь:
– Все равно убегу, все равно…
Ну не мог он, здоровый парень и дворовый заводила, сидеть дома, когда страна переживала такое. Смышленому мальчишке, сыну буржуя-контрика и старообрядца, не все нравилось в окружающей действительности. Но какое это сейчас имеет значение, если вот оно, абсолютное и однозначное, не поддающееся сомнению зло – фашизм. И потом, они первые начали… Для правильного московского дворового пацана последний аргумент, как ни странно, имел решающее значение. Он бы убежал раньше, изобретательный и пытливый ум подсказывал сотни способов обойти бюрократические формальности. Удерживала Муся. Их роман был в самом разгаре. Происходил он в основном по ночам на крышах затемненных московских домов, где они дежурили с ведрами песка, засыпая шипящие и искрящиеся зажигательные бомбы. В перерывах между бомбежками они целовались. В перерывах между бомбежками они смотрели на невиданно крупные в темной Москве звезды. В перерывах между бомбежками они разговаривали. Они узнавали друг друга и глупо радовались этим летним ночам, и войне, и бомбам. Потому что это была декорация их первой и единственной, на всю жизнь любви. Какая разница, какая декорация, а хоть и бомбы, хоть и пламя адское. Любовь затмевает все. Муся не хотела его отпускать. Женщины, они всегда практичнее. Она не говорила – не ходи. Она говорила – подожди. Неделю, месяц, полтора. Женщины, они всегда хитрее, особенно когда любят. Идиллия оборвалась в октябре сорок первого. Получив известия о расстрелах на территории оккупированной Украины, Мусин папа записался на фронт добровольцем. Прежде чем уйти на войну, он договорился об эвакуации семьи в Иркутск. Бабушка умоляла Славика ехать с ними. Он не согласился.
– Я уважать себя не буду, понимаешь? – сказал ей. И она грустно, очень по-женски и совсем по-взрослому посмотрев на него, ответила:
– Понимаю.
На вокзале, в суматохе и хаосе проводов, им даже не удалось толком попрощаться. Плакать и целоваться при родителях Мусе было как-то неловко. Буквально только два слова и успели сказать друг другу.
– Я буду тебя ждать, – пообещала Муся.
– Я не умру, – поклялся Славик.
И расстались. И не виделись около четырех лет. И потеряли друг друга в кипящей военной стране. Но обещания сдержали. Она его дождалась, а он не умер.
* * *
Дед принципиально не любил говорить о войне. Информацию приходилось буквально вытягивать из него клещами. Орденов он не носил, на парады не ходил, ветеранскими привилегиями не пользовался. Лишь 9 мая, с утра, вместо завтрака выпивал стакан водки, не закусывал, а занюхивал кусочком черного хлеба и произносил короткий тост:
– За тех, кто остался там.
После весь день Славик был задумчив. Телевизор не смотрел, только концерты песен военной поры слушал. Особенно любил их в исполнении Гурченко. Совсем под старость, прикрыв глаза, пускал под ее голос беззвучные мелкие слезы. Я приставал к нему в детстве: «Дед, расскажи, чего там, как?» Но он только отшучивался или говорил: «В школе расскажут, они лучше знают».
Я не унимался, просил, умолял, стыдил даже, особенно после уроков мира, когда к нам в класс приходили бравые, увешанные медалями ветераны и лихо вещали о штурме Берлина или обороне Москвы. Мол, вот они – настоящие герои, а где твои подвиги?
Он долго терпел. Но однажды, сочтя меня достаточно подросшим для тяжелых разговоров, не выдержал и раздраженно рявкнул:
– Да какие, к черту, подвиги, Вить? Ты убиваешь, тебя убивают. Вот и все подвиги! Страшно это очень… Война – это когда страшно и убивают. Все, точка. Остальное – вранье.
– Нет, подожди, но ведь они фашисты, они на нашу землю пришли.
– Пришли, не спорю, и убивать их нужно было. Но ничего хорошего в этом нет. Я в штыковую, Вить, ходил. Прыгаю к ним в траншею, а там парень – такой же, как и я. Мне восемнадцать, и ему восемнадцать. Мне страшно, и ему страшно. И на нем не написано, что он фашист. Ни рогов, ни хвоста, ни копыт. Может, он и не фашист вовсе? Может, его заставили? При других обстоятельствах вполне мяч с ним гонять могли бы и вообще дружить. А мне его убить надо, а ему – меня… Смотрим друг на друга и все-все друг про друга понимаем. И не решаемся руку поднять первыми. Вдруг сзади ротный орет: «Коли, твою мать! Славик, коли, в бога душу мать!» И я его заколол. Решился. Хороший подвиг, правда, Витя? До сих пор помню его глаза испуганные. Он не решился в меня шмальнуть, а я решился – воткнул ему штык в горло. И кровь его мне глаза залила. Теплая. Знаешь, какая у человека, оказывается, теплая кровь, даже горячая… Вот такой вот подвиг… Мне медальку за него дали. «За отвагу». Правда ведь, Витя, я отважный? Я отважился, а он нет… Точно отважный. Только кто из нас двоих гад и сволочь – я до сих пор понять не могу. Склоняюсь к тому, что я гад, а он – хороший человек, хоть и фашист. Но он мертвый хороший, а я живой плохой. И ты живой поэтому. Что, романтично? Нравится слушать? Так вот, внучок… Вся война из таких подвигов и состояла. Этот еще один из самых невинных… И говорить о войне я могу только с воевавшими людьми. Они понимают. А с детьми о войне нельзя. Не для того я воевал, чтобы дети наши правду такую знали. Но и не для того, чтобы им всякие ряженые ложь сладкую в уши дули. Решишь еще сдуру, что война – это прекрасно, романтично, весело и благородно. Ни хрена! Война – это страшно и глупо, и снова страшно, очень, очень страшно. И лучше от войны люди не становятся. Даже если дело правое, даже если победили. Не может убийца быть лучше неубийцы. В принципе не может.
Через пару месяцев после этого ошеломившего меня разговора я выпытал у Славика некоторые подробности его военной биографии. Далеко не все, но мне, четырнадцатилетнему тогда, наивному пацанчику, и этого хватило. С тех пор военные фильмы я смотрю с большим трудом, а Девятого мая мне почему-то хочется не радоваться, а плакать…
* * *
В конце октября сорок первого дед прибился к колонне добровольцев, отправляющихся на строительство укреплений под Москвой. В основном подростки и старики. Документов уже никто не спрашивал. Не до документов тогда было. Колонны формировались прямо на улице. Подошел, назвал фамилию, сел в кузов грузовика и поехал.
План Славика состоял в том, чтобы подобраться к линии фронта как можно ближе, а там – как повезет. Ему повезло. На второй день танковая дивизия немцев при поддержке авиации прорвала оборону. И добровольцы, вооруженные лопатами, попали в окружение. Первыми погибли старики, потом те, кто не умел быстро бегать. Потом командир части выдал оставшимся гражданским оружие, и они три недели скитались по лесам. За это время Славик научился неплохо стрелять, а бегал он и раньше хорошо. Самый быстрый конькобежец на Воздвиженке.
Из гражданских выжил он один. Из батальона, попавшего в окружение, – еще тринадцать человек. Когда пробились к своим, командир их группы, тертый дядька, воевавший еще в Испании, спросил у Славика, что он собирается делать дальше.
– Воевать, конечно же, – ответил тот.
– Ну да, – согласился командир, – не к мамке же тебе на кухню после этого. Не сможешь…
Славику выдали форму и накормили. Потом провели к особисту в штаб.
– Не ври, – предупредил его командир, – особенно о возрасте. И не ссы, я уже обо всем договорился.
Больше дед никогда не видел своего первого командира. Прямо из штаба его направили в лейтенантскую школу НКВД под Ленинградом. Девятимесячный ускоренный курс. Пожалел его тертый дядька – в учебку направил, спасти хотел несмышленого пацана. Как лучше хотел. Так Славик оказался в блокадном Ленинграде.
* * *
Дед рассказал мне о блокаде в день своего восьмидесятилетия, незадолго до смерти. Я решил устроить ему праздник. Снял зал в пафосном и дорогом ресторане, позвал немногочисленных родственников и доживающих свой век стариков-друзей. Хороший вечер получился. Немного грустный, но хороший. Старики, робея от окружающей роскоши, сначала неловко прилипли к спинкам удобных кресел, а потом ничего – разошлись. Выпили, стали вспоминать смешные случаи из уходящей жизни. И чем больше они веселились, тем больше я погружался в тоску. Мне стало вдруг очевидно, что пройдет еще несколько месяцев или лет – и они уйдут навсегда. Не хотелось в это верить, а не верить не моглось.
Чтобы окончательно не раскиснуть, я втихаря выдул бутылку «Чиваса». Последние гости уехали около двенадцати. Я оплатил счет, администратор спросил, завернуть ли нам оставшуюся еду.
– Да ну, к черту, – пьяно и лениво ответил я, – выбросите лучше.
– Нет! – заорал дед.
Это был шок. Он не то что не орал никогда, он голос никогда не повышал. Даже в Лужниках, куда брал меня в детстве на матчи обожаемого им «Спартака».
Я удивленно посмотрел на деда. Он медленно подошел к столу, налил стакан водки, выпил. И уже тихо, обычным своим голосом сказал:
– Нет, заверните. Мы возьмем с собой.
И вот тогда он мне рассказал о блокаде.
Однажды они с напарником патрулировали Невский и решили проверить показавшийся им подозрительным двор. Там к ним подошла странная, явно не в себе, женщина.
– Голубчики, родные, помогите, – увидев их, взмолилась она. – Там, там…
На вопросы женщина вразумительно не отвечала, только тянула их за рукава шинелей в парадное. Они пошли за ней, поднялись наверх и попали в огромную пустую коммунальную квартиру. Женщина провела их в комнату. В углу, у печки-буржуйки грелась закутанная в платки маленькая девочка лет десяти. Женщина, не обращая на нее внимания, проворно скинула с себя одежду, осталась голышом и, словно ожидая каких-то действий, замерла. Славик от удивления чуть не выстрелил.
– Вы чего? – по-детски спросил он. – Вы… зачем?
– У вас есть, я знаю, – ответила она.
– Чего есть?
– Еда, паек. Я знаю, у вас есть. Банка тушенки всего…
– Сбрендила, дура! – догадался, о чем идет речь, более опытный напарник. – Дочки бы постыдилась, тварь!
– Я знаю, есть. Ну пожалуйста, – женщина встала на колени и заплакала: – Ну полбанки, я все сделаю! Мы умираем, я все сделаю. Я умею… Ну, три ложки хотя бы…
Девочка в платках равнодушно грела руки у буржуйки. Было видно, что такая сцена ей не впервой. Ее голая мать подползла к напарнику Славика, обняла его сапоги и продолжила причитать:
– Пожалуйста, умоляю, я все сделаю, я умею… мне тридцать один всего, я хорошо делаю… сахарку отсыпьте, пожалуйста…
Когда-то она была красивой, эта голая женщина. Когда-то, но не сейчас. Старуха обнимала сапоги юного курсанта лейтенантской школы НКВД. Сухая и сморщенная кожа, редкие волосы, во рту не хватало нескольких зубов.
– Пошла вон! – брезгливо пнул ее ногой курсант. – Сейчас в расход пущу тебя, шалава! Поняла, тварь?!
– Я поняла, – не обиделась женщина, утирая выступившую на щеке кровь. – Я все поняла, не кричите. Вы такие молодые, хорошие мальчики… Я поняла, старовата я для вас… Правда, старовата, простите меня… Вы Манечку лучше возьмите – она хорошая, свежая. Вы не смотрите, что она маленькая. Она худая просто. Ей тринадцать скоро будет. Мы уже пробовали, я ее научила… Она хорошо сделает, как раз для вас… Манечка, ну что же ты сидишь? Покажи себя мальчикам…
Манечка оторвала руки от печки, встала и механически, без эмоций начала разматывать многочисленные платки. А когда размотала – ее почти не осталось. Маленькое, тщедушное тельце – ребенок семилетний, не больше. Может, меньше…
Славик и его напарник не могли пошевелиться. Это было чудовищно, этого быть просто не могло, но это было…
– Вот животное! – не выдержал я, прерывая деда. – Дочку, сволочь, не пожалела. Скотина! Пристрелить ее надо было в самом деле.
– Пристрелить… – задумчиво повторил Славик произнесенное мною слово. – Наверное, пристрелить – это выход. И насчет животного ты, Витька, прав. Все мы животные. Голод и холод превращают людей в животных на раз. В своей жизни я видел много и того, и другого. Уж поверь мне. Только кто решает, животное ты уже или еще нет? А я тебе скажу: у кого оружие – тот и решает. Ну людоеды, например, – они уже за гранью, не вернуть, хотя и их жалко. Стреляли не задумываясь. А эти – женщина и девочка, – забытые в холодной коммуналке, посреди страшного, погибающего города, посреди войны, посреди нашего богом проклятого мира… Им жить хотелось, как и всем. Мораль, нравственность – все рушится в таких ситуациях. Ничего не остается, ничего не помогает.
– А как же… – спросил я, и дыхание мое сбилось, – как же вы поступили?
– Как, как… как дураки. Ты пойми: мне семнадцать только исполнилось, а моему напарнику немногим больше. Дети в принципе. Куда нам такие моральные проблемы решать? Мы испугались сильно. Попятились к дверям и просто убежали. И не сказали никому ни слова. Единственное, я в коридоре им свой вещмешок с пайком оставил, а напарник мой потом неделю со мной едой делился. Молча, мы даже не обсуждали ничего. Помню, очень хотелось тогда на передовую. Рапорты мы с ним подали, чтобы рядовыми на фронт отправили. Не отправили.
Дед замолчал, достал из внутреннего кармана пиджака заныканную втайне от Муси сигарету. Закурил. Глаза его слезились – то ли от дыма, то ли… Сентиментальным он стал под старость. Я посмеивался над ним, но в тот раз смеяться не хотелось. Хотелось выкинуть из головы свалившееся на меня знание. Не знать. Не понимать. Даже не слышать об этом. Протестуя непонятно против чего – скорее против самого узнанного только что чудовищного факта, я зло прошипел:
– А все-таки сука мать, прав твой напарник. Дочка не виновата, а мать – сука.
– Да? – как-то странно посмотрел на меня сквозь сигаретный дым Славик. – Хорошо. Тогда я расскажу тебе продолжение. Не хотел говорить, но теперь, извини, придется. Раз мать сука…
…Я увидел их еще один раз. Примерно через месяц, когда дежурил поблизости. Не выходила у меня эта история из головы. Каждый день вспоминал их, голеньких, на все и ко всему готовых. И бегство свое позорное вспоминал. Иногда мне хотелось их пристрелить, как тебе сейчас. Советский человек не должен превращаться в животное. Пусть хоть умрут как люди. Но чаще я хотел застрелиться сам. От тоски, бессилия и позора. Эти две несчастные женщины – маленькая и большая – обрушили все мои дворово-советские принципы. Шлюх следовало презирать, а мать-шлюху, торгующую своей дочкой, следовало пристрелить как взбесившееся животное. Но я не мог, я почему-то не мог. Было в них что-то первородное, чему и название подобрать нельзя. И это что-то полностью оправдывало их. И жалко становилось, и стыдно, но не за них, а за себя скорее… Я мучился, я не мог разобраться.
Однажды все-таки решился и зашел к ним. Дверь в квартиру оказалась открытой. Не от кого прятаться, жильцов в доме почти не осталось. Я тихо стоял в дверях комнаты. Они меня не видели, а я видел… Эх, Витька, я видел одну из самых страшных вещей в своей жизни. Не должен человек видеть такое. А я видел. Внешне все выглядело вполне благопристойно. Мать сидела у буржуйки и жарила на сковородке мясо. Мясо, понимаешь? Даже нам, курсантам школы НКВД, жареного мяса не давали. Максимум – тонкие ниточки тушенки в перловой каше, и то не каждый день. Мясо… Я забыл, как оно выглядит, как оно пахнет. А там был целый кусок на сковородке. Одуряющий сладкий аромат заполнил комнату. У меня закружилась голова, я чуть не потерял сознание. Только через несколько секунд я заметил сидящую на полу маленькую Манечку. Она царапала себе лицо, выдавливала крохотными пальчиками свои глаза и страшно, как взрослая, много и тяжело пожившая баба, выла. Мать не обращала на нее внимания, деловито и сосредоточенно жарила мясо. Мне все стало мгновенно ясно. Будь они прокляты, мои интеллигентские метания! Напридумывал себе: первородное, не первородное… Слизняк я, духу у меня не хватило тварь пристрелить. А эта гадина сотворила со своей девочкой что-то страшное. Подложила ее под таких же, как она, зверей и теперь жарит МЯСО. Утробу свою им набить хочет. Но ничего, сейчас у меня хватит духу. Я шагнул в центр комнаты, вытащил пистолет из кобуры и снял его с предохранителя.
– Что, дрянь! Мяска захотела? – заорал я, наводя пистолет на женщину. – Сейчас получишь, тварь, сейчас я твое мяско свинцом нафарширую! Молись, падла! Кончилась твоя сучья жизнь!
Женщина молчала, смотрела на меня прямо, глаз не отводила. И опять я увидел в ее глазах что-то первородное, и опять жалко ее стало. Задохнувшись от злобы на свою мягкотелость, я начал давить на спусковой крючок. Почему-то он очень тугим стал, не дожимался до конца. А она все смотрела, смотрела… Чтобы потянуть и без того почти застывшее время, я обратился к девочке:
– Не бойся, Манечка, все плохое уже позади. Я тебя в комендатуру отведу, и тебя отправят на Большую землю. Я договорюсь, не бойся! Ты только глаза закрой на минутку, а лучше – отвернись, и все плохое закончится.
Девочка перестала плакать, внимательно смотрела на меня, но глаз не закрывала и не отворачивалась. А я не мог, просто не мог при ней…
– Нет! – вдруг закричала девочка. – Нет, дяденька, нет! Это не то! Не надо! Вот, вот, смотрите! – она подбежала к матери и задрала полу ее халата. – Смотрите, не надо, вот, вот…
На правой ноге женщины набухали кровью какие-то тряпки. Я не понимал ничего, я ничего не хотел понимать, я отказывался верить…
– Вот, вот, дяденька, смотрите. – Манечка сдирала тряпки с ноги матери, пачкала руки в ее крови и быстро, по-птичьи, щебетала:
– Вот, смотрите, это она… это ее… я говорила, я умоляла… она для меня… Я бы умерла, дяденька, лучше, а она не послушалась! Для меня… смотрите…
Я смотрел и не видел. Мозг отказывался обрабатывать информацию. Я комнатой этой холодной стал, городом этим измученным, страной этой израненной. Девочкой этой несчастной и ее падшей, но великой, поднявшейся на великую высоту мамой. И только когда эта грешная, святая новомученица, навсегда ставшая с той минуты и моей матерью, и Родиной, и самым страшным воспоминанием в жизни, только когда она растерянно произнесла:
– Вы не волнуйтесь, я фельдшер, я аккуратно. Ножичком…
Только тогда я понял все до конца, и пистолет выпал из моих рук. И я рухнул перед ней на колени и прижался к ее окровавленным ногам. И заплакал… А она гладила меня по голове и тихонечко шептала:
– Бедный, бедный мальчик. Не надо, все пройдет, это просто война… Не надо, не смотри. Тебе, может, умирать завтра. Пожалуйста, не надо…
В сковородке шипело мясо. На моей спине, уткнувшись мне в затылок, рыдала рано повзрослевшая девочка Маня. А я плакал на коленях у нашей с ней Родины, шлюхи-матери. И мои теплые, соленые слезы разъедали ее страшные раны. А ты говоришь – расстрелять…
Дед закончил свой рассказ. В стакан с моим выпендрежным двадцатиоднолетним «Чивас Роял» громко шлепнулась капля. Славик сам меня учил, что здоровые половозрелые мужчины не плачут ни при каких обстоятельствах. Но это были не слезы. Это была капля человека, выдавленная из меня его великой и ужасной жизнью. Оказывается, она и во мне была, эта капля.
Я посмотрел вниз, на стакан, и одним махом опрокинул в себя этот редчайший коктейль из слез. Помогло. Отпустило. Я взял желтую, с печеной старческой кожей ладонь деда и поцеловал ее. А потом устыдился своего порыва и сделал вид, что не поцеловал, а занюхал виски. А потом я его спросил:
– Сколько лет тебе тогда было, помнишь?
– Помню, – просто ответил он. – Мне было тогда семнадцать лет, четыре месяца и девять дней. 18 марта 1942 года это было. Я все, Витя, помню…
* * *
После блокады был заградотряд НКВД под Сталинградом, расстрелы драпающих от немцев своих, депортация чеченцев, Украина, игры с фашистской разведкой, два месяца в немецкой учебке, орден Красной Звезды. Потом что-то связанное с бандеровцами, Польша, какая-то хитрая и удачная интрига с дезинформацией о времени и месте наступления советских войск, еще один орден и наконец – бои в апреле сорок пятого за Прагу.
В начале лета, уже после войны, в качестве очередного поощрения Славик получил полуторамесячный отпуск на Родину. Пользуясь всесильными корочками и приобретенными оперативными навыками, он быстро разыскал Мусю в Иркутске. Ей во время войны пришлось тоже несладко. Впрочем, как и всем. Но ей чуть тяжелее, чем всем. В 17 лет, в чужом и холодном Иркутске Муся неожиданно оказалась главой немаленькой семьи. Младшим братьям в сорок первом было одиннадцать и восемь. Отец ушел на фронт – мстить за расстрелянных родственников. Мать – добрейшей души и кроткого нрава женщина – к суровым военным реалиям была совершенно не приспособлена. Всю жизнь она прожила за широкой спиной лихого буденновца Исаака Блуфштейна, а когда этой спины не стало – совсем растерялась. Много болела, еще больше плакала. Одной Мусиной рабочей карточки не хватало на прокорм семьи. Находились, конечно, доброхоты, предлагали помощь, продукты и покровительство. Но за помощь нужно было платить, а Муся обещала дождаться Славика. И она скорее бы умерла, чем нарушила свое обещание.
После двенадцатичасовой смены на заводе она до утра обстирывала более удачливых соседей. Спала не больше четырех-пяти часов. Когда становилось совсем невмоготу – шла с братьями на толкучку, воровать. Схема была нехитрая. Невероятной, киношной красоты Муся умеренно флиртовала с тающими от вожделения продавцами, а маленькие братики Илюша и Толик тем временем тырили съестное. Много не брали. Там пару картофелин, здесь одну морковку, в следующем ряду – маленький пучок зелени или кривой огурчик. Хватало ровно чтобы не помереть с голоду. Им везло – ни разу не поймали. С тех пор любимой Мусиной присказкой стало – «Везет тому, кто везет». Она везла, как умела, и ей везло…
Только один раз она чуть не дрогнула. От этого случая в семейном альбоме осталась фотография супермена с квадратной челюстью, в красивой американской военной форме. На обратной стороне фотокарточки еле узнаваемыми русскими буквами было написано: «Май любовь Мусья на вечность. Весь твой Джек».
Он встретил ее зимой на улице. Она шла со смены, закутанная в сто тряпок, ничем не отличаясь от сотен других измученных и усталых женщин. Но даже через сто тряпок, через сибирскую ночь и непроглядную метель он ее рассмотрел. Подошел, коверкая слова, заговорил. Муся хотела его послать, но не смогла. Сил не осталось. За два дня до этой встречи они с матерью получили первую похоронку на отца. Всего похоронок было три. Три раза Исаака тяжело, почти смертельно ранили на фронте, и все три раза почему-то высылали похоронки. Третью они читали смеясь – не верили. А вот в первый раз, зимой сорок второго, было действительно тяжко. Одна, с больной, растерявшейся матерью, с маленькими братьями, падающая с ног от усталости и недосыпа. Любимый отец погиб, любимый Славик – неизвестно, жив ли. Одна, совсем одна в этом страшном и темном зимнем мире. И вдруг – красавец американец, нездешний какой-то, свободный, здоровый, веселый, чудом оказавшийся в холодном Иркутске (Джек привозил на военные заводы станки по ленд-лизу), улыбающийся в свои белейшие американские тридцать два зуба. И сильный. Видно, что сильный, к такому можно прислониться. Защитит.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































