Текст книги "РодиНАрод. Книга о любви"
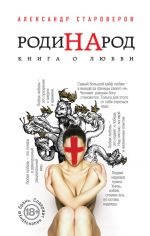
Автор книги: Александр Староверов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Все, хватит сантиментов. Я вижу дверь, за дверью все разгадки. Страшно выходить, но оставаться невыносимо. Не для того я столько пережила, чтобы остаться здесь. Срываю провода, датчики, пластыри и иду… Иду, голубчик, ставлю пожухлые желтые стопы на холодный пол. Одна иду, через силу, на преодолении. Хрустят старые кости, сердце бешено колотится под обвисшей до пояса грудью. Белеют губы, воздух с трудом пробивается в прокуренные астматические легкие. Но иду, упрямо покоряю пространство, властвую над природой, царица ее дряхлая… «По книжкам, пешком, ползком, на зубах». Иду. Руку протянуть к двери сил не остается. Поэтому бодаю дверь лбом, трусь о ручку свисающим брюхом и…
Следующая дверь, вернее, три двери. Коридор и три двери. Направо пойдешь – коня потеряешь, налево пойдешь – меч потеряешь, прямо пойдешь – себя потеряешь. Куда ни пойдешь, потери неизбежны. Выбор, голубчик, вся наша жизнь выбор. Но жизнь учит, что нет выбора, а есть наперстки. И на какой ни укажешь – под ним пусто. Шарик всегда у другого в руке зажат, а шарик другого у следующего, и так до бесконечности.
Не буду мучиться, пойду к ближней двери. Если путь не ясен, надо идти по пути наименьшего сопротивления. Я всю жизнь так жила и… и ничего хорошего не вышло. Нет, пойду к дальней дверце, из принципа. Все, встаю, иду к дальней… Хочется вечно стоять перед дверью. Перед дверью возможно все. Переступишь порог, закончатся возможности и навалится кондовая определенность. Поэтому трудно. Но я сделаю шаг. Я уже его делаю. Смотрите, голубчик, я делаю. Я де…
Бинго! Мы выиграли! Тут человек на кровати лежит. Сектор приз, как в известной игре. Человек – черный ящик. Любой человек – черный ящик. Может, пустышка, а может, ключи от автомобиля. Чаще пустышка, тратишь на человека силы и время, иногда всю жизнь убиваешь, а в результате совершенно ненужная вещь внутри. Но все равно, шансы есть. Лучше, чем ничего. Человек – это всегда шанс. Голубчик, я подойду поближе, если вы не возражаете, ладно? Надо посмотреть, какая карта нам выпала.
Ну-ка… н-да, хреновая карта… Мужик, лет пятьдесят, спит вроде. Рожа бугристая, щеки на плечи растекаются и презрение на лице ко всему сущему. Даже во сне презрение. Эх, мужик, видать плохие сны тебе снятся. Что-то в тебе от Понтия Пилата есть. Трусость какая-то вперемежку с властностью, что ли? А может, я навыдумывала все. И ты, мужик, просто очень страшный внешне, а внутри милейшей души человек. Вы как думаете, голубчик? Что вы говорите… вам так кажется? Не знаю. По-моему, он на меня не похож. Я же красавица патентованная из шлюшечного отдела КГБ. Я красавица со знаком качества, а этот… Хотя, с другой стороны, чувство у меня к нему необычное. Урод уродом вроде бы, а не противно. Даже тянет к нему, поцеловать в лоб хочется и волосы погладить. Вы только не подумайте ничего такого. Очень странно… Тихо, голубчик! Он что-то сказал или промычал. Тихо.
– М-м-м-м-э-а-м…
– Что, милок, что тебе, водички? Я сейчас, мигом, подожди.
Как странно, голубчик, слышать звук своего голоса. Я его тридцать лет не слышала. Какой у меня молодой и звонкий голос, оказывается. Хочется слушать и слушать его. Скажу еще чего-нибудь.
– Ой, господи, а где же кран? Где водички-то набрать? Сейчас, сейчас, подожди минутку, я соображу только.
– Ма-а-а-м-а-а-а…
Мама? Я его мама? Не может быть, голубчик, у меня же нет детей. Абортов много было, а детей не припоминаю. Да нет, это просто фигура речи. Больные часто маму зовут, а умирающие почти всегда. Бьется старик в агонии и перед тем, как дух испустить, – мама – стонет. Это очень правильно, голубчик. Жизнь закольцовывается. Первое слово – мама, и последнее тоже. Между ними еще миллиарды слов. Но все они значат мало. Мама их все перевешивает. Я мама? Нет, ерунда, не заслужила.
– Мама…
Голубчик, он снова сказал… Он открыл глаза, он смотрит на меня. Он узнает меня, голубчик! Он повторяет это слово много раз. Боже мой, неужели…
– Мама, мама, мама, мама. Как хорошо, что ты здесь. Как здорово. Значит, перевезли, значит, услышали, значит, жить буду. Мама, бедная моя, безумная мамочка. Я люблю тебя все равно. Прости меня, прости, пожалуйста.
Я мама! Голубчик, я мама! Я не одна! Господи, спасибо тебе за милость невероятную. Не дал засохнуть ветви своей больной. Пустил из сгнившего корня побег молодой и зеленый. Простил и не проклял. Я мама! Поверить не могу. Я родила человека, а он, может быть, еще кого-нибудь родил, и его дети тоже. Не оборвалась цепь. Надежда на смысл появилась, не здесь, не сейчас, через тысячи лет, может, но появилась. Голубчик, я мама! Вы это слышали? Весть благая, не заслуженная. Я мама! Пускай этого страшного, усталого и, видимо, не очень хорошего человека. Но я мама, и он сказал, что любит меня! Я выздоровела, я воскресла, я больше не сумасшедшая, и я мама. Фу-у-у-у-у, не хватает воздуха, голубчик. Не хватает сил и места в голове, чтобы осознать это – я мама! Я говорю это слово вслух, я пробую его на вкус, и от сладости медовой сводит скулы. Мама, мама… Сын берет меня за руку, он гладит меня, целует, бормочет успокаивающе:
– Мамочка, я люблю тебя, не надо волноваться. У тебя инсульт, у меня инфаркт. Я теперь тоже старый. Тоже старый, никому не нужный человек. Но, мамуля, мы теперь вместе, мы теперь всегда будем вместе. Я тебя к себе перевезу, а Катьке и тестюшке я рты позатыкаю. Сами они сумасшедшие, мы все сумасшедшие, и я сумасшедший. Я ребенка своего не родившегося продал от трусости, представляешь? Не волнуйся, мамочка, я только сейчас тебя понял. Почему ты с катушек слетела тридцать лет назад. Я же знал, догадывался о твоей жизни. Смешно… у меня похоже жизнь сложилась. Теперь я понимаю, мамуля, теперь знаю, с ума сойти – это не самый худший выход, лучший даже. Успокойся, мамуль, не волнуйся…
– Сынок, сыночек, любимый мой… – Я не могу говорить, голубчик. В носу щиплет, в горле разбух и застрял теплый пульсирующий шар. Я падаю на колени, шар в горле взрывается горячими благословенными слезами. Я прижимаюсь мокрой щекой к его бугристому, в рытвинах лицу. Слова прорывают плотину в гортани и текут из меня водопадом.
– Сыночек, любимый, родной, свет мой и солнце, я люблю тебя, любимый, я всегда тебя любила, ты мой… – Господи, я забыла его имя. Вернее, не вспомнила. Голубчик, что делать? Помогите мне. Спасите меня. Я чувствую, что снова схожу с ума, я не хочу… не могу туда снова… помогите… пппп… – Петя! – Я вспомнила. Какое счастье, какое невероятное счастье, я ору его имя, я кашляю и захлебываюсь им, как школьница чистым спиртом. – Петя! Петя!! Петечка!!!
Он вскакивает с кровати, рвутся провода прилепленных датчиков, тревожно пульсирует какой-то зуммер, он обнимает меня, голубчик. Он сажает меня к себе на колени, прижимает мою седенькую головку к своей серой, измазанной йодом, пахнущей лекарствами груди и гладит мои волосы. На меня обрушиваются молочные реки, меня обволакивают кисельные берега. О блаженство безмерное, нежданное, о влага небесная, где размешивается сухой, желчный концентрат жизни, о соки зеленые, о побеги молодые… О, господи! Ты простил меня, ничтожную шлюху. Теперь верю, теперь знаю – простил. Но что это? Кто это, голубчик? Чьи-то руки отрывают меня от Петечки, утаскивают, отталкивают, несут.
– Петр Олегович, ну что вы делаете? Вам же нельзя.
Да, ему нельзя, голубчик, я шлюха, я недостойна продолжиться на этом свете. Ангелы небесные в белых одеждах спустились и укоряют моего сыночка по-отечески, и растаскивают нас в разные стороны. И правильно.
– Мне виднее, что мне можно, а что нельзя. А ну брысь отсюда!
– Но Петр Олегович…
– Я кому сказал, брысь!
Какой он грозный, мой сыночек, какой сильный и могущественный. Ну и ладно, что не ангелы, а врачи, все равно сильный. Видите, как они разбежались? Словно чайки наглые от выпрыгнувшей акулы. Я горжусь им, голубчик, я люблю его… А он обнимает меня за плечи, упирается своей огромной головой мне в лоб, бодается, как несмышленый теленок, и втягивает, с наслаждением втягивает носом мой сладенький старушечий запах. А после он шепчет:
– Мамочка, любимая мамочка, как это получилось? Ведь тридцать лет, тридцать лет ты меня не узнавала. Я тридцать лет не слышал слова внятного от тебя. Тридцать лет ты была моим позором. Я всем говорил, что умерла ты, я иногда и сам так думал, годами не навещал. Прости меня, мамуля, я тебя в психушку сдал, а когда деньги появились, сиделками откупался. Тридцать лет, мама, – это вся жизнь. Вся моя позорная, глупая жизнь. А сейчас, сейчас… Ты что, выздоровела?
– Петечка, не кори себя. Меня не было. Я жила внутри безумной старухи и не знала, кто я, где я, и не помнила ничего, и пробиться наружу не могла. Не кори. Не заслужила я твоих извинений, это ты меня прости, столько хлопот…
Он плачет, голубчик. Большой человек с бугристым лицом плачет, уткнувшись мне в лоб, как ребенок. Плачет и бормочет всхлипывая:
– Не может быть, не может быть, такого не бывает, мне же врачи говорили… не может быть…
Он вытирает об меня пузырящиеся слюни. Сыночек мой, сыночка любимая. Я тоже плачу. Я растекаюсь и плавлюсь от тепла. Впервые за десятилетия мне тепло, голубчик. Хорошо мне. Но вдруг он резко отрывается от меня. Смотрит недоверчиво и резко спрашивает:
– Когда я родился? Дату, дату скажи.
Вы почувствовали, как холодом снова дунуло? И я почувствовала. Не верит, дурашка. Сейчас я ему скажу, успокою. Вы, кстати, не знаете, когда он родился? Нет? А я знаю. Секунду назад еще не знала, а теперь знаю. 21 января 1963 года, в роддоме имени Брауэрмана, на Арбате, в самом центре Москвы. Контора подсуропила по блату. Я очень хорошо вспомнила этот день, голубчик. Можно было и похуже вспомнить. Я так боялась, так не хотела этого ребенка. Я аборт сделать умоляла. Они не разрешили. Игорь Огонь Утробы Моей Сергеевич, капитан уже к тому времени, все популярно объяснил.
– Понимаешь, Пулька, – растолковывал, похохатывая. – Боец невидимого сексуального фронта должен быть способен к деторождению по заданию партии и правительства. Вдруг врага какого прижать ребеночком придется? А врачи говорят, что гарантий после первого аборта дать не могут. Да не волнуйся ты так, будут у тебя еще аборты. Много будет. Ты вообще, Пулька, гордись. Ты же на помолвке нашей залетела. Ха-Ха-Ха. Может, и от меня даже. Но я за авторством не гонюсь. Ха-ха-ха. В любом случае от хороших советских парней понесла. От защитников Родины. Не ссы, парень родится – сыном полка будет. Мы его настоящим чекистом воспитаем. А насчет абортов не переживай, будут еще, много будет от врагов всяких. И вообще относись к родам технически. Оральные и анальные премудрости ты освоила на «отлично». А теперь роды. Учи матчасть, Пулька. Не тушуйся.
Голубчик, они пользовали меня даже беременную. Ну, вы понимаете, есть такие извращенцы, которые с пузиком любят. Под них и подкладывали. В Конторе это называлось «украсить стол фаршированной шлюхой». Теперь вы понимаете, как я ненавидела своего будущего ребенка. Как будто ком вонючей болотной жижи мне в матку запихнули. И он рос там, набухал, сосал из меня все соки и грозил разорвать собою нутро. И, кстати, чуть не разорвал, трудно я его рожала, чуть богу душу не отдала. Двое суток, голубчик, мучилась и проклинала свою непутевую черную жизнь. Крупный мальчик оказался. С большой головой. Она и сейчас у него большая. Вы заметили? Когда вытащили его из меня, окровавленного, скользкого, темно-бордового, я чуть не потеряла сознание. А когда пришла в себя, зашитая, с болью между ног, когда принесли его, отмытого, но все равно буро-коричневого и на человека не похожего, когда вцепился он жадно и больно челюстями в грудь, я решила его убить. Да, да, голубчик, и такое было в моей жизни. Слава богу, он отвел от греха, но на грани была. На грани. Петеньке об этом не скажу. Зачем ему об этом знать? Я просто скажу, просто… скажу, просто…
– 21 января 1963 года. Я помню, сынок. Я все помню.
– Выздоровела… Так хорошо, так вовремя. Я думал, один я, совсем один остался. А ты выздоровела, и я не один.
– И я не одна, сынок. Прости меня за все.
– Нет, это ты…
– Нет, ты..
Падаем, голубчик. Куда-то падаем мы с ним или, наоборот, взлетаем. Теплеет мир и размораживается. И журчат веселые ручьи под солнечными бликами, и снова простой русский парень Юра в космос летит. Мы тоже в космосе с сыночком моим. Мы новые, голубчик, мы невесомые. Мы победили проклятую силу тяжести. Мы сбросили грехи наши и падаем на небо, легонько оттолкнувшись от пошлого прошлого. Человек создан для счастья, как птица для полета. Не так. Для полета создан человек. Полет и есть счастье. Только нельзя в одиночку полететь, парой как минимум, а лучше стаей, а лучше всем вместе, как тогда, 12 апреля 1961 года. На тридцать лет судьба разъединила. Ползли, к земле прижатые, слизывали грязь с земли, сами грязью стали, а сейчас воссоединились и полетели. Какая разница, что было? Летим сейчас…
А сколько времени прошло, голубчик? Почему так темно? Вечер уже или ночь? А я и не заметила. Счастливые часов не наблюдают. Чего следить? Зачем подозрительность? Счастье, оно вне времени.
– Мам, мам, а ты помнишь, как ты мне в Олабушево жвачку привезла? Ну, румынскую, такую, в виде сигарет. Каждая жвачка как сигарета. Вблизи не отличишь, я ходил, еще так гордо во рту держал, как будто курю. За мной воспиталки гонялись по всему детдому. Ну, тебе жаловались потом еще. Целый скандал вышел.
Детдом? Голубчик, мне послышалось, или он сказал «детдом»? Я сирота, своего сыночка единственного в детдом сдала? Я, лишняя на земле девочка, у которой отняли найденный в грязи хрусталик, свою кровинушку им… туда… в ад? Как…
– Чего, правда не помнишь? Смешно же было… ты еще директора матом послала, когда он блажить начал, а я гордился тобой сильно…
– Сынок, я не помню. Расскажи мне.
– Совсем ничего не помнишь?
– Почти не помню. Ты расскажи, я вспомню обязательно.
– Не надо, мам. Тяжело это и грустно. Давай лучше я тебе расскажу, как мы в Пицунду с тобой ездили или на пароходе по Волге в Астрахань в восьмом классе?
– Все расскажи, я должна знать.
– Уверена?
Уверена ли я, голубчик? Я ни в чем не уверена. Мне страшно, мне опять страшно. Я снова стою перед очередной дверью и догадываюсь, что ничего хорошего меня не ждет. Грехов уйма за спиной, а впереди еще больше. И хочется мне, голубчик, спрятаться и никогда не входить в дверь. И застыть навечно на излете счастья. Но не могу, я уже спряталась однажды и тридцать лет провела внутри безумной старухи Пульхерии. Надо быть смелой. Это единственное, чему меня научила моя глупая жизнь. И поэтому я скажу ему… вот сейчас соберусь с силами и скажу… сейчас…
– Уверена!
– Ну, если хочешь ворошить наше благоухающее прошлое, если поможет это тебе… Ладно. Я не знаю, с чего начать, наверное, с первого воспоминания. Но я даже не уверен в его реальности. Уж больно оно в жилу. Вот если бы хотел я придумать эпиграф к моей дурацкой жизни, лучше бы и не придумал. А может, я и в самом деле придумал. Ты мне скажи, если вспомнишь. Всю жизнь меня вопрос мучает. Было или не было?
…Я маленький, я очень маленький, почти не хожу, но ползаю хорошо. Я лежу на тебе, мама, ты такая мягкая, теплая, всюду страшно, холодно и сухо, а на тебе как на облачке пуховом. Не знаю, как объяснить. Вот будто бы бродишь ночью по зимнему лесу. Заплутал, устал, продрог, и уже совсем помирать собрался и отчаялся, и смерть уже избавлением кажется. Но вдруг видишь сквозь деревья домик, и окошко у него горит уютным желтым светом. Заходишь в домик, а там печка сказочная говорящая и печет пирожки с капустой. «Иди ко мне, родненький, – говорит печка. – Я тебя обогрею, накормлю, спать уложу». – И подхватывает тебя, и укладывает нежно, в перины мягкие укутывает. И лежишь ты, разомлевший, успокоенный, горячим духом пирожков пропитываешься.
Видимо, все дети маму так воспринимают. Интуитивно чувствуют враждебность и жестокость окружающего мира и жмутся к мамке, к единственному однозначно любящему их существу. Помнишь, как я любил сосать сиську? Ты рассказывала, оторвать невозможно было. Жрал как подорванный. Неправда, мам. Я помню, есть хотелось не очень. Просто когда я мутузил твой сосок беззубым ртом и падали сладкие белые капли на язык, чувство защищенности увеличивалось в разы. Блаженство наступало. Секс – бледная копия того блаженства, это я потом понял. Искал даже кормящих мамочек, приникал к их дойкам, назад в рай пытался вернуться. Бледное подобие, противно даже. Не берут в рай грешников. Но это я так, к слову. Просто очень страшно вспоминать, вот и растекаюсь мыслью по древу. Но я скажу, я давно хотел сказать, мама. А ты мне скажешь, придумываю я или нет. Мне это очень важно, мам…
Голубчик, неужели он видел? Боже мой, он видел. Как же так, он совсем маленький был. Не могут такие маленькие… Господи, пожалей! Я умоляю, смилуйся…
– Я помню, как лежу на тебе, постанываю от удовольствия, головой верчу, щечками к груди прижимаюсь, засыпаю почти что. Нечаянно приоткрыв в полудреме сонные глаза, я просыпаюсь, и… Огромная лохматая голова впилась в соседнюю грудь. Я не могу охватить взглядом всю голову, я утыкаюсь в нее, как в стену. Губы на голове растягиваются длинными червяками и сосут молоко. Над губами черная царапающая тебя щетка. Жесткие волосы оставляют красные, ломаные следы на коже. Сначала я пугаюсь, что этот страшный, чужой зверь тебя сожрет. Потом я злюсь, и мне хочется закрыть тебя собою. А потом мне становится очень обидно. И оттого, что я маленький и не могу сопротивляться, и оттого, что эта страшная зверюга жрет МОЕ… МОЕ… МОЕ!!! А еще обидно, потому что я слышу твой такой родной, такой ласковый и привычный смех. «Маме приятно», – думаю я. Представляешь? Мне кажется, я уже тогда умел думать. «Маме приятно, что чужая зверюга пьет МОЕ, а может, она не чужая, может, это ее новый сыночек? Может, я чужой?» Я выплевываю сосок изо рта, встаю на четвереньки, запрокидываю головку, пытаюсь заглянуть тебе в глаза и ору что есть мочи: «Мама-а-а-а-а-а-а-а-а!!!»
Он запомнил, голубчик, невероятно, но он запомнил! Год и два месяца. Не бывает такого, а случилось. Мне стыдно. Мне хочется снова сойти с ума. Ум горький, как сгнивший грецкий орех. Я хочу выплюнуть этот ум и долго полоскать опоганенный рот. Не получается. «По книжкам, пешком, ползком, на зубах». Я выдержу…
…Игорь приходил ко мне часто, инструктировал, давал задания, наводил на цели, ну и потрахивал по инерции. Думаю, ему психологи гэбэшные объяснили, что нужно укреплять связь с агентессой и таким способом. А я его по инерции любила. Придумала себе, что он отец Петечки, что Родине служу шлюхой из любви к отцу своего ребенка. Оправдывалась, вроде как, классический случай, у каждой шлюхи должен быть свой кот. Мы не стеснялись. Что может понять годовалый ребенок? Да прямо при нем, голубчик. При Петечке. Игорь любил мое молочко. Трахал и сосал. Может, тоже хотел рай потерянный вернуть? Несчастным он был по-своему. Все люди на земле несчастны, голубчик…
С кем не бывает? – скажете вы. Правы, как всегда правы. Миллионы родителей при детках годовалых шалости различные себе позволяют. Правы вы, как всегда. Вот только однажды… Господи, сделай так, чтобы он не запомнил это «однажды»! Я прошу тебя, сделай! Меня мучай, жги, в ад, куда хочешь, а его пожалей… Однажды Петенька сильно разорался, а я хотела его успокоить, и еще мысль дурацкая возникла… Я до сих пор не знаю, зачем я это сделала. Шутила, что ли? Или нервы себе щекотала, или Игоря хотела привязать таким дурацким образом? Не знаю. Но я положила Петеньку на живот своего куратора, головой к его торчащему члену, и улыбаясь сказала:
– Смотри, Петюня, какая у папки дубинка есть. Ты поиграйся с ней. Смотри, какая большая, красивая. Он этой дубинкой тебя сделал.
Господи, не меня пожалей, его… Первое воспоминание. Не должна у человека жизнь так начинаться. Кем же он вырос тогда? И это я его таким сделала. А-а-а-а-а! Разорвусь сейчас, не выдержу! Голубчик, помогите мне, попросите ЕГО за меня. Я шлюха и мразь, меня ОН не послушает. А вы, хоть и выдуманный, но хороший человек. Попросите, пожалуйста, что вам стоит…
Вроде бы молчит. Может, пронесет? Молчит. Минуту уже молчит… Пронесло вроде. Спасибо, господи. Спасибо вам, голубчик. Это благодаря вам…
– А еще, мамуль, мне кажется, что я увидел между ног этой зверюги… Мне кажется, я его даже трогал. Мне очень страшно было, но я касался его, мама. Я думал, он убьет меня этой палкой, я думал, он тебя убьет, но я касался, упрашивал ее, задабривал. Не убивай…
Ох, как плохо… ох, как стыдно… ох, не могу жить. Ох, ох, ох. Спрячьте меня, голубчик. Спрячьте. Кто-то смотрит на меня, кто-то жжет меня своим взглядом. Ох, ох, ох… Стыдоба. Сжимаются извилины и вытягиваются в иглы острые и колют меня больно. Ох, ох…
– Вот такая история, мам. Вот таким я себя первый раз запомнил. Всю жизнь от этой палки бегу. Доказать себе что-то пытаюсь. Спрятаться от нее. Бей первым, Фреди. Унижай первым, Фреди. Предавай первым, Фреди. Все делай первым, Фреди, а то попадешься, а то с тобой это первым сделают. Чушь, конечно, фрейдистская. Выдумки, враки, оправдания. Я понимаю, но все-таки хочется знать: было или не было?
Ох, ох… что же делать? Разбежаться и в окно прыгнуть, или соврать, или сказать? Голубчик, подскажите. На вас вся моя надежда. Вы хороший выдуманный человек. А я тяжело соображаю сейчас. Иглы в голове выворачивают мозг. Ох… ох… ох…
– Было, сыночек. Если ты не поймешь, я пойму. Я сама не понимаю, как… но было.
Сказала, голубчик. Как язык повернулся, не знаю. Будь что будет. Сказала… Что это? Как это? Он обнимает меня, он гладит, он шепчет мне на ухо нежно.
– Спасибо, мам. Я понимаю. Спасибо за правду, я всю жизнь мучился. Думал, сам по себе таким гадом уродился. Выродок, урод. Не сам. Задатки имелись, вины с себя не снимаю. Но не сам.
– Прости меня, Петенька.
– А не за что, мам. Я тебя не виню. Я взрослый дядя, я жизнь прожил эту паскудную. Я все знаю. Ты ведь тоже не сама, тебя тоже такой сделали. Мы все гениальные скульпторы, мы все лепим друг друга. Берем кусок говна и отсекаем все лишнее. В смысле, не говно отсекаем. И получается шедеврально. Мы с тобой получаемся.
Ох, какой умный у меня сыночек вырос. Вы видите, голубчик? Умный, но несчастный очень. Умней меня и несчастнее. Ох, как жалко его. И я сама, сама виновата, без меня лучше бы он был. Я помогу ему, голубчик. Я должна помочь. Забыть себя и помочь…
– Петенька, что же ты говоришь такое? Ты прости меня, дуру старую. Это я во всем виновата. Я тебе жизнь сломала. Но люди не такие. Есть хорошие. Мы все хорошие, а иначе почему мучаемся? Отсекаем, отсекаем лишнее и никак отсечь не можем. Все равно остается что-то. Значит, не лишнее, Петенька, значит, другое лишнее, а это нет…
– Да, мамуль, странно. Как в присказке: пускай у тещи все зубы выпадут, но один все-таки останется. Для боли. Не знаю… Говорят, Гитлер собак любил. Вот Гитлер, казалось бы, а любил. Даже я, похоже, Пылесоса люблю. И тебя.
– Какой пылесос, Петенька, ты что?
– Да это так, не обращай внимания. Долго объяснять.
– А ты расскажи, сыночек, все расскажи с детства. Ты говоришь, а я вспоминаю. И тебе легче становится.
– Правда легче, мам? Я в бога не верю, не исповедовался никогда. А может, это он в меня не верит. Неважно. Мне правда легче. Но тебе-то тяжелее, я вижу. Ты все, что у меня осталось. Да и рассказывать особенно нечего. Все, как у людей, по-человечески, по-паскудному. Как принято в мире нашем. Может, не надо?
Голубчик, так хочется крикнуть «не надо». Так хочется зажать уши, спрятаться и исчезнуть. Но я не зажму, и не потому, что далеко зашла. Теперь это не имеет значения. Я чего, я свое уже отжила. Не исправить уже. А вот Петенька, это единственное, что смысл имеет. Ему можно еще попытаться… еще есть надежда. И я попытаюсь. Он мой сын, моя кровь, мое продолжение. Я попытаюсь, голубчик!
– Ты должен, сынок. Говори. Я выдержу.
– Да ладно, мамуль, не переживай так сильно. Если ты о детстве, не переживай. Детство как детство, и хуже бывает. До четырех лет я дома сидел. Сытый, обутый, одетый, ухоженный. Все время какие-то бабки, няньки, дядьки. Ты в командировки часто ездила. Уж не знаю куда. Но зато когда возвращалась, это был праздник. Горы подарков, игрушек, смех, счастье. Помню, мы с тобой в парк культуры ходили, дядя Игорь нас на лодочке по прудику катал. А потом вы шашлыки ели, а я огромный ком сладкой ваты и газировку вкусную пил. И солнышко так светило, прудик бликами покрылся и отливал серебром. Я хорошо помню этот день. А куда, кстати, дядя Игорь делся, не знаешь, он даже ко мне в детдом приезжал, шалости мои улаживал, а потом исчез куда-то. Лет с четырнадцати я его не помню. Он куратор твой, что ли, из Конторы? Я в третьем классе догадался. Я умненький мальчик был, сообразительный. А если ты насчет детдома волнуешься, то зря. Хороший детдом был. Элитный, как бы сейчас сказали. Вроде английского пансиона. Многие мои знакомые деток сейчас в такие за большие деньги отправляют. И не детдом вовсе, а интернат, для сотрудников КГБ, находящихся в длительных командировках. И английский нам преподавали, и музыке учили, и карате, и шахматы, и патриотизм воспитывали. Вот только первое время тяжко было. Привезла, помню, ты меня в Олабушево, завела в красивый домик из желтого кирпича, сунула в руки оранжевую пожарную машину и велела побыть со строгой тетенькой в белом халате. Сказала, через пару часов вернешься. И я ждал, спокойно сначала ждал, машинкой пожарной играл, даже покушал послушно, погулять сходил. Напрягся, когда других детишек увидел. Заподозрил что-то. Ты меня часто с чужими людьми оставляла, но чтобы сразу столько много детей вокруг, не бывало. Я ждал, а ты все не возвращалась и не возвращалась. Тогда я подошел к тетеньке, указал на круглые часы на стене и спросил: «Где будет стрелка, когда два часа пройдет?» А она улыбнулась странно и ответила, что два часа пройдут через год. Я не знал, что такое год, но успокоился. Точный срок назвала, юлить не стала. Только когда темнеть начало, я снова подошел к тетеньке и поинтересовался, не прошел ли год. А она ответила, что надо идти спать. Вот утром год как раз и закончится. Совсем страшно стало, но истерики я не устроил, снова покорно пошел за ней, улегся в кровать и даже глаза зажмурил по ее просьбе. А потом полночи плакал под подушкой. А потом заснул и описался во сне. Утром тетенька выставила меня на середину спальни и стала отчитывать. Что вот взрослый мальчик, сын защитницы Родины, а ссусь в кровать, как барчук недобитый. Я слушал ее и думал, почему, если моя мамочка смогла защитить Родину, она меня не сумела защитить и засунула в это враждебное место, к тетеньке в белом халате и детям с недобрыми глазами. Когда воспитательница ушла, дети сдернули с меня трусики, начали смеяться и пинать ногами. А воспитательница их не отругала, ей нужна была дисциплина. Дети они злые, мам, сама знаешь, особенно когда их много. Сложно ими управлять, понять можно. Ну, поколачивали меня первое время, а потом надоело всем и оставили меня в покое, но еще очень долго я плакал по ночам. Даже днем иногда убегал на полосу препятствий во дворе нашего красивого желтого домика, прятался в неглубоком, вырытом в бурой глине окопчике и плакал. Если кончались слезы, я пел, не понимая смысла, жалобную военную песню про гармониста, играющего старинный вальс «Осенний сон». «С берез, неслышен, невесом, слетает желтый лист…» Вспоминал тебя и снова плакал. А потом привык. Разобрался, что к чему, примкнул к сильным и сам начал новеньких поколачивать. И даже писаться перестал. Да не расстраивайся ты так, мам, хороший детдом был. Я на полном серьезе. Кормили отлично, фрукты зимой, спортом заставляли заниматься. А школа жизни какая? Я про жизнь многое еще там понял, в Олабушево. Помогло после сильно. Английский опять же выучил в совершенстве и французский неплохо. А потом ты же приезжала: иногда каждые выходные, а однажды на полтора года пропала. Но я все понимал. Нам популярно про работу родителей объясняли. Не хухры-мухры, бойцы невидимого фронта, защитники Родины. Мы даже пару раз каникулы вместе провели. Я был так счастлив, особенно в Пицунде, когда море и сосны увидел, и тебя, после года разлуки, молодую, красивую очень. Очень, мам, красивую. Я так гордился тобой, я так тебя любил. Я и папу любил. Ты мне сказала, что его зовут Егор, и что он на задании в глубоком капиталистическом тылу. Однажды я спросил, как его настоящая фамилия. А ты замялась немного и шепнула на ушко таинственно, что фамилия его Исаев и он генерал. Я разболтал, конечно, дружкам по секрету, не выдержал. Очень я папу любил… пока в тринадцать лет Штирлица по телику не посмотрел. Но это ерунда. У Вовки Шеремета, например, до двенадцати лет папа майором Вихрем был. Обычная история у нас в Олабушево. Хороший детдом, грех жаловаться. Хуже стало, когда тебя в силу возраста поперли с оперативной работы и пристроили в «Интурист» возить группы советских граждан за рубеж. Вот когда забрала ты меня из Олабушево в квартирку на Патриарших, тогда стало действительно хреново. Побухивать ты начала внезапно. От тоски по шпионской романтике, я думаю. И образ твой светлый меркнуть у меня стал постепенно. Особенно когда из «Интуриста» тебя за пьянку уволили, и ты пристроилась в занюханное бюро переводов. Денег мало, работа с девяти до шести. Обычная унылая совковая жизнь. Это я тебя сейчас, мам, понимаю, самого жизнь покидала по углам темным и пыльным, а тогда… Мне шестнадцать, юношеский максимализм. Мать святая мадонна – защитница Родины, на фоне зеленых сосен Пицунды и синего моря. Женщина-праздник, с горою подарков за плечами, загадочная Мата Хари и отважная Зоя Космодемьянская в одном лице. Вот какой ты была для меня. И вдруг… Алкоголичка, засыпающая в собственной блевоте, а утром испуганно вскакивающая по звонку будильника, чтобы не опоздать на копеечную, тоскливую работу. Диссонанс, мам, этот, как его… когнитивный. Всегда, кстати, мечтал узнать, что это красивое слово значит. Ты не в курсе, случайно? Ну и ладно. Самое мерзкое, мам, что ты срывалась не только на почве алкоголя. После многодневных загулов ты вдруг вспоминала о своей былой неотразимости, и у нас в доме появлялись многочисленные мужики. Мне кажется, ты это делала за деньги. Да я почти уверен, а иначе на что бы мы жили, когда тебя и из бюро переводов вышибли? Падение было стремительным. Сначала у нас в квартире мелькали интеллигентные переводчики в твидовых пиджачках с букетиками из трех гвоздик и бутылкой «Советского полусладкого шампанского», потом плохо промытая волосатая богема в тертых джинсах с пузырем «Агдама», и наконец, совсем откровенные вонючие бомжи с лаком для волос и тройным одеколоном. Мама, я видел, как тебя… я много раз видел. Я дрался с синюшными алкашами, я бил в землистые темные рожи бомжей. Я хватался за ножи и выгонял их из нашей квартиры в помпезной сталинке на Патриарших. Я подружился с участковым и задаривал его остатками былой роскоши, привезенной тобой из загранок. А ты кричала, чтобы я не путался под ногами, что ты шлюха, и в Конторе работала шлюхой, и помрешь шлюхой, потому что это твое призвание и жизненное предназначение. Быть шлюхой, шлюхой, шлюхой! Я смирился в конце концов. Я ненавидел Москву, я тосковал по красивому домику из желтого кирпича в Олабушево. По злым детям, строгим воспитательницам, по карате, по английскому, по музыке и патриотизму. Я убегал на проклятые Патриаршие пруды и часами ходил вокруг прямоугольника с зажравшимися лебедями. За два года я повзрослел на двадцать лет. Мой полуразрушенный детский мир разрушился окончательно. Я крал мятые рубли из карманов твоих спящих друзей-алкоголиков. Моей первой женщиной стала спившаяся бомжиха, откисавшая у нас в квартире после многодневного запоя. Я ненавидел женщин, мужчин я ненавидел тоже. Сказать, что я был циником, не сказать ничего. Единственным человеком, которого я любил, была ты, мама… Несмотря ни на что. Иногда я воображал, что ты на секретном задании и по легенде тебе нужно быть спившейся шлюхой. Как Шерлок Холмс на лондонские дно опускался, не помню, уже в какой повести. Если он мог, то и ты, наверное… Представляешь, я на полном серьезе думал так. После всего… Вот как я тебя любил, мама. И, знаешь, я не жалею ни о чем. Ты самая лучшая мама на свете. И ты всегда любила меня. Хотя и орала, напиваясь, что отец мой – групповое изнасилование, а мать – грязная шлюха. А потом ты орала, что у всего нашего мира родители такие, у всего нашего долбаного мира! А потом ты плакала и просила прощения, что не пошла на аборт. Я знаю, мама, тебе было очень больно. Ты делала для меня все, что могла, вот только боль победила. Я лишь одного не понимаю. Зачем ты меня надоумила в МГИМО поступать, я же в кооперативный институт собирался, к торговле поближе, куда мне до МГИМО, сыну шлюхи и безотцовщине? А ты, пьяная, трезвая, с похмелья, какая угодно, постоянно твердила: «Иди, иди в МГИМО, зайди в первый отдел перед экзаменами, тебя возьмут, я знаю, только не забудь в первый отдел зайти, скажи, что Родину любишь, готов содействовать, иди…» Всю плешь мне проела. Ну, я и пошел, для хохмы. И меня взяли…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?





































