Читать книгу "Троя против всех"
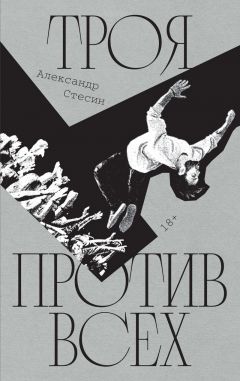
Автор книги: Александр Стесин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
«Дэмиен? Очень приятно, я Синди. Прошу прощения, что не приехал раньше. Я был на юге, в Лубанго, ездил туда на машине. Большая ошибка. Обратный путь занял втрое дольше, чем предполагалось. Из Лубанго в Бенгелу, а оттуда через Южную Кванзу обратно в Луанду. Везде блокпосты, дороги в ужасном состоянии. При таком количестве иностранных инвестиций могли бы уже привести в порядок. Вы голодны? Нет? Продержитесь до ужина? Вот и хорошо».
На улице перед отелем мы застали шумное действо. «Здесь вечно что-нибудь празднуют, – пояснил Синди. – Скоро привыкнете. Что ни день, какой-нибудь локальный праздник с кизомбой2828
Кизомба – традиционный ангольский стиль музыки и танца.
[Закрыть] и угощением прямо на улице. Фунж и муамба2929
Муамба – пальмовый соус, в котором готовится курица или мясо.
[Закрыть] в котлах и так далее». При ближайшем рассмотрении действо оказалось показательным выступлением учеников студии «Капоэйра Луанда». Ученики – черные, белые, мулаты – демонстрировали бразильское боевое искусство под перкуссию и песнопения – скорее в африканском, чем в бразильском стиле. Один из участников выступления – судя по всему, тренер – подошел ко мне и по-английски спросил, откуда я приехал. Я с готовностью ответил отрепетированной португальской фразой: «Эу соу душ Штадуз Унидуш»3030
Я из Соединенных Штатов.
[Закрыть]. Этот ответ почему-то очень позабавил ангольца. Есть такой тип африканского лица: оно кажется суровым, может, даже неприятным, пугающим – до тех пор, пока ты не увидишь его расплывшимся в улыбке. И с того момента, как возможность улыбки проявит себя, лицо навсегда преображается и кажется уже не суровым, а просто выразительным и по-своему красивым. Мне запомнилось лицо тренера капоэйры. Я подумал, что в окружении таких лиц, пожалуй, можно будет жить.
Потом мы долго кружили по городу, стояли в пробках на каких-то больших улицах и, кажется, доехали до самой окраины. Я в очередной раз отметил, насколько окраины всех мегаполисов похожи друг на друга: всё те же граффити на виадуках и гаражах, подъемные краны, уродливые здания складов. Были и чисто африканские приметы: бесконечные ряды палаток, заменяющих африканцам магазины; продавщицы, несущие свой товар на голове или раскладывающие его прямо на земле, на обочине; битком набитые бело-голубые кандонгейруш и тарахтящие купапаташ3131
Kupapata – мототакси.
[Закрыть]. Хижина-клиника традиционного целителя, курандейру, чьи снадобья «избавляют от сглаза, порчи, ревматизма и импотенции». Перечень услуг и прейскурант были выведены на саманных стенах этой лечебницы; недуги, от которых предлагают избавиться, наглядно проиллюстрированы незамысловатыми картинками. Тогда весь этот непривычный местный колорит наверняка поразил меня, но впоследствии, вспоминая первую вылазку в город, я обнаружил, что не помню своего тогдашнего удивления, а помню только то, как все увиденное сливалось воедино. От Алваладе до Кинашиши, через Сидад-Байша, по Маржиналу…
В какой-то момент мы очутились на Илья-де-Луанда («Когда не знаете, куда вам ехать, езжайте в сторону Ильи – вот правило, которое здесь знает каждый»). Пили виски со льдом под обвитым бугенвиллеями навесом в «Кафе-дель-Мар», глядя, как дети на пляже пускают воздушного змея. При ближайшем рассмотрении змей оказался триколором одной из европейских держав, сорванным, по-видимому, с посольского флагштока. Синди сообщил, что воздушный змей у ангольцев ассоциируется с каким-то мифическим предком, умевшим летать, точно птица, и что, согласно одной местной легенде, море было создано Творцом, чтобы служить зеркалом этому летучему прародителю.
Пока Синди рассказывал, я заметил, что за нами следят. На минимально почтительном расстоянии от нашего столика стоял оборванец лет двенадцати. С точностью опытного официанта определив тот момент, когда клиент сыт, он двинулся по направлению к Синди, обнаруживая при этом сильную хромоту – видимо, следствие перенесенного в детстве полимиелита или еще чего-нибудь, чем в Америке давным-давно не болеют. «Terminou?»3232
Закончили?
[Закрыть] Синди еле кивнул и, не глядя на попрошайку, отодвинул к краю стола тарелку с недоеденным битоком3333
Bitoque – бифштекс с глазуньей сверху.
[Закрыть]. Парень подставил нижний край футболки, одним движением сгреб в него все остатки пищи и заковылял прочь.
Когда стемнело, мы вышли на набережную, где воздух то и дело прорезали летучие мыши, и Синди принялся пересказывать другую местную легенду. Однако в ходе пересказа выяснилось, что это не легенда, а философский трактат, написанный известным философом из Румынии, нет, из Сербии. Словом, откуда-то из Восточной Европы. Трактат назывался «Каково быть летучей мышью?». Синди не помнил толком, о чем там шла речь, но это не мешало ему блистать эрудицией перед новым подчиненным. «Каково быть летучей мышью? – вдохновенно вопрошал Синди. – А медузой? Каково быть медузой? А воздушным змеем? Если человек никогда не задается подобными вопросами, значит, этому человеку попросту не хватает воображения, чтобы испытать священный ужас перед полнотой мироздания. Вот о чем писал философ из Сербии. К сожалению, я запамятовал его имя»3434
«Каково быть летучей мышью?» – знаменитое эссе Томаса Нагеля, американского философа сербского происхождения. Содержит рассуждение о нередуцируемости субъективного опыта (например, невозможности постижения человеком субъективного смысла эхолокации). То, о чем говорит Синди, не имеет никакого отношения к теме эссе.
[Закрыть]. Слушая разглагольствования моего нового начальника, я думал, что на него, по-видимому, будет нелегко работать. Думал и о том, что, как только Синди отвезет меня обратно в гостиницу и я останусь один за столиком у бассейна, мной наверняка снова овладеет ужас – не священный, а самый обыкновенный, ужас человека не на своем месте, не знающего, где его место. И что с этим ужасом надо как-то учиться жить.
***
Первое время после рождения Эндрю мы жили в Виллидже, рядом с пересечением Макдугал и Западной Четвертой. Вместо того чтобы выйти в декрет, а по истечении оплачиваемого срока уволиться, как делали многие из ее сотрудниц, Лена уволилась с работы на шестом месяце беременности. «Не могла подождать два месяца? – пенял я ей в пылу семейной ссоры. – Сейчас бы точно так же сидела дома и получала бы за это деньги». И тут же шел на попятную: вообще-то я очень рад, что она дома, роль дизайнера-домохозяйки ей к лицу. Каждое утро она гуляла с Эндрю в Вашингтон-сквер-парке. Послеродовые гормональные изменения творили чудеса: от ее замкнутости не осталось и следа. Теперь она проявляла недюжинную общительность, заводя знакомства с другими молодыми матерями, которых она встречала во время своих прогулок. Я только диву давался: за все годы жизни в Нью-Йорке я никогда не видел в Вашингтон-сквер-парке никаких молодых матерей. Как правило, там ошивались бомжи и наркоманы. Над кустами плыл запах анаши, вокруг скамеек валялись шприцы.
– Ты уверена, что это подходящее место для прогулок с ребенком?
– А где ты предлагаешь мне гулять?
– Не знаю, Нью-Йорк большой. Можно, например, в Централ-парке.
– До Централ-парка надо ехать на метро. Я одна коляску в метро не затащу. А ты всегда на работе. Вот если б мы жили в Покипси, рядом с мамой и бабушкой…
Все сводилось к этому, и я знал, что рано или поздно мне придется сдаться. От переезда в Покипси меня оберегала работа: за пределами метрополии ни о каком карьерном росте не могло быть и речи, тут Лене нечего было возразить. Но существовал еще компромиссный вариант: мы переберемся на север, а мама с бабушкой – на юг. Воссоединение семьи произойдет где-нибудь посередине. Так и вышло. Из Виллиджа мы переехали туда, где доминиканцы делят относительно недорогую жилплощадь с выходцами из бывшего СССР. Грязнокирпичный Вашингтон-Хайтс. Строго говоря, это все еще Манхэттен, но Манхэттен, уже не похожий на себя. Ни стоящих плотным рядом домов, чьи нижние этажи арендованы под бары, рестораны и йога-студии, ни круглосуточного потока желтых такси, ни этнического колорита Чайна-тауна или Маленькой Италии. Безликий спальный район, где все питаются дома, наполняя лестничную клетку неотвязными запахами этнической пищи, и терпят чужое (латиноамериканцы – запах русских котлет, русские – запах мофонго), терпят друг друга, стараясь не соприкасаться, встречаясь только в лифте или в прачечной, куда все дружно тащат мешки с грязным бельем под конец недели. Ленина родня поселилась на соседней улице. Теперь у Лены не было больше повода проявлять несвойственную ей общительность, знакомясь на улице с другими молодыми матерями. Она вернулась к своему привычному кругу общения, состоявшему из мамы и бабушки, и герметичная монотонность их жизни помогала ей кое-как справляться с тем одиночеством, которое она ощущала в моем присутствии. Я делал ее одинокой. Так мне было сказано во время той же ссоры… или другой? Не важно. Важно то, что так, по-видимому, и было. Когда меня не было рядом, у нее был маленький Эндрю – и были две женщины, помогавшие ей растить ребенка. Котлеты, подгузники, русское телевидение – не мечта, но в целом ничего ужасного. Но как только я приходил домой с работы, она оказывалась одна, хотя ни мама, ни бабушка никуда не торопились и, чтобы поддержать ее, часто задерживались у нас допоздна. Дело было во мне, это я сгущал вокруг себя напряженную тишину. Единолично представлял собой молчаливое большинство. Лена знала, что я знаю за собой эту неприятную черту и ничего не могу с собой поделать. Она и винила, и жалела меня, и две другие женщины, мать с бабкой, тоже винили и жалели, хотя у них это было в других пропорциях: куда больше укора, чем жалости. Из таких вот смешанных чувств и складывалась та домашняя забота, от которой мне хотелось лезть на стенку. Меня раздражала любая мелочь: и то, как они называют Эндрю Андрейчиком, и то, как, говоря о физиологических отправлениях, теща начинает почему-то сюсюкать и пришепетывать, опуская безударные гласные («пописить… пописьть…»), и то, как бабка поминутно сплевывает от сглаза, причем говорит не «тьфу-тьфу-тьфу», а «тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу». И как, придвигая ко мне тарелку с несъедобным салатом из фенхеля и чего-то еще (какой невменяемый предок выдумал этот «семейный рецепт»?), теща уговаривает попробовать «хороший отхаркивающий салатик». И что в котлетах обязательно попадаются тещины волосы. Но главным, разумеется, было не это, а их подспудная враждебность, смешанная с душной участливостью. Плотная женская среда, выталкивающая меня из дому. Казалось, они нарочно делают все, чтобы не дать мне почувствовать естественную связь с сыном, чтобы разлучить нас еще до того, как Эндрю («Андрейчик») поймет, что я – его отец.
В сериалах, которые они, Яновские, так любили, в подобных ситуациях безответственный и сумасбродный глава семейства обычно смывался в какой-нибудь бар – так начиналась пошловатая семейная драма. По правде говоря, я был только рад последовать этому шаблону из мыльных опер. Но Вашингтон-Хайтс не славился барами. Поблизости был только один кабак, такой же унылый, как кабаки в Трое-Кохоузе. Когда я был шестнадцатилетним сопляком, мы с дружками-хардкорщиками любили поиздеваться над завсегдатаями подобных заведений. Теперь же я не видел никакого повода для издевки: бар как бар, все лучше, чем домашнее удушье. Тем более что находился этот кабак совсем рядом с метро, и мне ничего не стоило заглянуть туда по пути с работы. Я занимал одно и то же место у стойки; по понедельникам, средам и пятницам рядом с мной оказывался неухоженный старик, а по вторникам и четвергам – человек помоложе, примерно мой ровесник. Примечательно, что и того и другого звали Рой.
– Сказать вам кое-что забавное? – обратился я однажды к тому, что был помоложе. – Вы бываете здесь через день, а я – каждый день. Так вот, в те дни, когда вас тут нет, на вашем месте сидит другой человек, которого, как и вас, зовут Рой!
– Знаю, – хмуро откликнулся Рой. – Это мой отец, Рой-старший. Мы с ним уже десять лет не общаемся.
Разрыв с Леной произошел скорее, чем можно было ожидать: Эндрю едва исполнился годик. Дело было в пятницу, позвонил Кот, сказал, что вечером будет в городе, предложил пересечься. После свадьбы он перебрался в Филадельфию, где жили родители Лены. Последний раз мы с ним виделись почти год назад. В тот раз я пришел домой на бровях, всех разбудил, споткнувшись обо что-то в прихожей, а наутро выслушал длинный монолог жены о том, как она со мной несчастлива.
– Ну как, Демчик, семейная жизнь не заела? – начал Кот.
– Заела. А тебя?
– Не без того. Повторим прошлогодний подвиг?
– Можем. Но только слегонца, ладно? Без эксцессов.
– Ну, это уж как покатит…
Сообщать жене о моих планах было опасно: после «двойной свадьбы» имя Кота у нас в доме практически не упоминалось. Во избежание скандала я собирался наврать что-нибудь насчет корпоративной вечеринки, но потом решил, что лучше будет вообще ничего не говорить, а просто вернуться в разумное время. С Котом я встречусь ненадолго, выпью кружку пива и сразу домой. Правда, слова «ну, это как покатит» не сулили ничего хорошего.
В итоге я остался верен данному себе обещанию и, не поддавшись на уговоры Кота продолжить праздник, к половине десятого был уже дома. Квартира была пуста, на кухонном столе валялась записка: «Мы с Андрейчиком у мамы. Не звони и не приходи к нам». Вот и все, никаких развернутых посланий, полных горечи и драматизма. Я бросился звонить теще. Раз за разом набирал номер, слушал гудки, чувствовал пульсацию в затылке. Наконец подошла бабка. Сказала, что Лена не желает со мной разговаривать и вообще у них в доме уже спят, постыдился бы. Все выходные я не находил себе места, не мог спать, в голову лез тревожный бред. В понедельник утром она позвонила мне на работу.
– Мы с Андрейчиком тебя прощаем, хоть ты этого и не заслуживаешь. Мы вернемся, но для начала мне хотелось бы оговорить кое-какие вещи…
– Прости меня, Лена, я виноват, – выпалил я, сам не зная, за что извиняюсь. И неожиданно для себя самого добавил: – А что касается вашего возвращения, мне кажется, нам было бы лучше некоторое время пожить порознь… Я подыщу себе другую квартиру, съеду с этой, и тогда вы вернетесь. Хорошо?
– Как скажешь, – ответила Лена. После этого она еще некоторое время не вешала трубку, и мне было слышно, как из тещиного телевизора вещает Малахов.
Глава 6
Третье утреннее письмо – от Вероники. Такое же деловито-нежное, как и все ее письма. Не письмо, а записка на самом деле. Всего несколько предложений. Привычное признание в любви, сдобренное шуткой, тоже привычной, одной из тех, что давно стали частью нашего «внутреннего репертуара»; затем – уместная реакция на какое-нибудь сообщение из моего последнего письма (о политике, о погоде, о сумасбродстве Синди); и наконец – традиционное пожелание провести этот воскресный день «с пользой и с удовольствием». Вместо подписи – несколько потешных эмодзи. Неужели все это искренне? Или это всего лишь обязаловка, вежливая отписка, может, даже с долей издевки? Но если так, зачем ей вообще поддерживать эту переписку? Иногда я специально беру паузу, не пишу ей в течение дня, а иногда и двух дней, проверяю, сколько пройдет времени прежде, чем она напишет сама. Она нарушает тишину уже на второй, максимум на третий день, и я временно успокаиваюсь: значит, она тоже испытывает потребность в этом ежедневном общении.
После паузы ее письма всегда начинаются как ни в чем не бывало: «Привет из солнечного Покипси!» Далее следует все то же, что и обычно. Никаких упреков и расспросов, почему не писал вчера. Это было бы у Лены, и мне нравится, что у Вероники этого нет. Не нравится другое: ее странная манера отвечать на мои любовные излияния парафразом. Что бы я ни написал, я могу быть уверен, что в ответ получу ровно то же самое, несколько другими словами. Что означает это обезьянничанье? Ведь если речь не идет о наших чувствах, а о чем-то еще, у Вероники никогда не возникает проблем с самовыражением. В разговорах об отстраненных вещах она – прекрасный собеседник. Правда, тут я тоже отметил у нее некоторую особенность. По моему наблюдению, Вероника часто хвалит то, чего хвалить не стоит, но что хвалят другие. Придерживается – может, даже искренне – мнения толпы. Это ее механизм адаптации, один из ее способов выживания. Но у нее есть безусловный дар точно формулировать. Ухватив мысль, которую я силюсь и никак не могу выразить, она тотчас резюмирует ее в емкой форме, и это свидетельствует об определенной живости ума или, во всяком случае, о филологических способностях. В юридическом деле такие способности, разумеется, очень кстати.
При ином стечении обстоятельств она бы легко могла, я в этом уверен, стать крупным юристом. Как и я сам… Хотя мне-то, по совести, жаловаться не на что. Тех целей, которые я перед собой ставил, я, вообще говоря, достиг. Другое дело, что, может быть, с самого начала надо было метить выше, мыслить масштабней. Но это уж, как говорится… Знал бы прикуп… Всякий раз, когда я начинаю думать о моей профессиональной несостоятельности, мой внутренний монолог скатывается к избитым присказкам и фразам-паразитам. В конце концов, мне действительно не на что жаловаться. Что же касается Вероники, она тоже добилась своего и стала практикующим юристом, пусть и не крупным.
Мы встретились на профессиональной конференции в Вирджинии, буквально столкнулись нос к носу возле регистрационной будки. С тех пор как мы приятельствовали в колледже, прошло почти двадцать лет, и в течение этого времени мы даже не вспоминали о существовании друг друга. Тем радостней встреча, мигом возвращающая в туманно-прекрасную юность, в обход всего, что успело накопиться за долгие годы постинститутской жизни. Дэмиен? Ты ведь Дэмиен, я тебя помню! А ты – Вероника! Боже мой! С ума сойти! Как ты, что ты, где ты? Пошли пить кофе, потом пошли вместе на какую-то чрезвычайно важную лекцию, согласившись, что ее ни в коем случае нельзя пропускать, ради нее, можно сказать, и приехали. Напряженно слушали, ровным счетом ничего не улавливая. И весь остаток того дня были уже неразлучны.
Она несколько пополнела и теперь красила волосы в каштановый цвет. Те же выразительные глаза, но взгляд совсем другой: ни насмешки, ни безуминки. Во взгляде отражалась обычная жизнь, ее долгий и, вероятно, не очень счастливый опыт. Рассказала о себе: живет на ферме («Правда-правда!»), где-то недалеко от Покипси, с мужем и тремя детьми. Работает сельским адвокатом. Бывает и такое. Мелкие иски, разводы, завещания, ДТП и т. п. Всего понемножку. В целом работа непыльная, ей нравится. Щадящий график, домой попадаешь в нормальное время. Ей всегда хотелось именно так. Проводить время с семьей, уделять внимание детям. А выкладываться на работе, рвать жилы в сумасшедшей гонке нью-йоркских адвокатских контор – зачем оно? Чтобы что? Этого она никогда не могла понять. Может, я ей объясню? Я-то наверняка участвую в этой гонке и, она не сомневается, выбился в лидеры, стал большой шишкой. «Нет? Что нет? Не стал или не объяснишь? Тогда, друг юности моей, пойдем пить пиво. Любишь пиво?» Грубоватое полуобъятие с похлопыванием, эдакий фермерский жест, прежняя Вероника такого бы себе не позволила. Мы пили пиво, ели жирный китайский рис («Как ты мог догадаться по моей большой жопе, я не сторонница салатиков»). После третьей кружки она размякла, отбросила фермерскую браваду. «Что-то я у себя в деревне совсем одичала». Попробовала перейти на русский, но после нескольких неуверенных фраз оставила эту затею. Между прочим, ее мама пятнадцать лет назад вернулась в Питер. Но Вероника ее никогда не навещает. За последние двадцать лет она вообще ни разу не выезжала за пределы США. Муж – американец, уроженец Покипси. По профессии? Вербовщик. Но он уже много лет не работает. Сидит дома с детьми. Ее заработка им более чем хватает. Там, где они живут, стоимость жизни до смешного низкая.
– Слушай, Дем, а почему мы с тобой в колледже не встречались? Прикинь, могли бы сейчас вместе жить где-нибудь во Фриско…
Я не нашелся что ответить. Неужели она ничего не помнит? Ни нашего несостоявшегося первого свидания, ни знакомства с Бобом Райли? Сказал:
– Я был уверен, что ты встречаешься с Киром…
– С Киром? Да ты с ума сошел! Он вообще, по-моему, гей.
– А помнишь, как ты мне по телефону стихи читала по-русски? Я их почему-то до сих пор помню: «Висит картина на стене…»
– Да, да, что-то такое припоминаю: «Висит картина на стене… Свеча горела на столе…»
– Да нет, ты все перепутала. Про свечу – это вообще из другой оперы.
– Извини, я очень давно не говорила по-русски. Скажи спасибо, что вспомнила хотя бы твое русское имя: Дема.
– Но это же твои стихи, ты их сама написала, когда была маленькой! Во всяком случае, ты мне так сказала.
– Знаешь, тут такое дело… В общем, у меня небольшие неполадки с памятью. Я это не афиширую, и ты, пожалуйста, держи при себе. Пару лет назад я упала на катке. В детстве-то я занималась фигурным катанием и, надо сказать, неплохо каталась. Но в детстве я не была такой коровой, как сейчас. А тут решила поучить катанию старшую дочку, показывала ей, как делать заклон, и – вот, пожалуйста. Сильное сотрясение. Короче, я забываю некоторые вещи. В целом ничего страшного, но… вот так.
Я перегнулся через стол, неуклюже поцеловал ее. Заметил, что у нее маслянистая кожа. Вероника с готовностью ответила на поцелуй.
– Давно не ощущала себя подростком… Все правильно, так и должно быть… А твоя жена говорит тебе, что ты красивый?
– Мы с женой уже давно не живем вместе.
– Ой, извини… то есть… ну, ты понял.
– Ага.
– А дети?
– Сын.
– Большой?
– Девятый год пошел.
– Это хорошо… Все очень хорошо. Посадишь меня на такси?
Мы договорились встретиться на следующий день, и все следующее утро я пытался придумать, как бы мне отказаться от назначенного свидания. Не то чтобы мне не хотелось ее видеть. Наоборот, я был совсем не против закономерного развития вчерашних событий. Но в то же время прекрасно понимал, что этого делать не надо. Не потому, что она замужем, да и я все еще женат, во всяком случае с юридической точки зрения. И не потому даже, что мы принадлежим к одному профессиональному сообществу и, стало быть, наверняка будем сталкиваться и впредь. А просто потому, что превращать эту полную очаровательной мистики встречу с прошлым в обычный перепихон, как выразился бы Кот, – верх пошлости. Словом, все утро я сочинял убедительную и необидную отговорку. Оказалось, напрасный труд. Около полудня Вероника сама написала, что ее планы на вечер, к сожалению, изменились и она никак не сможет со мной встретиться. Продинамила, как двадцать лет назад.
Через год мы снова встретились на конференции. «Ну что, так и будем встречаться и расходиться, как в море корабли? Или покоримся судьбе, столь усердно пытающейся нас свести, и заведем уже наконец роман?» Было бы глупо не покориться. Первое время виделись от случая к случаю, но перезванивались и переписывались регулярно, целыми днями перебрасывались СМС, а по вечерам, после того, как она укладывала детей спать, общались в видеочате. Потом Вероника сообщила мужу, что хочет повысить квалификацию и записывается вольнослушательницей в Нью-Йоркский университет. От Покипси до Манхэттена меньше двух часов на электричке, но вечерние занятия заканчиваются не раньше девяти. Возвращаться ночью ей боязно: Нью-Йорк все-таки, никогда не знаешь. Но она уже договорилась с институтской подругой Рэйчел, которая живет теперь в Бруклине и преподает бальные танцы. Будет ночевать у нее, а наутро возвращаться первым же поездом. Муж поддержал: повышение квалификации – это важно. И Вероника действительно записалась на вечерний курс. Лекции – раз в неделю, по четвергам, с шести до девяти вечера. За весь семестр она не пропустила ни одного занятия. Я ждал ее в кафе через дорогу от здания юрфака. В девять вечера в четверг жизнь в Манхэттене только начинается. Мы ужинали в итальянском ресторанчике в Вест-Виллидже, потом шли в какой-нибудь бар или клуб и уже за полночь ехали ко мне. А рано утром, пока я еще спал, Вероника отправлялась на Пенсильванский вокзал.
Так продолжалось всю осень, вплоть до праздничного сезона, когда низкие заборчики, ограждающие палисадники блокированных домов, украшают гирляндами и огоньками, а в универмагах звучит навязший в зубах мотив «джингл-беллс». Потом настали праздники и зимние каникулы; Вероника приезжала в Нью-Йорк с детьми, водила их смотреть на огромную елку в Рокфеллер-центре. Мне было велено на время сделаться незаметным (выражение «make yourself scarce», то есть «сделай так, чтобы тебя стало мало», – из ее лексикона). Я повиновался. Ждал, скучал в своей холостяцкой студии в Уильямсбурге. Пару раз сводил Эндрю на детский спектакль, за которым обязательно следовал ужин в дайнере. Мы с сыном садились друг напротив друга и, заказав два рубен-сэндвича, привычно молчали, а когда нам приносили заказ, принимались жевать сосредоточенно и слаженно, как спортсмены, давно работающие в паре. «Ну что, Андрейчик, хорошо провел квалити-тайм с папой?» – спрашивала Лена, когда я передавал ей сына из рук в руки. На их лестничной клетке в Вашингтон-Хайтс все так же пахло смесью русских котлет и доминиканского мофонго.
Новый год я встретил в компании друзей сестры. Элисон водила меня из комнаты в комнату, знакомя со всеми и вообще стараясь, чтобы мне было хорошо. Но хорошо мне не было, я чувствовал себя не в своей тарелке и, когда в соседней комнате, где было установлено караоке, все набросились на микрофон и заорали «I will survive», тихо слинял. Подумал, что Элисон, узнав о моем побеге, наверняка будет злиться. В детстве я ее всегда стеснялся, а теперь – она меня. Наверное, только так и бывает. Смутное чувство вины перед сестрой. Не надо было, конечно, уходить не прощаясь. Но вот это «I will survive» меня добило. Дома врубил на полную громкость демоальбом группы One Man Less, который не слушал почти двадцать лет. Около полуночи Вероника прислала поздравление в виде селфи: она в карнавальной маске и с загадочной полуулыбкой Джоконды. Я с удивлением отметил, что у моей подруги довольно толстые губы. Раньше я этого не замечал.
На весенний семестр подходящего вечернего курса не нашлось, но мужу Вероники об этом знать было необязательно. Она все так же ездила в Нью-Йорк по четвергам. Ничего не изменилось, кроме того, что теперь наш еженедельный бархоппинг начинался на три часа раньше. Мы как будто и впрямь переживали вторую юность. Как если бы этот загул был естественным продолжением того, институтского, когда мы с Котом и Киром куролесили в клубе «Микки-рекс». Но в этом сиквеле не было никаких Котов и Киров, только мы, В. и В., наша запоздалая юношеская любовь, странным образом выпавшая людям под сорок.
– Ты железный человек! – восхищался я сквозь сон, когда Вероника вставала по будильнику в полшестого утра и начинала собираться на поезд.
– Извини, не хотела тебя будить. Ты спи. Спишь? А знаешь, что я сейчас подумала? Мы нужны друг другу просто потому, что больше никто не нужен.
– По-моему, это стихи.
– Да? В таком случае я не уверена, что это я их написала. Может, опять Пастернак?
– Нет, это, кажется, уже ты. Надо будет запомнить.
О супругах, которым мы так легко изменяли, речь не заходила почти никогда. Время от времени мне приходилось напоминать себе, что в моем случае это и не измена вовсе: ведь мы с Леной давно разошлись, живем порознь, и каждый из нас волен распоряжаться своей жизнью, как ему вздумается. О том, как складывается жизнь у Лены, я знал всё или, по крайней мере, был уверен, что знаю, хотя она мне не докладывала, а виделись мы нечасто. Я точно знал, что у нее никого нет, и это знание одновременно радовало и обременяло. В конце концов, почему я должен жить анахоретом только из‐за того, что моя бывшая жена до сих пор ни с кем не сошлась? Если бы сошлась, я бы, вероятно, приревновал ее к новому бойфренду, и эта ревность была бы, как пишут в бульварных романах, тлеющей головешкой, бесполезно подброшенной в давно угасший костер нашей любви. Да, как-то так. Вспышка ревности, а за ней – уже полная свобода. Но этого никогда не произойдет. Лена так и будет жить с матерью и бабкой в Вашингтон-Хайтс, а я так и буду наведываться к ним по выходным, чтобы забрать Эндрю; буду мрачно ждать сына в прихожей, едва выдерживая их тоскливо-укоризненные, но ни в коем случае не враждебные взгляды, их демонстративно-скорбную тишину. Буду возить мальчика в надоевший парк аттракционов на Кони-Айленде; буду покупать ему чуррос и сахарную вату, пытаясь загладить вину. И если Вероника когда-нибудь бросит мужа и съедется со мной, у меня не хватит духу привести Эндрю к нам в дом.
Впрочем, Вероника и не собиралась бросать мужа, она дала это понять с самого начала. Речь о нем заходила редко, и всякий раз она выстраивала неприступную ограду из нескольких фраз: Ричард – очень хороший, у них крепкий брак; кроме того, Вероника нежно любит свекра со свекровью, у них замечательные, близкие отношения. Что там было за этой оградой? Бог весть. Сколько я ни пытался, никак не мог представить себе эти прочные семейные узы, этого Ричарда, безработного вербовщика, нянчащего троих детей, пока его жена бегает к любовнику; этих свекра со свекровью и их беззаветную любовь к невестке. Не мог представить себе и ее такой, какой она бывала в их кругу, в своей другой, добропорядочно-семейной жизни. Испытывала ли она чувство вины? Какую защиту строила она, сельский адвокат Вероника, на суде, который устраивала ей совесть? Кто ей важнее, Ричард или я? Как бы то ни было, я не чувствовал по отношению к Ричарду ни ревности, ни вины; чувствовал только свое превосходство. Мне было приятно думать о сопернике – лузере и рогоносце; в этом поединке я выходил очевидным победителем.
Когда она была в Покипси, а я в Нью-Йорке, наш эсэмэсный пинг-понг мог продолжаться с утра до вечера, вне зависимости от того, где мы находились и что делали. Повседневная жизнь проистекала на фоне этого непрерывного диалога или даже, наоборот, была фоном для него, и все расстояния сокращались до нуля, и вся неопределенность казалась ничем по сравнению с постоянством этих шутливых реплик, ссылок на интернетную ерунду, фразочек, понятных только нам, личного языка, которым мы так быстро и надежно обросли. Поминутная компульсивная трансляция моего существования заинтересованному собеседнику создавала иллюзию если не смысла, то во всяком случае стабильности.
Потом я уехал в Луанду, и все изменилось. Наши отношения – в том виде, в котором они были мне дороги, – закончились раз и навсегда. Такова была версия, которую я представил Коту и еще нескольким друзьям, знавшим о моем романе с Вероникой. На самом же деле все закончилось гораздо раньше – в тот день, когда она вернулась из Сан-Диего. Я ждал ее возвращения, чтобы возобновить ежевечерние свидания по скайпу. В Сан-Диего Вероника гостила у подруги, в маленькой двухкомнатной квартире. Общаться в видеочате там было неудобно. Тем более что подруга ничего про нас не знала. «Ничего, милый, через три дня вернусь к себе в Покипщину, и тогда мы с тобой снова сможем выйти в прямой эфир». Она так и говорила «Poughkeepschina», вставляя это выдуманное мной название в свою английскую речь. Это было слово из нашего уже достаточно обширного личного словаря.









































