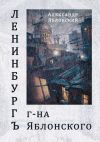Текст книги "Ода к Радости в предчувствии Третьей Мировой"

Автор книги: Александр Яблонский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Эта истина: за апостасию – костер, казалось бы, должна была намертво въесться с народное сознание от самых верхов до низов, от дворянства до «башкир-татар». Ан нет…
За тысячи верст от Урала примерно в это же время также разжигали сруб. Там убийств и членовредительства не было. Было подозрение… В сруб, хорошо проконопаченный и туго забитый просмоленной паклей, ввели отставного капитан-поручика Александра Артемьева сына Возницына, надумавшего отречься от благочестивой греческого исповедания веры и перейти в жидовский закон. Дело было темное. Сам граф Андрей Иванович Ушаков, начальник Канцелярии Тайных Розыскных дел, гуманностью и сострадательностью не обремененный – пытарь по призванию и профессиональному долгу – сам Ушаков весьма сомневался в возможности перехода капитан-поручика в иудейство: больно уж сложен был процесс сего действа, не по силам интеллекта Возницына, да и доказательств, кроме злобного навета брошенной жинки капитана, не было. Не было и «первого кнута» доносчице, как повелось издавна и законом подтверждено. То есть донос не был пыткой подкреплен – одно сумление. Граф полагал, что ссылкой преступника в дальний монастырь для увещевания монахами можно было бы и ограничиться, тем более что сей малый был племянником самого адмирала Синявина… Но с Анной Иоанновной не поспоришь, а государыня уж больно к сердцу приняла подобное чудачество: не какой-нибудь бусурман, грамоты не ученый, а дворянин старой фамилии, да ещё и в жидовский закон! Так и вошел поручик Александр Артемьев сын в сруб вместе с якобы совратителем Борухом Лейбовым. Сожгли недолго думая. Не отрекайся, любя! Хотя и отрекся несчастный капитан-поручик, кажется, во имя любви. Было то последнее в Европе сожжение за апостасию. Об этом, кстати, Автор даже книгу написал с нерусским названием: «Абраша».
Сожжение живьем Возницына и Лейбова – одно из последних на Руси, но отнюдь не первое.
Власть с особым рвением карала «природных» христиан, то есть рожденных в Православии, но по различным причинам перешедших в ислам (жечь бусурман, в отличие от православных, было делом естественным, заурядным – что с них взять!). Собственно, по 22-й главе Соборного уложения 1649 года сожжение предусматривалось только за переход в «басурманскую веру». Однако, как видно, «преступление против Веры» принималось в расширительном толковании. Случай Возницына – и не только – указывает, что решение о казни «в срубе» принималось на самом Верху. И это было естественно: Монарх сам по себе являлся (является) источником права, формировал (формирует) правовое поле. Никакое Соборное уложение, никакой Закон не является ограничителем высшей воли Правителя. Так было, так есть, так будет: Россия.
Там над звездною страною
Мир любовью озарен!..
… Обстоятельства и мера искренности отпадения христианина от истинной веры не учитывались. Православию изменить было нельзя. Так, в 1605 году был казнен стрелецкий голова Смирной-Маматов, тот самый Маматов, который взял «под опеку» прибывшего в Пелым в ноябре 1601 года «кандальника» – стольника Василия Никитича Романова (Захарьина-Юрьева), брата будущего Патриарха Московского и всея Руси Филарета Романова и дяди первого Романова на русском престоле. Держал ссыльного стольника Смирной-Маматов в оковах и в строгости, за что получил от царя Василия Шуйского выговор за плохое обращение и приказал расковать братьев Василия и Ивана. Припомнилась эта строгость Маматову… Как попал Смирной-Маматов в Кызылбаш, доподлинно не известно. По одним данным, бежал туда из Грузии, куда судьба занесла его по службе, и бежал якобы по «любовной слабости», то есть из-за женщины. По другим сведениям, был пленен во время Караманской битвы при реке Шура-озень, когда царская дружина была разгромлена войсками Султан-Махмуда, все воеводы полегли: Иван Бутурлин с сыном Федором, Осип Плещеев с сыновьями, Иван Исупов и другие, а князь Владимир Бахтияров, Петр Бутурлин и стрелецкие головы Афанасий Благой и Смирной-Маматов были пленены. Как бы там ни было, в Персии Маматов (насильно или добровольно, не ясно) стал басурманином: перешел в ислам. Вскоре был вызволен и доставлен в Москву. Дознанием руководил всесильный Филарет. Короче говоря, за переход из Православия в «магометанство» Смирной-Маматов был приговорен. Его, не утруждая себя постройкой сруба, просто облили нефтью и подожгли.
… Поразителен русский человек. Ведь, к примеру, испокон веков знали, с молоком матери впитали истину: «доносчику первый кнут». Но доносили. Добровольно шли под пытки, порой троекратные: доносчика пытали с особым рвением, дабы случаем безвинного под дыбу не подвести бы… Все равно шли и доносили. Чаще клеветали. Не выдержав плетей, «подноготной», каленого железа, признавались в клевете, за что рвали им ноздри, калечили, хорошо, если только на каторгу ссылали… А все равно шли, доносили.
Поразительна сила духа русского человека, не отрекавшегося от своей веры, от двуперстия, от своих символов веры даже перед лицом лютой казни – и себя и детей своих обрекая на сожжение заживо. Подчас – добровольное: к Аввакуму восходит тезис о «крещении огнем»: «да не погибнут во зле духом своим, собирающиеся во дворы с женами и детками и сожигахуся огнем своею волей».
Однако совсем непостижима природа сопротивляемости чуждой религии, навязыванию новых идеалов, принципов мышления и бытия, непостижима структура намертво схваченной сцепки с миром предков у «новообращенных» в различных частях света: от Лимы до Вятки, от Кастилии до Урала. Природа сопротивления с особой мощью и чистотой – без «смазанности» другими побочными факторами, будь то фанатизм, граничивший с психическими патологиями, криминальной или личностной романтической составляющими, осознанным чувством долга или выработанной дисциплиной, – эта природа сопротивляемости в первозданном эмоционально-естественном виде проявившаяся в совсем другом историческом контексте: без инквизиций или пылающих срубов, без Торквемады или Патриарха Иоакима, без Изабеллы Кастильской или Петра и без государственного мракобесия или неистового изуверства духовных пастырей. Благословенный XIX век, словно посланный человечеству свыше, как короткое отдохновение от кровавых безумств прошлых и будущих веков, XIX век – век-передышка, не подозревавший, что принесет век XX… И выявились эта сопротивляемость, эта сцепка в идеальном, стерильном и мощном виде у самых беззащитных, самых слабых, самых естественных – у детей.
Кантонисты. О них написано много. С болью, состраданием, негодованием. В большинстве случаев с любовью. И как можно было не любить этих маленьких испуганных, насильно и жестоко оторванных от семей ребятишек 8-12 лет отроду в толстых казенных топорщившихся шинелях; детей, чьи тоненькие шеи нелепо торчали из широких, не по росту больших солдатских стоячих воротников, завшивевших, покрытых коростой, с синими бескровными губами и коричневыми подглазниками, забитых, голодных.
У Герцена, «Былое и думы» – одно из самых жутких впечатлений в жизни»: «…Привели малюток и построили в правильный фронт. Это было одно из самых ужасных зрелищ, которые я видал – бедные, бедные дети! Мальчики двенадцати, тринадцати еще кое-как держались, но малютки восьми, десяти лет… Бледные, изнуренные, с испуганным видом, стояли они в неловких толстых солдатских шинелях со стоячим воротником, обращая какой-то беспомощный, жалостный взгляд на гарнизонных солдат, грубо равнявших их; белые губы, синие круги под глазами показывали лихорадку или озноб. И эти больные дети без ухода, без, ласки, обдуваемые ветром, который беспрепятственно дует с Ледовитого моря, шли в могилу. И притом заметьте, что их вел добряк-офицер, которому явно было жаль детей. Ну а если бы попался военно-политический эконом"?!»
Как можно было не восхищаться и не преклоняться перед ними… Перенеся всё, что им пришлось перенести: постоянные побои («к битью сводилось все учение солдатское, – вспоминал один из выживших кантонистов, – встаешь – бьют, учишься – бьют, обедаешь – бьют, спать ложишься – бьют»), насильственное кормление свининой и, соответственно, голод («Подавали щи на свином сале. „Жид, отчего щи не ешь?“ – кричит ефрейтор. – „Не могу. Пахнет свининой!“. „А, так ты таков. Стань на колени перед иконой“. И держали полтора часа подряд на коленях, а потом давали пятнадцать-двадцать розог по голому телу»), пройдя сквозь огонь – баню («Потом нас загоняли в жарко натопленную баню, поддавали пару и с розгами стояли над нами, принуждая креститься… Густой пар повалил из каменки, застилая все перед глазами. Пот лил ручьем, тело мое горело, я буквально задыхался и потому бросился вниз. Но этот случай был предусмотрен. У последней скамьи выстроились рядовые с пучками розог в руках и зорко следили за нами. Чуть кто попытается сбежать вниз или просто скатывается кубарем, его начинают сечь до тех пор, пока он, окровавленный, с воплем бросится назад на верхний полок, избегая этих страшных розог, резавших распаренное тело как бритва… Кругом пар, крики, вопли, стоны, экзекуция, кровь льется, голые дети скатываются вниз головами, а внизу секут без пощады. Это был ад кромешный…») и ледяную воду («Детей окунали до обмороков, потери слуха в ледяную воду, секли вымоченными в соленой воде розгами. Ефрейтор хватает за голову, быстро окунает в воду раз десять-пятнадцать подряд: мальчик захлебывается, мечется, старается вырваться из рук, а ему кричат: „Крестись – освобожу!“), – перенеся всё это и многое другое (когда их вели по еврейским местечкам, конвой начинает их избивать, чтобы жалостливые жиды «милостивили» их, одаривая подношениями, которые солдаты отбирали и пропивали) – перенеся непереносимое («…пьяные дядьки выбирали себе порой красивых мальчиков, развращали их и заражали сифилисом»), из более 70 тысяч кантонистов, «забритых» в николаевское время и выживших, только 25 тысяч крестилось. Причем большая часть крестившихся по окончании службы возвращалась в лоно иудаизма. За это уже не сжигали – XIX век – век-передышка, время Пушкина, Глинки, Брюллова, но сажали в крепость…
Откуда у этих детей такая сила духа? – Может, стоял в ушах вопль их матерей, прощавшихся навсегда, бежавших за телегами, увозившими их мальчиков, падающих в грязь, снег и опять бежавших, хватающихся руками за колеса: «Помни имя свое!», «Помни веру свою», «Помни веру!»…
Брали в кантонисты мальчиков 12 лет, чтобы они не могли в 13 лет пройти бар-мицву. Однако, как отмечал Лесков, часто 7-8-летних мальчиков записывали, как 12-летних, и лета приводимого определялись «наружным видом, который может быть обманчив, или, так называемыми, „присяжными разысканиями“, которые всегда были еще обманчивее». В рекруты сдавали прежде всего самых беззащитных, слабых, маленьких: детей вдов – в обход закона об «единственных сыновьях», – сирот, детей бедняков, часто это были мальчики, украденные хапперами, которых зачисляли в кантонисты за счет детей из богатых семей.
Это, возможно, было самое страшное. Ибо осознать это любой нормальный человек не мог. Не гой – нохри, то есть чужой, а «свой», «единоверец» приносил в дом горе и ужас. «Хапперы» – ловцы детей, так же, как и «мосеры», то есть те, кто доносил властям об укрывшихся жиденятах, – естественно, были стопроцентные евреи, их ненавидели особенно: когда в дом врывались ночью и силой выхватывали из рук матерей кричащих детей не мучители-иноверцы, а такие же евреи – с пейсами, в лапсердаках, с цицитами, – это понять и тем более простить было невозможно. А. Ковнер вспоминал о хапперах, как об одном из самых жутких явлений еврейского местечкового быта: «Иногда на улицах города появлялись страшные «ловцы». Частые наборы в эпоху Крымской войны наводили ужас на беднейших евреев, которые в своей национальной среде несли на себе всю тяжесть рекрутчины. Всесильный в то время кагал, обязанный доставлять требуемый комплект солдат, избавлял своих членов и всех состоятельных лиц от страшной «николаевской» службы, и все ее бремя ложилось целиком на беззащитные семейства. Предназначенные к набору прятались в подземелья, бежали в леса, изыскивали тысячи способов, чтоб укрыться от неизбежных преследований. И вот для поимки их была организована специальная шайка «ловцов», устраивавших засады и облавы и наводивших ужас на бедные еврейские кварталы. Это были беспощадные силачи, не поддававшиеся на подкуп, не ведавшие жалости и отвечавшие жестоким избиением на всякую попытку сопротивления или бегства. Сцены подобных поимок еврейских юношей дополняли безотрадные житейские впечатления западного гетто 50-х гг.». Поразительно и то, что наибольшим зверством по отношению к детям отличались «дядьки«-выкресты. Их называли «истребителями жидов». Смертность в подразделениях, которыми командовали эти евреи, была повальной. Как заявлял один из самых известных садистов Иван Хмельницкий (ранее Хаим Зильберман), «пока он будет жив, ни один не выйдет из его батальона евреем»; и он держал слово: живыми из его батальона некрещеные еврейские дети не выходили.
К слову. Отречение – обращение, как и отпадение, – часто, но далеко не всегда влечет за собой агрессивное отторжение веры (и быта) отцов. Скажем, «новообращенные» исламисты – европейцы, бывшие христиане, как правило, превосходят своих новых единоверцев в жестокости и фанатизме. Не случайно в палачи под зеленым знаменем чаще идут «белые». Именно – «новообращенные», но не отступники. При отпадении юдофобство, даже в самых ярких проявлениях, вплоть до антисемитизма (Карл Маркс, Бобби Фишер, Уолтер Липман и др.), в фактическом – физическом уничтожении соплеменников не участвует и к этому варварству не призывает. Никто из них в погромах или в организации оных замечен не был. Да и число таких выкрестов-антисемитов из «отпадения» относительно незначительно. Бесспорно, их идеи, порой, опаснее, нежели конкретные реальные действия пьяной черни. Однако… Среди обращенных же – conversos – антисемитизм – отнюдь не норма, как часто считают, но явление распространенное. Причем, самые фанатичные, маниакально-жестокие и «правоверные» погромщики – во все времена – были именно многочисленные выкресты, «искупавшие» грехи своего первородства. Не только хапперы или «дядьки» у кантонистов. Будь то собирательный Гундосый из «Гамбринуса», Торквемада, покрывавший грех еврейства своих предков кострами, Николя Донин, вступивший после крещения в орден францисканцев и учинивший кровавую бойню своих соплеменников в Бретани, бывший раввин Шломо га-Леви, ставший Пабло де Санта Мария – епископ Бургоса, канцлер Кастилии, историк и поэт, вдохновитель погромов в своей епархии…
… Для родителей кантониста рекрутирование равнялось смерти ребенка. Две трети детей заканчивали свой путь из местечек Белоруссии, Бессарабии, Украины до Сибири, Поволжья, Архангельской губернии, то есть до мест, наиболее отдаленных от черты оседлости, – «в Могилеве» – в могиле. До конца учения и перехода в солдатский статус (то есть, с 10–12 лет до 18) доживал один из десяти малышей. Часто за недельный переход умирало 30–40 кантонистов, солдат «спрыгивал в яму и ногами утрамбовывал тела, чтобы больше поместилось». Выжившие мальчики для их семей и общин также были умершими: им ставили надгробия, хоронили. Они умирали для иудейства… Выжившие могли завидовать мертвым, ибо выживших начинали «крестить», а это для семьи было страшнее смерти. «В городе Чигирине, – вспоминал чиновник военного ведомства, – привезен был мальчик лет девяти или десяти, полненький, розовый, очень красивый. Когда мать узнала, что он принят, то опрометью побежала к реке и бросилась в прорубь».…Поэтому делали всё возможное, чтобы избежать рекрутирования: женили восьми-двенадцатилетних на сверстницах – не помогало, выкалывали глаз, отрубали палец. «Была лютая зима, и мою руку положили в корыто с ледяной водой. Через некоторое время рука была настолько заморожена, что я перестал ее чувствовать. Ловким ударом ножа мой палец почти безболезненно отделили от руки, и подобную операцию провели над ста слишком мальчиками…» За подобный обман кагал должен был «поставить вдвое». Тогда нанимали хапперов…
«Главная выгода от рекрутирования евреев в том, что оно наиболее действенно склоняет их к перемене вероисповедания», – считал Николай Павлович и делал все возможное для достижения поставленной цели. Не только «баней» или розгами. Каждый мальчик знал, что свое «слово царь держит»: при крещении прекращались издевательства, новообращенный получал 25 рублей, а это была большая сумма – за 3–4 рубля можно было купить хорошую корову, кантонисту-христианину полагалось улучшенное питание, после пяти лет «карантина» карьера еврея в армии была успешной, нередки были случаи, когда выкресты получали личное дворянство… По выходе «по чистой» в 43–44 года (5–7 лет в кантонистах + 25 лет службы) бывшие кантонисты, независимо от вероисповедания, получали пенсию в размере 40 рублей, что давало возможность безбедно существовать, они могли жить во всех районах Империи: на них не распространялся закон о «черте оседлости». Так как это были выжившие, то есть обладавшие максимальной выносливостью, сообразительностью, то их отправляли в школы писарей, оружейников, телеграфистов, фельдшеров, мастеров порохового и оружейного дела, они были не только интеллектуально-технической «жилкой» унтер-офицерства, но получали хорошую профессию по демобилизации. И, конечно, их– выживших ценили более всего, как воинов. Эти так называемые «николаевские солдаты» отличались суровым нравом и физической силой в повседневной жизни, особой стойкостью, отчаянной храбростью во время военных действий, прежде всего во время Крымской и Балканской войн. Н. И. Пирогов отмечал невероятную терпеливость и мужество солдат-евреев, раненных во время Крымской кампании.
Выкресты из кантонистов выслуживались до надворных или коллежских советников (что соответствовало военным званиям подполковник и полковник).
И все это было известно. Но бросались в прорубь матери и отрубали своим мальчикам палец.
И всё равно – только 25 тысяч из 70 тысяч выживших крестилось. Ненадолго. Не очень получилось у личного цензора Пушкина. Видимо, голос матери, цеплявшейся за колеса телеги, падавшей в грязь, талый снег, в ноги солдат, и вновь на коленях устремлявшейся за телегой, был сильнее: «Береги имя свое! Береги веру свою! Сыночка!»
Не отрекаются любя.
* * *
Ведь это так просто: нажать курок. Командующий этим делом занимался всю жизнь. Ещё с Брусиловского прорыва. Легкое движение пальца на себя. И всё. Но палец задеревенел. Нелепо скрючился и замер. И не было силы сделать ещё одно усилие – полсантиметра, не более. Палец не слушался. Да и стрелять с правой руки он не привык – левша.
– Миша, это не страшно, ну! Мы хорошо с тобой жили. И сейчас хорошо. Вместе. Вместе всегда хорошо.
Она прижалась, прильнула к нему, нежно, чтобы не прикасаться к ранам, не причинить боль, но так же трепетно, как много лет назад.
Вместе всегда хорошо. Лиза – Лиза – Лизавета, я люблю тебя за это. Волосы всегда были гладко зачесаны. На уши. Виска не было видно. Он любил целовать ее в висок, отодвигая туго затянутые у затылка волосы. Ведь кто-то их предал. Все должны были выйти. И вышли. Это он знал. Но не они. Всего каких-то семь человек. Командный состав. Вот и висок.
Лиза – Лиза – Лизаве…
Командующий по привычке притронулся левой рукой, превозмогая боль, к подбородку, отметил небритость, вдохнул запах ее волос и нажал курок.
* * *
Маша – Маша – промокаша – гречневая каша. Гречневая каша связана с детством. Это было очень вкусно. Особенно летом с ледяным квасом. Иногда в каше обнаруживался небольшой кусок сливочного масла. Это был праздник. Почему у них в доме была именно гречневая каша, Маша-промокаша не помнила. Кажется, папа служил в какой-то артели, там перевозили продукты из базы в магазины. Но почему у них была именно гречневая крупа, а не макароны или картошка, она так и не узнала. Папу она не помнила, но помнила лошадь, которая тащила телегу с мешками и косила глазом в сторону, словно стесняясь того, что везет столько вкусной еды.
Ещё детство – это теплый подоконник. Мама в конце апреля мыла окна, протирала их до блеска старыми газетами и где-то в мае открывала. Солнце нагревало щербатую поверхность подоконника, и Маша ложилась на него и смотрела вниз. Внизу проезжал открытый грузовик, в нем сидели на скамейках милиционеры в белых кителях. Они пели хором песню про Красную Армию, которая всех сильней. Возможно, это было один или два раза, но запомнилось, как будто было каждый день. Хотя, наверное, грузовик с милиционерами ездил и чаще – где-то поблизости, возможно, было их училище или баня, куда возили мыться. Хотя, почему тогда в белых кителях?
Столько лет прошло, а живот помнил тепло щербатой доски подоконника. Лошадь помнилась и мальчик из параллельного класса. У него на лице были веснушки, и все одноклассники дразнили его. Но он не обижался, а смеялся вместе со всеми. Потом он исчез: оказалось, что он немец, но Маша помнила его. Всю жизнь. Потому что веснушки у него были радостными, и он смеялся вместе со всеми.
Вообще все вспоминалось в светлых тонах. Это – черта ее, Машиного характера, или действительно ее детство было таким – светлым, а может, детство всегда и у всех остается светлым пятном. Часто единственным за долгую жизнь. Как бы ни был счастлив человек, успешен, и даже здоров в старости, вспоминая прошедшее, он непременно вздохнет с грустью или просто махнет рукой: «а-а-х». Маша не вздыхала и руками не размахивала; она, наперекор всему, была рада, что было детство, лошадь, мальчик, была жизнь, какая-никакая, но жизнь, которая больше не повторится. А пока она – эта жизнь, даже такая, есть, – она счастлива.
После войны она стала писать. Как это получилось, она объяснить не могла даже себе. Просто сидела как-то вечером, рисовала головки от нечего делать, вспоминала то ли лошадь, то ли лица давно ушедших людей, на одном лице появились веснушки, она их раскрасила, а потом написала про мальчика с веснушками, который смеялся над своими веснушками вместе со всеми. Потом увидела, что слишком много слова «веснушки». Исправила. «Который сам над ними смеялся». Затем написала про лошадь. И лошадь, косящая глазом от стыда, ей понравилась. Это стало игрой. Что вспоминала, о том и писала. Затем воспоминания стали разбавляться фантазиями. Описывая то, что было, она начинала думать: а что могло быть, как бы она поступила в том или ином случае, как надо было ответить или прореагировать в реально случившейся ситуации. И вымышленные поступки или ответы ей нравились больше, нежели подлинные ответы или решения. Потом она стала придумывать маленькие истории. Короткие – на длинные сюжеты у неё не хватало ни воображения, ни сил, ни времени. Чтобы описать какое-то выдуманное событие, явление или человека, она должна была это увидеть. Скажем, осенний день. Это «видение» происходило обычно ночью. Она закрывала глаза и видела серое небо, пламенеющие на его фоне последние листья калины или клена, дымок, робко струящийся из кучи тлеющих листьев, влажные серые стволы деревьев, утренний туман. Она пыталась вспомнить, как пахнет жухлая трава, как курлычут журавли и – самое трудное – как описать это словами, чтобы читатель почувствовал запах травы или услышал журавлей. Или лицо героя вымышленной истории, его манеру говорить, жестикулировать; придумать и обязательно увидеть какие-то особенности, скажем, постоянно поправляемые усики или непроизвольное пощелкивание пальцами. Если нужное слово, интонация и ритм фразы, образ чудом проявлялись, она не ленилась, вставала посреди ночи, зажигала настольную лампу и быстро записывала. Но это удавалось далеко не всегда: либо не было сил встать – «авось к утру не забуду», но к утру обязательно забывалось, либо удача умудрялась упорхнуть по пути к письменному столику. Днем – в трамвае, на службе, в очереди магазина или ломбарда, на кухне огромной коммунальной квартиры – всюду она старалась вспомнить забытое или найти новый поворот, решить, чем закончить сюжет или вообще его не заканчивать, а оборвать на полуслове – это даже заманчивее, интригующе. Пусть читатель сам додумает. Читателя наверняка не будет, но почему не помечтать. Когда удавалось найти нужное слово, фразу, создать живой образ, который виделся ночью или днем в толчее трамвая, получался праздник. Как с маслом в гречневой каше.
Жизнь стала напоминать увлекательную игру. Весь день – бесконечный, изнурительный, серый – она ждала вечер, когда сможет сесть за письменный столик, зажечь настольную лампу с выгоревшим оранжевым абажуром и разгладить ладонью белый лист бумаги. Перед тем, как сесть за стол, она тщательно мыла руки.
Иногда она вспоминала голод. Но про это писать не стала. Не смогла. Это было немыслимо. Нужно было снова прочувствовать это состояние, увидеть лица людей – близких, родных, ушедших. Найти слова, чтобы описать чувство голода. А это – невозможно. Тогда надо было писать о том, как убивали младшего ребенка в семье, чтобы спасти старших детей. Так было в начале 30-х, так было в блокаду. Про блокаду она знала не из вторых уст. Если это вспоминать, можно было сойти с ума. Вернее, невозможно было не сойти с ума. Поразительно, как срабатывал материнский инстинкт. Они, не сговариваясь – какие тут могли быть сговоры, об этом не говорили, от этого вешались, бросались с шестого этажа ленинградских домов вниз, в колодец двора или сходили с ума (когда-то до войны Маша знала одну такую сумасшедшую с Лиговки, которая ходила и просила молока для младенца, которого давно уже не было), – так эти женщины, не сговариваясь, убивали своих детей, как правило, самых младших, годовалых от силы, одним способом – они прижимали их к груди. Дети тянулись к материнской груди, как тянутся к жизни, они прижимались к маме, и мамы прижимали их все сильнее и сильнее. И наваливались всеми телом, задыхаясь от ужаса и зажмуривая глаза, чтобы не видеть удивленно-испуганные личики младенцев, их маленькие пальчики, вцепившиеся в мамины руки, в платья, пока эти пальчики не замрут в скрюченном изумлении… Однако самое страшное было не это, а то, что было потом, то, ради чего убивали младенцев. Ей не надо было закрывать глаза, чтобы увидеть это.
Ребенка у Маши-промокаши не было. Но она чувствовало тепло его маленького тела, видела его ищущие губы, ручонки с крошечными пальчиками, и беззвучно плакала.
После этого Маша долго писать не могла. Она шаталась по пивным. Не потому, что запила. Ей надо было быть среди людей, кого жизнь обделила в максимальной степени – среди безнадежных, опустившихся, инвалидов без ног, без руки, потерявших дом, семью, детей. Там она была среди своих. Там она слушала их истории, пьяные признания, молодецкие фантазии о том, какие красавицы любили их, как они бросались к их ногам. Когда ноги ещё были.
Через какое-то время отходила, ужас рассеивался, и она снова возвращалась к светлому пятну от настольной лампы, к белоснежному листу бумаги. Она явственно видела этот лист и этот сияющий овал.
Машей-промокашей-гречневой кашей назвал ее дядя Николай. О, дядя Николай был исключительной личностью. Человек-легенда. Жизнь-трагедия. Он знал Эфрона, Святополка-Мирского, Скоблина, Слуцкого, Клемента. Многих знал, но выжил. Лучше ли это – что выжил, не ясно, но, так или иначе… выжил. Маша иногда в своих мечтах уносилась так далеко, что видела, как пишет роман о своем дяде – мамином брате. И это будет великий роман.
Однако, вырываясь из своей второй, лучшей, воображаемой реальности, очнувшись, она понимала, что никакого романа она не напишет. Она никогда ничего не писала и не написала, она не толкалась на коммунальной кухне, не висела на подножке трамвая, не зажигала настольную лампу с выцветшим оранжевым абажуром, не бродила по пивным и не вставала ночью к письменному столу. Во время Ржевско-Вяземской операции, выходя из окружения с группой бойцов 33-й армии, она получила ранение в голову и полностью ослепла. Но она была счастлива. Пока есть жизнь, даже такая. Ибо даже такая жизнь давала ей возможность проживать другую жизнь – счастливую, лучшую, воображаемую. Писательскую.
* * *
Почему русская культура, «свободомыслящая интеллигенция» проглядела великого русского писателя и бросилась на грудь «артистичного, талантливого и бронебойного», как оказалось, «коммивояжера с бородой», без которого, как думали и верили, «век бы нам свободы не видать», но всё одно… не видать, никогда здесь не видать… Бросилась с нетерпеливым восторгом и экзальтированной пылкостью засидевшейся в девках барыни и, поняв, что кроме первой брачной ночи – и впрямь упоительной и неожиданно потрясшей дряблый и остывающий организм российского социума – ничего уже ждать не приходится, с той же возбужденной энергией отторгла его, высмеяла и моментально забыла, отдав на откуп ряженой толпе с пудовыми крестами на жирных грудях и вертухаям, тем самым, которым недавний кумир бил «в под дых» и «звездил прямо в лоб». И не приметила человека уникального жизненного знания, чувствования страны, в которой всем нам выпало жить, удивительных личных качеств, несгибаемости и самодостаточности, писателя выдающегося художественного дарования и мастерства, зацепившего свою страну лишь как «косой дождь», и «оказавшегося в ней почти никому не нужным, неприкаянным, безгранично одиноким и даже презираемым» /Ю. Пятецкая/, – Варлама Тихоновича Шаламова, изрекшего истину на все времена: «Лагерь мироподобен. В миру, как в зоне».
«Смотритель вымерил кубатуру забоя и поставил метку – кусок кварца. ”Досюда”, – сказал он. Дугаев возил, кайлил, сыпал, опять возил и опять кайлил и сыпал. До кварцевой метки было еще очень далеко». Цифра – выполненные «25 процентов от задания» – показалась Дугаеву очень большой. «”Ну, что ж, – сказал смотритель, уходя. – Желаю здравствовать”. /…/ На следующий день он опять работал с бригадой, с Барановым, а в ночь на послезавтра его повели солдаты за конбазу, и повели по лесной тропке к месту, где, почти перегораживая небольшое ущелье, стоял высокий забор с колючей проволокой, натянутой поверху, и откуда по ночам доносилось отдаленное стрекотание тракторов. И, поняв, в чем дело, Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот свой последний сегодняшний день». (В. Шаламов. «Одиночный замер».)
* * *
Мгла навалилась моментально. Все стихло, затаилось. Только какая-то птица продолжала свиристеть в увлечении, но и она вдруг спохватилась и осеклась. Мерно тикали часы в горнице, и этот ровный деликатный звук свидетельствовал, что жизнь ещё не остановилась, не исчезла, не истаяла, несмотря. Скрипнула половица, хотя в доме никого не было. Деревья, трепетавшие за окном на ветру, пытавшиеся выпростать свои корни из вязкого земного узилища и бежать куда-то без оглядки, эти деревья замерли и вытянулись, как лейб-гвардейцы при приближении Императора. Император двигался медленно, завороженно, конь в яблоках ступал осторожно, словно боясь нарушить оцепенение этой страшной минуты. Я видел людей, которых давно уже не было на свете, которых я также давно, немыслимо давно забыл и никогда не вспоминал, и они – эти люди – появлялись и появлялись. Были они улыбчивы, задумчивы, казалось, они не замечают меня, но они шли ко мне. А я мучительно думал, почему так давно не видел их, не навещал, не звонил, что произошло между нами, какая кошка пробежала… Никакая не пробежала. Их не было. И не было меня.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?