Текст книги "Абраша"
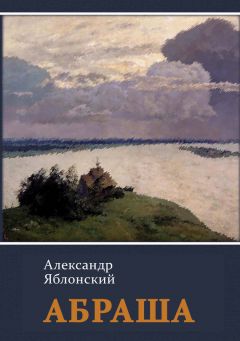
Автор книги: Александр Яблонский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Сознание человека конца страшного ХХ века, бесспорно, не может смоделировать мировосприятие, принципы мышления и поведения префекта или простого римского воина. Однако нет сомнения, не могли делать это легионеры, незачем им было. Для римлянина распять какого-то еврея – дело плевое и будничное. Рутина. Издеваться над ним, унижать и мучить – зачем? Одно дело – наказать бунтовщика. Когда надо было, рука не дрогнула; сирийский наместник, к примеру, Квинтилий Вар распял в момент две тысячи евреев во время беспорядков, возникших после смерти Ирода Великого. Деловито, буднично, без издевательств или личной озлобленности. Но этот галилеянин не был бунтовщиком, не был опасен для реалий имперского быта Рима. Он им – римлянам – ничего не сделал, если принимать евангелическую трактовку событий. Если Он был передан в руки римлян по настоянию Синедриона и, в целом, иудеев как лжепророк, римляне надругаться над Ним не могли! Он был им в худшем случае безразличен. Надо было знать римскую ментальность и особенности взаимоотношений между иудейским и латинским мирами. Римляне всегда, вплоть до Адриана, отличались терпимостью ко всему, что не затрагивало их реальную политическую власть. Это – не греки, не эллинизированные интеллектуалы Александрии, зараженные болезненным и враждебным интересом ко всему еврейству. Римляне – прагматики. Им не было никакого дела до всех этих свар фарисеев, саддукеев, ессеев… Прокуратору и его военной бюрократии вообще было неразумно влезать в хитросплетения чуждого, непознаваемого мира. Но главное – к иудаизму в римской элите относились традиционно с уважением, вниманием и порой с восхищением. Иерусалим и Рим в одинаковой степени – до поры до времени – ценили и уважали силу, стойкость и убежденность друг друга. Не случайно евреи никогда не сражались против Рима под чужими знаменами. Именно иудейская община поддержала Юлия Цезаря в гражданской войне 49-го года, за что он осыпал ее милостями и льготами. Август пошел дальше в своем благоволении к представителям тогда уже мощной италийской диаспоры: он даже воздерживался от распределения зерна евреям по субботам. При Клавдии вообще наступило благоденствие в римско-иудейском мире. Даже Тиберий, особенно после казни своего юдофобствующего министра Сеяна, проявлял доброжелательство и раскаяние, вернув тысячу ссыльных еврейских семей из Сардинии. Да, Тит разрушил Второй Храм. Величайшая трагедия для еврейства. Но для сына Веспасиана – это лишь военная практическая необходимость, не более. Он всю жизнь благоволил к еврейству, привечая Иосифа Флавия и любя иудейку Беренику – дочь Ирода Агриппы Первого… Римляне при всей своей веротерпимости пресекали малейшую угрозу своей религии, отторгали любое минимальное проявление неуважения к Юпитеру и императорскому культу и абсолютно не привыкли к противоборству, к конкуренции с другими верованиями. Они избаловались беспрекословным подчинением в этом вопросе, давая взамен все другие льготы. Все инаковерующие в огромной Империи без проблем выполняли необременительные внешние требования даже не веры, а этикета. Но евреи были из другого теста. Приспособиться к чужому и чуждому культу они не могли и не хотели, их Бог никогда никаких компромиссов не принимал, и эту бескомпромиссность они оплачивали миллионами жизней на протяжении тысячелетий. И Рим пошел им навстречу! – Уникальная ситуация в истории Империи: до торжества христианства только иудаизм был официально признан единственно свободной религией наряду с культом Императора – Юпитера. Хотя… хотя, естественно, такие привилегии раздражали. Интеллектуалов – тот особый имперский статус, который имели иудеи; простой народ – торговые успехи, бытовая отчужденность, необычность нравов. Но всё равно, наверняка, легионеры, стоявшие в Иерусалиме в тот год, не были подвержены антиеврейским настроениям в александрийском понимании. Они были служаками. Не более того. В евреях могли видеть своих врагов, к которым они испытывали уважение. Тогда у римлян было определенное военное рыцарство, и они ценили мужество, упорство и военную цепкость даже своих врагов. Но Иешуа и врагом не был. Зачем им было устраивать этот спектакль? Не кровожадны они были – они добросовестно исполняли долг. Если они выполняли «заказ» Синедриона и первосвященников, издевательств быть не могло. Не кровожадны они были, но… трусливы. Это в природе человечества – от сотворения мира до сего дня – неистребимое желание показать и доказать свою лояльность власти в наивысшей степени… Он назвал себя «Царем!». Не от мира сего его царство, свидетельствует Иоанн, но он – Иисус – царь. Это – преступление. Ибо римский император – Царь и Бог! Власть Цезаря божественна, стало быть, некто, претендующий на эту власть, потенциальный узурпатор. За это казнили не одну сотню римлян – патрициев и плебс, тысячи варваров всех мастей. Заявив перед очами Пилата – наместника Тиберия, что он отвергает царство этого Тиберия – неважно, земное или небесное, – Иисус обрек себя. И надругательство над Ним – спектакль, который невозможен без зрителя. И зрителем был не народ иудейский, а Рим в лице каждого центуриона, в лице трибуна, в лице префекта, которого через пару столетий стали называть прокуратором. Кто знает, чей донос первым положат на стол Тиберию. Здесь шутки были неуместны, так же, как и нерасторопность, безынициативность, неубедительность в выявлении своих верноподданнических чувств. Не заказ Синедриона выполняли они, а «заказ» Пилата, ревниво соблюдавшего «Закон об оскорблении чести и величия Императора»… Хотя, и это странно: если бы и хотели ткнуть носом, то назвали бы с издевкой его Императором или Прокуратором – это им ближе, понятнее. Царь же Иудейский – для римлян пустой звук…
Впрочем, это – вторично, а первично и определяющее всё остальное: как могло случиться, что они нарушили в один миг все неприкосновенные и незыблемые тысячелетиями законы и традиции?
* * *
– Ну, ты, бля, даешь. Как это не выдали? Охуели вы там, что ли?
– Да не привезли, братан. Сказали, завтра с утра будут давать.
– Так нам сегодня палец сосать что ли?
– Ёпт, придумаем что-то, Толян.
– Придумаем, придумаем. Замочил бы тебя в сортире, козел. Пошел ты…
* * *
Владимир Сократович был человеком одиноким и нелюдимым. Друзей у него не было, да и не могло быть: дружбы без открытости и откровенности, по его твердому убеждению, быть не могло, а о какой доверительности и даже элементарной искренности можно было говорить при его роде деятельности. Семьи у него уже давно не было. Не было даже собаки или кошки – ухаживать за ними он бы не мог. Поэтому на службу он приходил рано, чуть ли не к семи утра, без особой на то надобности, невзирая на промозглость, слякотность, унылую серость ленинградского утра, а именно такое утро было доминантой его восприятия неродного и, в общем-то, чуждого города; по той же причине и задерживался он допоздна, до тех пор, пока огромное холодное здание, с запутанной паутиной бесконечных коридоров, сложной конспиративной системой внутренних лестниц, переходов, лифтов, с фальшиво-дружелюбными оазисами вестибюлей, отделанных гранитом и украшенных массивными люстрами, кожаными креслами, бронзовыми светильниками, – пока это здание не вымирало, заполняясь призрачным синеватым дымком, туманным отсветом старинных мрачных замков, узилищ, келий. В эти ставшие привычными вечера не было сил и желания встать из-за стола, освещенного и согретого теплым светом казенной лампы с зеленым пластмассовым плафоном, можно было бесконечно сидеть, бессмысленно перелистывая и перебирая бумаги, теряющие по окончании рабочего дня свою значимость, силу и притягательность. Особенно он не любил выходные дни, ибо находиться в своей маленькой однокомнатной квартирке, тупо глядя на мутноватый экран телевизора или шаркая стоптанными шлепанцами, бесцельно курсировать между комнатой и кухонькой, было невыносимо тоскливо. Телевизор он откровенно не любил. Вся эта крикливая, вульгарная и бездарная эстрада его бесила, тем более что он по долгу службы иногда просматривал записи американских, английских или французских развлекательных передач, восхищаясь их профессионализмом, естественностью, обаянием и хорошим вкусом, – контраст с отечественным «продуктом» был разительный. Новостные или аналитические программы были ему откровенно не интересны, он прекрасно знал цену их информированности и достоверности, по той же причине он не смотрел расплодившиеся фильмы и ставшие чрезвычайно популярными телесериалы про чекистов, разведчиков, шпионов или «доблестную милицию» – это было просто смешно… Выписывая по привычке телепрограмму, он подчеркивал лишь «В мире животных», «Клуб кинопутешествий» и «Кинопанораму» – и то, если ее вел Каплер.
Что действительно любил, так это читать. Лучшими часами его жизни, после того как он похоронил свою Тамару, а похоронил он ее давно, в последний блокадный год, когда думалось, всё самое страшное уже позади, – так вот, лучшими часами были часы, когда он ложился на продавленный диван, закрывался старым, вкусно пахнущим прошлой жизнью халатом, ставил рядом на стул чашку с остывающим чаем или, редко, полстакана коньяка – обязательно французского, – подкладывал под голову и под спину большие пуховые подушки, зажигал старинный торшер с кружевным чугунным, частично поврежденным литьем и темно-коричневым, по краям обтрепанным и выгоревшим абажуром и раскрывал книгу. Интересы его были разнообразны, но были и настольные книги, с которыми он никогда не расставался.
Его главной книгой было «Преступление и наказание». Уже само название завораживало, каждый раз вовлекая в новое прочтение, осмысление, размышление. Раз за разом Владимир Сократович спотыкался и надолго останавливался на том месте, где Раскольников после этого падает ничком на кровать – как есть в одежде – и так остается лежать. И ничего ему не нужно, и ничего он не хочет, да и не может… Что бы ни было в дальнейшем, он кончен. А что, собственно, произошло? – Убил гаденькую старушенцию – туда ей и дорога. В принципе он сделал то, что делал и делает он – полковник Кострюшкин – и его коллеги: они очищают мир от скверны. Да, это – грязная работа, да, собственноручно убить человека, как бы он ни был омерзителен, не каждый сможет. Убивать человека страшно, видеть его уже мертвенно-бледное лицо или даже – чаще – напряженный покрытый каплями пота затылок, конечно, «и врагу не пожелаешь». Впрочем, он – Владимир Сократович – никогда никого собственноручно не убивал, если не считать военные годы. Но тогда была война, и перед ним был враг… Всегда ли враг?.. Тот безусый белобрысенький лейтенантик, протягивающий к нему руки… Нет, об этом лучше не вспоминать. Иногда во сне он видел его лицо и потом – себя, закрывшегося с головой одеялом… И было ему стыдно за свои слезы, с другой же стороны, он понимал, что переделать себя тогда он не мог. Не мог и сейчас… Хотя старался… И всё же он ощущал в себе частичку Раскольникова, и это делало его «белой вороной» среди сослуживцев. Они этого не замечали, но он чувствовал. Представить плачущим под одеялом того давешнего прыщавого вонючего Шишкина, как, впрочем, любого из его нынешних коллег – людей интеллигентных, чисто выбритых, деликатно пользующихся дорогим французским parfum?.. Бред какой-то… Кострюшкин часто ловил себя на мысли, что это какая-то особая порода людей. Новых людей. Хороших, честных людей, профессионалов, преданных своему делу, которые абсолютно естественно с улыбками и шутками поспешают после рабочего дня к своим женам и детям, покупая по пути домой новую игрушку для ребенка или забегая в «Елисеевский» за чем-нибудь вкусненьким к ужину. Он так не мог. Не только потому, что дома его никто не ждал. Не мог он встать из-за стола, до ночи оставаясь в пустынном здании, бесцельно перекладывая бумаги, еще и еще раз прокручивая прошедший день, не мог, потому что не было рядом кровати, на которую он бы бросился, как был – в одежде – и где бы оставался в неподвижности, а ежели бы и была, то всё равно он не сделал бы этого – он уже перерос своего так болезненно любимого героя, перерос, но не пророс окончательно в новый мир. Не мог он, как все, и вместе со всеми по окончании какого-то «Дела» пойти, скажем, в кино и от души смеяться над приключениями этого придурка Питкина в тылу врага или слушать смачные анекдоты Асламазяна. Каждый раз что-то отмирало в его сознании, по маленькому кусочку отваливалось, и ранки эти уже не зарастали… Долгое время он пытался «лечить» себя, выдавливая нравственные атавистические признаки ушедшей эпохи, пытаясь самостоятельно ампутировать таинственный, невидимый, но ощутимый рудиментарный орган, заставлявший его когда-то плакать после первого боевого крещения в заградотряде, а ныне сидеть в неподвижности перед гипнотизирующим желтым пятном на кожаном покрытии большого казенного стола.
Однако после знакомства с Александром Николаевичем и долгих неформальных бесед с ним, привязавшись к нему, испытывая возрастающую и абсолютно неуместную в данной ситуации симпатию, но, сделав то, что он должен был сделать и с ним, и с его женой, то есть не только выполнив свои должностные инструкции, но и, как бы это глупо не звучало, свой Долг, Владимир Сократович понял, что нравственный аппендикс, с которым он ранее безуспешно боролся, есть необходимый в его Служении компонент. Именно наличие оного, борение с ним, преодоление его отличает подлинного Магистра Великого Ордена от лощеных марионеток, бездушных садистов и тупых исполнителей, без которых его Служение, естественно, немыслимо, но время которых прошло. Будущее – за такими, как он – полковник Кострюшкин, только молодыми, умелыми, энергичными. И Совестливыми.
* * *
УКГБ по Ленинграду и Ленинградской области.
Пятое Управление.
Аналитический отдел
Дело №…/… «Лингвиста».
Совершенно секретно.
В одном экземпляре.
…2. Далее докладываю. На реплику «Морозовой», что «среди величайших еврейских имен чуть не половина – либо антисемиты, либо люди, пропитанные юдофобством», «Лингвист» отвечал, что это действительно так – начиная с апостола Павла, который «своей братской любовью к еврейству не смог перекрыть агрессии, заложенной в его полемике и проросшей в веках махровым цветом ненависти» (это высказывание я смог записать непосредственно). Однако стопроцентный представитель, как выразился «Лингвист» так наз. «социалистического антисемитизма» это якобы – Карл Маркс, который, как и Пьер Прудон или Бауэр, «испил мутной водицы из грязного антисемитского источника – из Туссенелевского труда «Евреи – короли эпохи» (цитирую точно). При прошлой встрече (в присутствии «Морозовой», а также гостей из Москвы – писателя К-кого и неработающего З-ва) в конце марта с.г. «Л», сравнивая К Маркса и Ницше в их отношении к еврейскому вопросу, утверждал, что оба они, как и «любой другой интеллектуал-антисемит, ужаснулись бы, видя претворение своих эстетских построений в реальной жизни». «Лингвист» также говорил, что, создавая своего «Антихристианина» или «Заратустру», он (Ницше. – «Л.») и в страшном своем болезненном воображении не мог представить крематории Освенцима и Бабий Яр. Так же, как и Маркс. И далее: «Этот “Карла Марла – борода” свихнулся бы от ужаса, узнав о практическом претворении своих теорий, когда победивший гегемон со товарищи выкалывал глаза барским скакунам, ощипывал живых барских павлинов и справлял нужду в уникальные вазы Эрмитажа». На это неработающий З-в добавил, что «не только: этот гегемон со товарищи еще и уничтожил несколько десятков миллионов своих же сограждан. За просто так. И по сей день восхищаются этой забавой, радуются, восхваляя главного кровавого клоуна» – т. е. тов. Сталина. Далее, в том давешнем разговоре конца марта, разговор вертелся вокруг К. Маркса, его еврейского происхождения и его, по выражению «Лингвиста», раввинистской, то есть книжной, оторванной от жизни методологии, с одной стороны, и антисемитизмом, с другой. По поводу «оторванности от жизни» «Морозова», смеясь, добавила, что Маркс, кстати, и живого пролетария в жизни толком не видел – Энгельс всё зазывал его к себе на фабрику посмотреть, но наш основоположник так и не собрался. В последний раз, кстати, «Л.» говорил об отношении Маркса к Лассалю, которого обзывал «сальным евреем», и к польским евреям – «самой грязной расе», но я подробностей не помню. Еще был разговор, что марксова политическая и финансовая теория явилась «конечным продуктом» его теоретического антисемитизма, но здесь все говорили вместе, перебивая друг друга, и я не смог точно запомнить, кто что говорил. И еще, уже в конце, когда все, кроме «Морозовой», сильно выпили, говорили об отношениях Маркса с поэтом Гейне, который тоже был, по их мнению, антисемит и влиял на Маркса, что, мол, слова Гейне: «религия есть духовный опиум» Маркс растиражировал, как «опиум для народа». Но, по мнению «Лингвиста», Маркс не знал сомнений и колебаний Гейне. Сравнивали слова Гейне о том, что евреи будут тогда свободны, когда будут свободны христиане, что эмансипация евреев – это эмансипация немцев – и слова Маркса, который якобы писал, что эмансипация евреев – это эмансипация человечества от еврейства, а также – призрачная национальность еврея – национальность торгаша, денежного мешка, торговца. Помимо этого зашел спор о Гейне и его дружбе с Марксом. По этому поводу «Л.» заметил, что, при всей их (Гейне и Маркса) близости, немецкий поэт не разделял многие политические взгляды последнего и, в частности, говорил такие слова: «Я очень боюсь жестокости пролетариата и признаюсь, из-за этого страха стал консерватором». На что «Морозова» сказала: «браво!». Потом говорили о Сен-Симоне и французских «прогрессистах», и опять «Л.» привел слова Гейне: «социалистическое будущее пахнет кнутом, кровью, безбожием и обильными побоями… я не могу без ужаса думать о том времени, когда к власти придут эти темные иконоборцы… вроде моего упрямого друга Маркса». И опять «М.» зааплодировала. Возвращаясь к еврейскому вопросу, писатель из Москвы вспомнил, что Маркс писал: основной асоциальный элемент нашего времени в иудаизме; евреи усердно вносили свой жуткий вклад в историческое развитие и этот процесс доведен до современного вредоносного уровня, далее – распад; цитирую не дословно, но по смыслу. «Лингвист» поправил писателя, сказав, что тот цитирует ранние работы Карла Маркса, в частности, его статью «К еврейскому вопросу», но потом Маркс слово «евреи» заменил на «буржуа», но тут же добавил, что даже в «Капитале» есть такой «пассаж»: за любым товаром, как бы он жалко не выглядел и отвратно не вонял, – стоит необрезанный еврей! «Морозова» пошла искать «Капитал», чтобы проверить – я уже докладывал, у «Лингвиста» огромная библиотека, я же ушел, чтобы подробнее записать разговор на интересующую Вас тему.
«Лесник»Донесение подшито к Делу №…/… «Лингвиста».Ст. лейтенант Селезнев.
* * *
Мысли у Абраши были действительно странные. То есть сначала он думал об Алене, и мысли эти были скорее грустные. Он искоса посматривал на нее, на прядь волос, на прижатые к подбородку руки, стиснувшие край одеяла, прислушивался к ее ровному, почти неслышному дыханию и понимал, что теряет, возможно, самое дорогое в своей второй жизни. Впервые за последние девять с лишним лет Абраша всерьез задумывался, а почему бы ему не жениться.
Потом он увидел занесенную снегом избушку, одиноко темнеющую в бескрайнем снежном пространстве. Ему всегда очень хотелось оказаться в таком маленьком изолированном мирке, в хорошо натопленной, чуть угарной избе посреди холодного безлюдного мира. Часто, засыпая, представлял он, как усталый, замерзший возвращается в это свое убежище, стряхивает снег, облепивший его бороду – в этот момент он всегда представлял себя с густой бородой, которую в реальной жизни никогда не носил, – снимает тулуп, валенки, вносит охапку дров из предбанника, растапливает печь в доме, а затем в баньке, протирает влажной тряпкой дощатый, грубо сколоченный стол, вынимает из погреба квашеную капусту, соленые огурцы, грибы, открывает банку тушенки, вываливает ее содержимое в кастрюлю и вместе с отварной картошкой ставит на печь. Бутыль с самогоном он вынет позже, после парилки, чтобы не потеряла она свою морозную прелесть. Изба прогревается… А за окном метет, завывает, темень.
Сейчас же в углу, за печкой, на кадке кто-то сидел. Лица ее Абраша не видел, но он знал, кто это.
– Ты бы одобрила?
– Конечно. Давно пора. Засиделся.
– А как она?
– Блеск. Лучше не найти.
– Ревновать не будешь?
– У нас здесь не ревнуют.
– А вы?
– Сыночек, твой выбор – наш выбор.
– Она вам нравится?
– Она же тебе нравится.
– Нет. Я ее люблю.
– Конечно. И мы ее полюбим.
Абраша понимал, что голоса эти не могут звучать, их не было и не могло быть, потому что и его жена, и его родители уже давно умерли. Но он, услышав их, не удивился. Более того, он ждал их.
Абраша умиротворенно подумал, что он же спит, и это ему снится, и хорошо бы не просыпаться, но это невозможно… Он не был до конца уверен, что это сон, и для верности попытался открыть глаза. Глаза у него открылись, но голоса не исчезли. Значит, проснулся во сне, такое бывает, – обрадовался он и продолжил такой важный для него разговор.
– Она будет ждать тебя, встречать после твоих дежурств в этой занюханной сельской больнице. Ты по-прежнему там медбратом?
– Да, мам. На полставки.
– Ну, как ты можешь! С твоим-то образованием, с красным дипломом, аспирантурой, диссертацией.
– Оставь его, слышишь, оставь. Он уже большой мальчик.
«Папа всегда меня защищает», – улыбнулся Абраша и тут же сообразил: разве во сне улыбаются!? – Значит, он просыпается. И действительно, еще одно усилие и глаза открылись. Оказалось, что он проснулся в своей детской кроватке. Комната была заполнена призрачным светло-розовым воздухом, который рассекал ярко-желтый солнечный луч, высвечивая плотную смесь мельчайших пылинок. Интересно, пылинки ведь тоже имеют какой-то вес, пусть малипусенький, но вес, однако они не опускаются, а неподвижно зависают в воздухе. Странно… Потом он подумал, что во сне нельзя так ясно мыслить. А что есть сон, что – явь? Может, когда он спит, это и есть настоящая жизнь? Высокий, знакомый до мельчайшей трещинки потолок, окаймленный причудливой лепниной – верный спутник его детства – казалось, опустился ниже, бережно прикрывая его. Всё стало на свои места: раз он в детской кроватке, значит – еще маленький, поэтому голоса мамы и папы действительно могут звучать… В дальнем правом углу потолка причудливая комбинация орнамента лепнины, пыли, теней и трещин образовала странное лицо – в детстве Абраша боялся этой незнакомой физиономии, внимательно смотревшей на него своим одним глубоким темным глазом. Сейчас же он не испугался, а даже обрадовался, как старому знакомому. «Ну, вот, опять ты со мной». Его «приятель» изменился: у него появился второй глаз – потолок был высокий и пыль там не протиралась, наверное, со времен блокады. Это же Цицерон – радостно догадался Абраша, – пусть слушает, коль охота… Цицерона он никогда ни во сне, ни наяву не встречал, но решил – Цицерон. Может, непропорционально большой мясистый нос, нарочито широкий у основания, свисавший над короткой надменно опущенной книзу верхней губой – типичный латинский анфас, спровоцировал это решение, а может, дело было в том, что Цицерон был одним из постоянных участников интеллектуальных баталий, разыгрывавшихся в воспаленном ночном сознании Абраши.
– И у вас, может, все-таки появятся дети…
– Да, мы бы хорошо жили… если бы жили… с ней легко, спокойно. А если бы с ребенком не получилось, мы бы взяли собаку – большую бездомную дворнягу…
– Правильно!
– И она бы сияла от свалившегося на ее голову счастья.
– Ты прав, родной, собака – самый преданный друг, она никогда не позволила бы случиться…
– Не надо об этом.
– А если родится мальчик…
– Или девочка…
– Ты кого хочешь?
– Я жить хочу.
Что-то зеленое, похожее на гигантский мыльный пузырь… или не пузырь, скорее, на медузу, стало вырастать из-под пола, неудержимо заполнять комнату, подбираться к нему, поглощая ножки кровати, стало трудно дышать, вернее, Абраша не смог вдохнуть воздух, как будто он был под водой или в комнате, из которой каким-то образом – каким? – выкачали воздух, стало жутко, он вскрикнул во весь голос, но беззвучно, как в вату, покрылся холодным пóтом и открыл глаза.
Алена глубоко вздохнула и перевернулась на другой бок. Впрочем, если с ребеночком и получится, собаку нужно в любом случае взять в дом… И все-таки странно – мысли Абраши сделали нелепый разворот, – странно: тысячелетиями законы – традиции не нарушались ни на йоту. И в одну ночь – сразу все. Причем, странности начались раньше. Еще с изгнания менял из Храма. Кстати, откуда это – «ни на йоту»? «Йота» – буква греческого алфавита – «ι». Откуда это выражение – «ни на «ι»? Да черт с ним… Почему, почему они всё нарушили, в первый и в последний раз за тысячелетия? Именно тогда…
Цицерон не исчез, он только переместился и присел на край кровати. Алена даже не заметила. Поразительно, всё же, не сплю, вот Алена рядом посапывает… А этот старый мудак-краснобай тут как тут. Но и на сей раз Абраша не очень-то удивился. Он понял, что не спит, а находится в том, хорошо ему знакомом, состоянии между сном и бодрствованием, когда исчезают галлюцинации сна, но и реалии суетного быта не мешают спокойно мыслить, как бы беседуя с самим собой. «Ну а теперь у меня и собеседник появился»…
– Здорово, старый антисемит.
– Quousque tandem! (До каких пор!)
– Ну, прости, прости, хотя ты действительно антисемит! На суде доказано!
– Concretus!
Конкретно базар устроили. Наутро Абраша попытался вспомнить свои речи, но не смог. Однако во сне сам удивлялся, какой он умный, и какая у него латынь – наяву он знал лишь пару слов. Он припомнил этому Цицерону и про инвективы в процессе Флакка, за что краснобая выгнали из Рима, и его антииудейские выпады типа «евреи принадлежат к темной и отталкивающей силе, евреи рождены для рабского состояния». Марк Тулий в долгу не остался: «Testimonium paupertatis! Хватит пить из гнилых источников – на вашем варварском языке нет ни одного перевода моих речей в защиту Флакка! Посмотрите немецкие или английские переводы, глупец! Вы переводите TURBA, как “шайка” а это – “толпа”». – Какая толпа, какая шайка? – Только через несколько дней Абраша вспомнил известные слова Цицерона: «Ты знаешь, как велика эта (еврейская) шайка, сколько в ней спайки и как она сильна». Как это всплыло во сне? – Абраша в долгу не остался – тонкий знаток оказался: «согласись, если бы Флакк присвоил, мягко выражаясь, не еврейские пожертвования Храму, а проявил бы другие злоупотребления, ты выступал бы на стороне обвинения, как было с сицилийским губернатором Варресом – как ты блестяще его обличал, как клеймил. С Луцием Валерием Флакком – всё наоборот, преступления по сути те же, но его ты защищаешь». Тут взорвался Цицерон: «что вы знаете о партии Катилины, которая во что бы ни стало пыталась очернить и меня и Флакка – своих кровных врагов, что вы знаете о толпе на Аврелиевых ступенях – об еврейских вольноотпущенниках, мощно пополнявших ряды популяров, ненавидевших нас, что вы вообще знаете… horribile dictu». Короче, поговорили…
«Кажется, я схожу с ума, – подумал Абраша. – Точно, был такой сумасшедший в каком-то смешном романе, выдававший себя за Марка Тулия Ци…» – церон обиженно выпятил свою высокомерно оттопыренную пухлую нижнюю губу и исчез.
«Как это могло произойти», – продолжал свои размышления Абраша уже в полном одиночестве. Алена мирно спала рядом. Больше никого в комнате не было. Абраша стал осторожно подминать руками под спиной подушку – так было легче дышать.
* * *
Впервые об Ариадне Скрябиной Николенька услышал от папы. Разговор зашел о Корчаке, о котором Николенька собирался писать сочинение. Это было, кажется, в начале 10-го класса. Тема сочинения была задана без затей: «Твой идеал». Мама сказала, что надо выбрать какого-либо литературного героя из школьной программы, может, Болконского, может, Левинсона («ты спятила» – это папа) или, или… найти еще один идеал мама не смогла. Папа, как всегда, заспорил – они с мамой любили спорить – хлебом не корми, – а Николенька обожал жадно слушать эти споры под низко висящим темно-оранжевым абажуром. Так вот, папа сказал, что лучше выбрать реальную историческую фигуру, скажем, кого-нибудь из декабристов, Лунина, например, или Фонвизина. Николенька выбрал Корчака. Собственно, он не выбирал. Это имя пульсировало в нем уже второй день, а история этого человека перевернула всё его сознание, все оценочные критерии и жизненные принципы.
Случилось это, как ни странно, на уроке математики. Лера Павловна пытала у доски Олю Ченкину. Оля была девушка красивая, добрая, но очень глупая и по жизни, и, особенно, в точных науках. Промаявшись минут десять у доски, она, наконец, не выдержала и сказала – ни к селу, ни к городу, давясь слезами и опустив покрасневшее, сделавшееся сразу некрасивым, лицо: «За что вы меня… нас так не любите?»… Лера Павловна резко обернулась и уставилась на Олю. Та, по воцарившейся в классе тишине – даже Абрамян перестал списывать у Кольчужкина – и по выражению лица Леры Павловны, почуяла, что ляпнула что-то совсем уж не то. «Садись», – быстро сказала Лера – или «Марина Влади», как звали ее за глаза ученики – длинные русые волосы, синие, чуть раскосые глаза, струящиеся под строгим облегающим платьем очертания фигуры – колдунья! Она подошла к окну и долго смотрела на зеленые купола Спасо-Преображенского собора, прекрасно видные из окон их класса. Такой тишины в 10-м «А» не было со дня основания 182-й школы. Потом Лера Павловна обернулась лицом к классу и непривычно тихим голосом стала рассказывать о Корчаке. Что-то Николенька про этого учителя и писателя, погибшего вместе со своими учениками, уже слышал, но то, что и как рассказывала «Влади», его поразило, как и поразили последние слова Лера Павловны, произнесенные уже после незамеченного звонка с урока: «Звучит, наверное, нелепо, но я бы не смогла поступить иначе». Она сказала это шепотом, но так убедительно, что не поверить в это было невозможно. Бедная красивая Ченкина заплакала. Николенька сжался и в одно мгновение стал взрослым.
Он попытался найти в библиотеке данные о Корчаке. Нашел: «Интернат» с предисловием Крупской – раритет, 20-е годы, «Когда я снова стану маленьким». С удовольствием прочитал «Короля Матиуша Первого» и понял того офицера, который предложил Корчаку покинуть толпу обреченных.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































