Текст книги "Абраша"
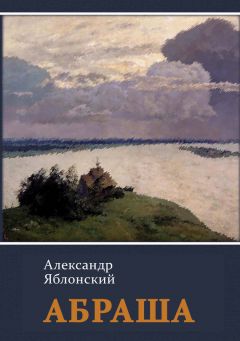
Автор книги: Александр Яблонский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Однако не это главное. А главное: почему в одну ночь было нарушено всё, что можно было нарушить?!
* * *
«Как в кино» – почему-то подумалось ему, и он закричал. Крик застрял в груди. Длинный еще раз ударил старика по лицу. Она кинулась к ним. Полы расстегнутой шубы листьями бананового дерева накрыли объектив, и он мгновение ничего не видел. Она летела к ним. Он беззвучно кричал и пытался поспеть за ней, схватить за руку, за полу шубы, за шарф, остановить, но ноги врастали в асфальт, в жидкую снежную кашицу. Длинный отскочил, она кинулась к упавшему старику, но из тени вынырнул маленький крепыш. Он легко, как бы шутя, ударил ее кулаком в спину, она остановилась, обернулась, удивленно развела руками, как будто неожиданно встретила старого знакомого, и стала садиться на землю. Его взгляд поймал лежащую на земле узкую короткую железную трубу. Он потянулся к ней: «Надо успеть, надо» и опять подумал – не к месту и не вовремя: «Как в кино, а раньше думал, в кино всё придумано». И еще успел: «Я должен проснуться». Рука дотянулась до трубы. Он услышал, как через секунду хрустнет череп низкорослого, и проснулся.
* * *
Сколько помнилось, он всегда был сдержан, скрытен, всячески подавлял в себе, почти всегда успешно, «женские сантименты» и очень гордился этим. В детстве часто думал o себе почему-то в третьем лице: «Какой он сильный духом мальчик, другой бы расплакался на его месте, а он – ничего, сжал губы и молчит. Настоящий мужчина, а не какая-нибудь красна девица»… Он гордился собой и стеснялся этой гордости, гнал от себя дурацкие мысли, потому что неприлично так думать о самом себе, но они непроизвольно лезли в голову – правильные были мысли, хоть и нескромные.
Прозрачная старушка из полуподвальной квартиры, где жила семья дворника, и где этому «Божьему одуванчику» оставили маленькую комнатку, видимо, в память о том, что ее родители когда-то владели всем этим многоэтажным доходным домом, так вот, эта старушка – «привидение» – как-то назвала его «Коленькой-Николенькой», и это непривычно ласковое имя так поразило его, что ночью, забившись под одеяло и свернувшись в комочек, вспомнив и это нежное слово, и выражение ясных глаз, окутанных лабиринтом извилистых глубоких морщинок, и интонацию неожиданно низкого, чуть хриплого, прокуренного голоса, он плакал так беззвучно-сладко и безнадежно, как не плакал никогда в жизни ни до того солнечного январского дня, ни после. Впрочем, он вообще почти никогда не плакал, потому что не признавал сантиментов, как и его папа.
Папа его не баловал. Он вообще был немногословен, сдержан в движениях, эмоциях, особенно в похвалах. В институте его отца уважали и побаивались не только студенты, но и коллеги – преподаватели и даже профессора. Профессора, наверное, были все с седыми бородками клинышком, в ермолках и с сучковатыми палками в жилистых руках. Во всяком случае, так он себе их представлял, и, когда увидел на папином пятидесятилетии двух профессоров, очень удивился, разочаровался и расстроился: один был совершенно лысый, маленький и пузатенький, c бегающими глазками и влажными суетливыми в движениях ладонями, постоянно облизывающий губки – какой-то слюнявый и скользкий, а второй – мрачный, высокий, с торчащими во все стороны густыми черными волосами и синей невыбриваемой щетиной, доходившей до самых глаз; «типичный Карабас-Барабас, если бороду отпустит», – подумалось тогда. Причем «Карабас-Барабас» пил коньяк рюмку за рюмкой, почти не закусывая, и не пьянел, что было поразительно. Значительно позже он подозревал, что именно этот «Барабас» и написал донос на папу, но, как оказалось, ошибался.
Папа был доцентом, и мама постоянно «пилила» его, что давно уже пора сесть за докторскую: «даже такие бездари, как Павлушкин или Кочемасова, уже давно «украшают», в кавычках, профессуру, а ты – самый яркий еще со студенчества всё торчишь в доцентах», – на что папа отвечал неизменно тихо, но твердо: «отстань, не пили»… Однако один раз папа, отвечая на мамины призывы, добавил: «отстань, не пили… у нас сейчас лучше не высовываться». Эта фраза запомнилась на всю жизнь. То, что его отец действительно «выдающийся ум», он слышал не только из маминых уст. Так говорили все папины сослуживцы, особенно тогда, когда его поблизости не было, так как папа эти нежности не любил и всегда повторял: «не верю я им…».
Наказывали его редко. Пару раз папа его выпорол, однако оба раза за дело – это ему было абсолютно ясно. Он не был драчуном, но когда ему один раз заехали в дворовой свалке по носу, а другой – подло подставили ножку, и он упал на глазах всего двора лицом в лужу, в этих случаях он не смог себя сдержать и отколошматил обидчиков, не помня себя от обиды, боли и стыда. Один из тех, кому он пустил кровянку, был сыном человека, которого все очень боялись, причем родители больше, чем дети. Этот Шишкин-папаша работал в «Большом доме», никто не знал, кем, но слова «Большой дом» завораживали сами по себе, как завораживает питон свою возможную жертву, даже если и не думает задушить ее в своих объятиях. Позже он узнал, что этот страшный папаша был простым завхозом, а может, и просто дворником, но… в «Большом доме». Страх, внушаемый Шишкиным-отцом и тем учреждением, в котором он служил – пусть даже дворником, – запомнился и со временем наполнился притягательной силой: хорошо, когда тебя боятся, хорошо принадлежать к такому всесильному, наводящему ужас клану, быть в нем своим…
Его семье Шишкин-старший ничего плохого не делал, как, наверное, никому во дворе. Запомнился он старым спившимся человеком, от которого всегда пахло… То ли мышами, то ли дерьмом.
* * *
…Понимаю, что «не царское», то бишь не научное это дело, но ничего не могу с собой поделать. И студентам не скажешь, с коллегами не поделишься, даже моей очаровательной и умненькой – слишком умненькой – аспирантке – я Вам о ней неоднократно с гордость рассказывал – не заикнешься, хотя она бы меня поняла. Только Вам, мой дорогой Сигизмунд Натанович, могу признаться: с той поры, как стал руководителем диссертации Ир. Всеволод., т. е. погрузился в Смутное время, повешенный мальчик не дает мне спать, иногда читаю лекцию или семинар веду, в трамвае трясусь или ужинаю, – не поверите, вижу этого несчастного Ворёнка. За что? Он был так мал и худ, а веревка – специальная, «фирменная» для «вора» – была так непомерно толста – она плелась из мочал, – что он не мог быть даже задушен моментально: узел не затягивался вокруг его тонкой шеи, и висел он долго – несколько часов, коченея на холоде… Что он чувствовал – беззащитный, маленький, одинокий. Страшно, больно, холодно… «За что!»… Народ ходил и смотрел на этого четырехлетнего мальчика, мучительно умиравшего на виселице у Серпуховских ворот… Что он сделал плохого этим людям? Что он мог сделать? – Своим существованием напоминать «победителям» Смуты – Романовым, прежде всего, да и всей элите от Голицына, Лыкова, Черкасского до Мстиславского и Трубецкого об их роли в организации и разжигании этой Смуты? Или они вымещали на трех-(или четырех-?) летнем младенце взаимное озлобление? Возможно, в крови младенца они топили осознание своей греховности и страх перед расплатой? – Хотя вряд ли: это возможно у людей совестливых… Или же таким образом снималась потенциальная угроза провозглашенному и уже полтора года царствовавшему Михаилу? – Бред! Даже до избрания Романова среди претендентов на престол Ивашка был самый незаметный, самый безнадежный. Ни Марина, ни Заруцкий не имели фактически никакой опоры. Но, что бы ни было, откуда такая злобная, уникальная даже для этого века, жестокость к ребенку, чья вина была лишь в том, что он был, как говорится, «плодом любви». Поразительно, но Марина, лишь терпевшая своего первого мужа – Дмитрия, обладавшего несомненными достоинствами, искренне полюбила своего второго Димитрия – «Тушинского вора» – личность ничтожную; во всяком случае, она была единственной, кто искренне оплакивал его гибель (как свидетельствуют очевидцы: «…царица, бывшая на последних месяцах беременности, выбежала из замка (в Калуге, где содержалась в то время), рвала на себе волосы, просила убить ее, нанесла себе несколько ножевых ран, оказавшихся неопасными…»).
Кстати, несколько свидетелей, никак между собой не связанных, говорят, что была метель, «снег бил мальчику в лицо», однако по всем официальным данным он был казнен в середине июля 1614 года. Могла ли быть метель в середине июля, бывало ли такое летом? Во время страшного неурожая 1600–1603 гг. летом были заморозки, но вот метель?.. – Вам не попадались ли данные о подобных погодных феноменах? Или это был, действительно, «знак Божий» (звучит нелепо в устах убежденного атеиста)?
…Пишу это, а перед глазами палач, который несет плачущего мальчика к виселице, прижимая к себе, прикрывая от снега его обнаженную головку, и успокаивает…
* * *
Алена всегда приходила с улыбкой на лице и сюрпризом, скрываемым в спортивной синей сумке. Сюрприз имел свой неповторимый вкус. Иногда это была буженина собственного изготовления, иногда пирожки с мясом и грибами, в которых тесто было пергаментно прозрачно, а начинка – сочна и обильна.
Третьего дня, а вернее, неделю назад, она удивила Абрашу фаршированной рыбой, приготовленной по рецепту Ариадны Феликсовны – самого авторитетного кулинара в их поселке.
Обычно она появлялась неожиданно, около одиннадцати вечера. В это время, ознакомившись с прогнозом погоды на завтра, Абраша выключал маленький переносной телевизор, стоявший на холодильнике «Днепр» в кухне, совершал вечерний туалет и настороженно прислушивался к звукам на улице. Иногда он даже выходил на крыльцо и пытался проникнуть взглядом в пропитанную сажей вату ночи, окутывавшую его сруб. Он ждал ее всегда. Но приходила она редко и всегда неожиданно. Вот и сегодня, он уж и помылся, и разделся, то есть снял ватник, который, казалось, прирастал к его телу за день, выпростал ноги из солдатских галифе, стащил протертые боты, доставшиеся ему в наследство от деда Фрола – местного сторожа, завхоза и председателя правления, его, Абраши, единственного когда-то собутыльника, угоревшего прошлой зимой в бане, где он уснул, находясь в сильном подпитии, – и надел фланелевую в красно-синюю клетку рубашку – «ковбойку», выцветшие лиловые шаровары, войлочные тапочки, и решил было для лучшего сна, не торопясь, выпить стаканчик, чтобы завтра с утра начать, как следует, не просыхая. Он вынул непочатую «Московскую» и заветное «Мартовское», открытую банку «Бычков в томате», раскрыл было Фаррара на заложенной странице, как раздался стук – знакомый, долгожданный, условный: «Вы-ходи-ланаберегКатю-ша».
– Ну вот, Абрань, и я.
– Вижу, вижу, заходи, не стесняйся.
– Да куда ж мне стесняться.
Она торопливо разделась, но тут же, спохватившись, накинула абрашин ватник и выбежала во двор. Заскрипела ручка колодца. Через минуту она внесла полное ведро воды – Алена удивительным образом умела носить полные до краев ведра, никогда не расплескав ни капли, – и взгромоздила его на печь. Раньше Абрашу коробила эта простота, эта обыденность, которые предшествовали самому интимному, самому таинственному, самому сокровенному и возвышенному, что было у него – здесь уместно отметить, что Абраша был по природе своей человеком застенчивым, замкнутым и щепетильным в вопросах личной жизни, которая, кстати говоря, была у него не богата событиями. Однако со временем он привык к этим ведрам воды, к тазику, заранее устанавливаемому в углу кухни у печи. Видя эти приготовления, он посмеивался, поскребывая свою трехдневную щетину, и приговаривал: «Чистота – залог здоровья».
Алена с шиком раскрыла свою синюю сумку-«самобранку» и извлекла завернутую в фольгу тарелку – в ней оказалась селедка «под шубой», – майонезную банку печеночного паштета со шкварками и холодный кусок телятины.
– А какой сегодня праздник, мать моя?
– Грибы твои накрылись медным тазом, и ты пролетел, как фанера над Парижем.
– А с чего ты так радуешься?
– Так тебя вижу.
– Ну, ладно тебе, лапшу мне вешать.
– А тебе лапша к лицу – ишь, как узорно свисает… Ну, ладно, расцеловался… Ну… Ну подожди, перекуси, пока свежее. Только сейчас сготовила. Настя всё ворчит – ты его, охламона, кормишь, кормишь, а он тебя к венцу не зовет.
– А ты что, хочешь в ЗАГС со мной?
– Я что, с дуба рухнула?.. Ну перестань, ну покушай… Совсем исхудал. Ребра у тебя на спине тоненькие, как гнутые спицы, все – наперечет. Господи, за что тебе все мученья!
– Ладно, не кудахтай. Выпьешь?
– Это ты выпей. И закуси. Тебе когда на дежурство?
– В следующую неделю.
– Ну, тогда можно и выпить, благословясь.
– За что выпьем?
– За то, чтобы хорошо всё было.
– Это значит за тебя. Хорошо только тогда, когда ты рядом.
– Не надо, Абрань, а то я слезливая в последнее время стала.
Они выпили. Впрочем, пил он, а она на него смотрела и радостно улыбалась. Поговорили о погоде, о грибах, о политике: будет ли после Андропова лучше или хуже, может, перестанут хватать днем в банях или магазинах и стоило ли самолет с несчастными сбивать. Абраша сказал: «Что взять с людоедов», но Алена засомневалась, а вдруг шпионы там были. Потом скомандовала: «Всё, иди ложись, я сейчас».
Он лег и слушал, как струйка воды звенит по дну таза, звон сменился всплесками, затем что-то долго шуршало, финальным аккордом прозвучал скрежет, извлеченный дном пустого ведра о кирпич печи, и она нырнула к нему под одеяло.
– Согрей меня!
– Так натоплено.
– А ты согрей.
Такой диалог происходил каждый раз. Она прижималась к нему, и они лежали, молча и неподвижно. За окном чуть завывало. Голые ветки жалобно постукивали в окно. Так собака стучит хвостом по деревянным опорам крыльца, просясь в дом.
– Почему Бог наказал меня, и не могу я понести от тебя?
– Так это он не тебя, а меня наказал.
– Нет, у тебя всё в порядке. Это – моя беда.
– Ничего. Мы эту беду поправим.
– Думаешь?
– Постараемся.
– Ну, давай, старайся.
И он старался. Старались они оба, и радостные были эти старанья, и светлыми были минуты забытья, и жадными пробуждения, и бездонными пропасти, в которые проваливались они в судорожных, неразрывных объятьях.
Когда она засыпала, он смотрел, облокотившись на руку, – Алена спала только на правом боку – на ее чуть вздернутый нос, на светлые волосы, серебрившиеся в слабом лучике лунного света, пробивавшегося сквозь подмерзшее стекло окна, на губы, чуть шевелящиеся во сне, на ее руку, сжимавшую тонкими, длинными пальцами одеяло под самым подбородком, на ее маленькое прозрачное ухо и на свою кисть, совсем недавно такую сильную и гибкую и внезапно исхудавшую, изнеможенную и думал: «Хорошо. Не зря я жил. Не так, как хотелось, но жил».
Он лег на спину, прислушался к ее ровному дыханию и успокоенно стал перемещаться в свой мир – мир своих фантазий, сомнений, мыслей. А мысли у Абраши были странные.
* * *
– Глянь-ка, наш Захар опять гулять пошел.
– Так он теперь по три разу в день ходит.
– Родион его выгуливает.
– Да, повезло старику. Где он его нашел?
– Где, где – в Вологде – где-где-где… на улице, где. Здрасте, Захар Матвеевич. Никак опять пошли пройтиться.
– Здорово, девоньки!
– Ничего себе, девонек нашел!
– Каков парень, таковы и девахи.
– Как ваш Родик поживает?
– Таки ничего, спасибочки, радует меня, радует.
– Ну, бывайте. Здоровьица вам, Захар Матвеевич, храни вас Господь.
– Зай гизунд, девочки-припевочки.
– … Хороший он мужик. Тихий, незлобивый. Несчастный только. Один да один.
– Сейчас-то он светится.
– Еще бы, такого дружка нашел. Раньше, помнишь, во дворе, как встретит, не оторвать было. Замудохает, бывало, разговорами.
– Ведь он молчал целыми днями в своей квартирке. Не со стенами же говорить.
– Так и я о чем! А теперь он с Родиком беседы ведет. Сама слышала. Рассказывает ему о политике, о прогнозе погоды, о нас с тобой сплетничает, старый хрен. Одно не пойму, это хорошо собаке человеческое имя давать? Ну, назвал бы Диком или Джеком – всё не по-нашему. Или Шариком – Тузиком.
– Сама ты Шарик – Тузик!
– Не знаю, не знаю. По-моему, это грех собаке имя человеческое давать. Особенно близкого.
– Какое наше дело. Ему хорошо, собаке хорошо, и – слава Богу. А Родионом его сына звали, земля ему пухом. Хороший парень был, добрый, воспитанный. Теперь этот Родик стал ему роднее всех людей.
– Да… неисповедимы пути Его…
* * *
Ира лучше всех в классе играла в баскетбол. Высокая, подвижная и очень прыгучая, она почти всегда подбирала мяч под кольцом, перехватывала в воздухе, владела дриблингом и приносила больше всех очков. Поэтому она была звездой класса, в нее влюблялись и одноклассники и даже старшеклассники, которые обычно на мелочь пузатую внимания не обращали. Однако она была неприступна и ни с кем даже не целовалась. Вернее, один раз попробовала – с Никодимовым из параллельного 8-го «Б», но ей не понравилось: от Никодимова пахло пóтом и жареным луком, целуясь, он сопел, а нацеловавшись, стал хихикать, как придурошный, и прыгать на одной ноге с проезжей части на тротуар и обратно.
Здесь надо сказать, что Ира ко всему прочему быстрее всех бегала стометровку, была коротко – «под мальчика» стрижена, плавала в бассейне – это была огромная редкость – и занималась музыкой. С пяти лет к ней ходила старенькая учительница музыки – добрая тихая женщина, не утомлявшая свою способную ученицу гаммами, этюдами и скучными сонатинами Клементи или Кулау. Они играли в четыре руки легкие переложения популярной оперной или балетной музыки, иногда старинные русские романсы – вместе пели, и Ира аккомпанировала. Ире такие уроки очень нравились, но, когда ей исполнилось десять лет, папа решил, что успехи недостаточны, и Сарре Евсеевне, сделав дорогой подарок, от дома отказали. Пришла новая училка, которая Ире тоже очень понравилась, – она была элегантна, от нее пахло хорошими духами, руки были очень мягкие, теплые, сухие, ими она поправляла локти, не давая им прижаться к туловищу, кисть, которую она легко поглаживала, говоря: «расслабь, не зажимай», она никогда не повышала голос, часто приносила маленькие подарочки, и вообще – нравилась, и всё тут. Иногда, как бы невзначай, она поглаживала Иру по лицу, по шее, несколько раз после удачных уроков даже поцеловала ее – быстро, легко, но у Иры перехватывало дыхание и приятно ныло в низу живота. У Кристины Леопольдовны губы были как руки – теплые, сухие, нервные.
Когда Ире исполнилось девять лет, родители подарили ей щенка. У него были толстые лапы, большой животик, длинные уши и карие глаза. На всех взрослых он смотрел с пониманием и готовностью к послушанию, на Иру же – с преданностью и обожанием. Даже слюни пускал и несколько раз описался от восторга, когда она возвращалась домой после непродолжительного отсутствия. Он спал в ее комнатке. Когда родители затихали, она тихонько брала Тимошу в свою кровать, гладила его, рассказывала о своих делах и проблемах. Так они засыпали – она, положив свою ручку на его маленькое тельце, а он, как человечек, устроившись головой на подушке, посапывая, иногда облизывая ее пальцы в знак согласия и понимания, – и не было никого на свете, счастливее их, и никогда больше в своей недолгой жизни не спала Ира так легко, сытно, безмятежно.
После смерти бабы Веры лето они обычно проводили на даче, которую снимали в Комарово. Мама ушла от папы. Может, наоборот – папа бросил маму. Ира подробностей не знала, так как бабы Веры не стало, и некому было посвятить ее в тонкости семейных пертурбаций. Мама вышла замуж за Леонида Николаевича. Он был мужчина спокойный и медлительный, международной политикой не интересовался, но в доме все было в порядке: провода не болтались, замки закрывались и даже открывались, Ирина кровать обрела законную ножку – до того ее заменяла стопка книг. Мама перестала ездить на гастроли. «Устала, наездилась», – говорила она соседям и друзьям, но Ира подозревала, что маму и не приглашали. Она перешла из своего Бюро в «Ленконцерт», где прилично зарабатывала, но по радио уже не выступала. Ира привязалась к ЛеоНику – отчиму, и он, видимо, полюбил ее, во всяком случае, внимания от него было больше, чем от мамы, и с ним Ире было уютно и надежно, как с бабой Верой.
Закончились поездки в деревню на парное молоко и яйца из-под кур. Отдых принял цивилизованный характер. На Комарово остановились потому, что недалеко от города, электрички часто ходят, снабжение приличное и публика интеллигентная – академики, профессора, артисты. Иногда можно было увидеть прогуливавшихся по тихим комаровским улицам Толубеева, Лебзак или Меркурьева, а один раз Ира столкнулась нос к носу даже с Черкасовым, а другой – прямо у продовольственного магазина – с Юматовым – его Ира обожала больше всех. Лена – дочь соседей – уверяла, что видела Любовь Орлову, но Ира ей не верила. Так что в Комарово было хорошо. Один раз, правда, съездили в Молдавию – на фрукты-овощи – но там стояла жара и пыль столбом, купаться в речке из-за обилия слепней было невозможно, они уехали раньше срока, проторчав остаток лета в городе. В Комарово же они жили среди высоких, прямых, пахнущих смолой сосен, кустов смородины и малины, грядок с клубникой, парничков с огурцами и вечнозелеными помидорами. Ире там нравилось в любую погоду: и в сыроватые, дождливые холодные недели, пронизывавшие лето ленинградских пригородов – эти недели были наполнены интересными книгами, перешептыванием с подружками в одинаковых клеенчатых дождевиках, ожиданием грибов – это под осень, – и в знойные июльские дни, которые всегда неожиданно обрушивались на изголодавшихся по теплу дачников ярким светом, солнечными бликами, мечущимися по зеркалам, чайникам, хромированным изгибам спинок кроватей, по фотографиям незнакомых людей, развешанным на стенах, стеклам распахнутых окон, скользящими с потолка на печь, с печи на стены, со стен на лицо, оглушающим ликованием ошалевших от радости птиц, радостными возгласами всех мам, населявших этот старый двухэтажный дом: «Вставай, вставай, сегодня – солнце!», когда поспешно скидывались и недалеко прятались свитера, резиновые сапоги, плащи, шерстяные пледы, теплые кальсоны, телогрейки, вязаные носки, калоши, обогревательные батареи и прочие необходимые атрибуты лета на Карельском перешейке.
В такие теплые дни все шествовали на Щучье озеро – не торопясь, с наслаждением вдыхая прогретый сосновый воздух, пахнущий смолой, сухим песком, вереском, хвойными иголочками и молодыми еловыми шишками. Их иногда перегоняли велосипедисты, очень редко – «Москвичи» или «Победы», передвигавшиеся тяжело, вперевалочку, перегруженные дачным скарбом. Тимоша радовался особенно бурно: лаял, не умолкая, носился вперед, назад, кругами. Собственно, из-за него и шли все медленно, с остановками, давая ему время обнюхать все кустики, пометить и переотметить кочки, основания телеграфных столбов и деревьев, пни и подозрительные следы пребывания его сородичей. Спешить было некуда и незачем. На озере проводили весь день, с собой брали полдник в виде бутербродов с колбасой, с сыром, холодным мясом, помидоры, вареные яйца, загодя дома очищенные, огурцы, яблоки, спичечные коробóчки с солью и питье – кто постарше, те – «Боржоми» или «Ессентуки» № 17, для молодежи – лимонад «Грушевый» или «Апельсиновый». Бутылки в сетках ставили в небольшую заводь, чтобы жидкость сохраняла прохладу, набранную в стареньком слабеньком дачном холодильнике или в погребе. Взрослые расстилали брезентовую плащ-палатку, на которой загорали, играли в карты, разворачивали свертки с нехитрой трапезой. Дети размещались на махровых полотенцах. С соседнего покрывала доносились хрипящие звуки только что появившегося дефицита – «Спидолы»: позывные новорожденной радиостанции «Маяк» или прорывавшийся через частокол треска и шипения голос любимой всем Комаровым Майи Кристалинской. Все с восторгом подставляли солнцу свои измученные ленинградским климатом синюшные тела, жадно впитывая тепло, «ультрафиолет» и дыхание озера, смешанное с ароматом распаренной хвои. К их приходу озеро прогревалось, и, не дожидаясь разрешения старших, молодняк кидался в воду. Сначала Тимоша побаивался этой непростой стихии, но потом осмелел – купался он долго, пробуя догнать Иру, которая плавала хорошо – и на спине, и на груди – кролем. Потом он старательно отряхивался, стараясь быть поближе к лежащим на подстилках взрослым, вызывая тем самым шумный и, надо честно сказать, справедливый протест.
Зимними ночами они часто вспоминали те прекрасные солнечные дни в Комарово. «А помнишь, как ты чуть не захлебнулся? А помнишь, как ты обрызгал толстую Марфу со второго этажа? (Правильно сделал, она – жадина, велосипед у нее не допросишься!) А ты хочешь опять на дачу?» – На все вопросы Тимоша отвечал утвердительно, интеллигентно и благодарно шевеля кончиком хвоста и тыкаясь мокрым носом Ире в шею или быстро, пока не оттолкнули, старался облизнуть ее нос или руку.
В последнее лето теплых дней было значительно больше, и Ире даже надоело ходить на озеро. В тот год она вдруг выросла, стала задумчивой, часто раздражительной и очень хорошенькой. Вернее – интересной, насколько может быть интересной девочка в тринадцать с половиной лет.
Помимо всего прочего, она вдруг обратила внимание на то, что Алеша, живший через два дома по той же Еловой улице, оказывается не просто Алеша, сын академика Викентия Михайловича и профессора Елизаветы Багратионовны, а интересный юноша, высокий, спортивный, голубоглазый. В то лето он стал студентом, причем не какого-нибудь простого вуза, а Консерватории. К тому же у него появился чудесный велосипед, с гнутым, как рога у барана, рулем. Ире очень хотелось покататься на таком велосипеде, но еще больше ей хотелось, чтобы сам Алеша покатал ее на этом чудном «коне» – она представляла, как будет сидеть впереди на раме, свесив ноги в одну сторону, а он будет, сидя сзади, крутить педали, рулить и, невзначай, конечно, обнимать ее, волосы будут развиваться на ветру… Впрочем, развиваться они не могли бы, так как она была коротко стрижена… Но, всё равно, это было бы здорово. Еще Ира мечтала пойти к ним в гости. Жили Казанские в большом доме, но не снимали комнатку, как Ирины предки, а именно жили. Зимой и летом. У них была квартира в городе, но большую часть времени они проводили именно на этой громадной даче. Ира видела, как за Викентием Михайловичем приезжала большая черная машина ЗИС-110 и, не торопясь, осторожно вывозила его на службу – в Академию наук. Ей очень хотелось посмотреть, как живут академики, но ее никто не приглашал. Встречаясь на улице, они здоровались с ней, расспрашивали, как ее учеба, как поживают родители, гладили Тимошу, но домой почему-то не звали. Впрочем, с тех пор, как Алеша стал ее замечать, она перестала думать об академическом доме.
Несколько раз он даже звал ее на озеро. Ира с замирающим от восторга сердцем бежала спрашивать у взрослых разрешения. Они каждый раз говорили одно и тоже: «Погоди, мы тоже скоро идем». – «Что ждать-то?» – «Тебе не терпится?» – «Так ее же Алешка ждет, ты что, не понимаешь?»… Вместе с ними бежал и Тимоша. Он влюбился в нового молодого друга и не отходил от него ни на шаг. Ира даже приревновала.
Тимоша повзрослел, перестал грызть тапочки, ножки столов и стульев, реже пытался проникнуть на стол в момент, когда хозяева отвернутся. Однако походы на Щучье ему не надоели. Он начинал дрожать, скулить, приседать и колошматить хвостом по полу от волнения, счастья и нетерпения, когда ему говорили: «Давай, дружок, собирайся на Щучье!».
Это, казалось, было самое счастливое лето в ее жизни.
В последнее время они отправлялись на озеро всей гурьбой. Алеша колесил вокруг них на велосипеде. Ира каждую минуту ждала чуда – она не знала, какого именно, но в том, что этим летом произойдет нечто изумительное, она не сомневалась.
И на сей раз они опять, не торопясь, всей большой дачной компанией продвигались по исхоженной сотни раз лесной песчаной дороге, Тимоша носился, Ира звала его, он не без промедления и сожаления, но регулярно догонял их всех. Ира подумала: «Как я могла раньше не хотеть ходить на озеро! Сидеть в душной комнате с книгой для внеклассного чтения?!.» Сейчас же, минут через десять она окунется в прохладную воду, и Тима с радостным взвизгиванием кинется за ней – то ли спасать, то ли играть. Алеша укатил вперед, Ира пыталась ускорить движение неповоротливой, разомлевшей от жары взрослой публики, но Тимошка где-то застрял. Она хотела его позвать, но в этот момент она услышала надсадный рокот мотора. «Тима, Тимош, ко мне», – по привычке крикнула она. В этот момент из-за поворота вынырнул «Москвич», собака, оказавшаяся каким-то образом на другой стороне дорожки, кинулась к ней. «Стой, стой», – успела выкрикнуть…
До конца своих дней – часто во сне, но и наяву нередко – видела Ира лицо парня, вцепившегося в руль, с вылезающими из орбит глазами, с раскрытым в неслышимом снаружи крике ртом. Он, видимо, изо всех сил вдавил педаль тормоза в пол, и машина встала, уткнувшись носом в поднятый ею пыльный дымок. «Господи, успел!» Действительно, он резко затормозил, и Тимоша оказался почти не задетым. Его голова, его лапы, его туловище, его хвост были целы. Он лежал на Ириных руках тепленький, мягкий, добрый. Ира гладила его и говорила: «Что ж ты натворил», и он слушал ее, доверчиво прижимаясь к ней, как бы прося защиты, и она гладила его голову, легко проводя ноготком от черной пуговки носа к макушке, от пуговки к макушке, почесывала за ушком, перебирала затвердевшие с возрастом шершавые подушечки его лап, свисавших толстыми сардельками, утыкалась носом в его короткую шерсть, вдыхая неповторимый, самый сладкий на свете запах, и говорила, говорила, но он почему-то не отвечал, но смотрел в сторону задумчиво и грустно, кончик хвоста не реагировал, нос потерял свой мокрый блеск, он даже не пытался лизнуть ее, он спокойно лежал, обхватив лапами ее левую руку, и Ира чувствовала, что где-то внизу, где-то в области ее желудка делается пусто и холодно.
Больше никогда в жизни она не приезжала в Комарово.
* * *
Пару лет назад, когда Алене исполнилось тридцать пять лет, собралась у них большая компания. Еще намедни, когда они с Аленой и Абрашей обсуждали меню и вообще все детали наступающего торжества, Настя почувствовала, что свершится нечто необычное в ее жизни. Хорошее или плохое, было неясно, но, что случится, – точно.
Много гостей не ждали – человек 7–8, но, на всякий случай, Абраша закупил шесть поллитровок водки, четыре бутылки вина, пиво и принес давно припасенную «Рябину на коньяке» для Клары Нефедовой и Насти – они любили сладенькое. Алена наготовила человек на десять, стульев у оставшихся в поселке соседей натаскали полную прихожую. И не ошиблись. Во-первых, Зинаида Федоровна неожиданно для всех и для себя самой помирилась со своим мужем, который, как оказалось, «завязал» и три дня ходил «сухой». Посему семья Никитиных явилась в полном составе. Зина зорко наблюдала за своим благоверным – не сорвется ли. Благоверный же излучал исключительно положительные флюиды, на стол, уставленный бутылками «Московской», «Столичной», «777» и «Жигулевского», демонстративно не смотрел. Он прохаживался вдоль стола, потирал руки, оправлял топорщившийся пиджак, и пытался завести разговоры с остальными еще трезвыми и поэтому скучными и неразговорчивыми соседями. Во-вторых, Николай привел своего дружбана. Николай жил в домике напротив избы Фрола – кооперативного начальника, сторожа и дворника, который через год угорел в парилке, напившись перед этим самогона, присланного из Белоруссии. Самогон был хорош, его многие в поселке отведали, но угорел только Фрол, так как выпил слишком много. Да и запивал, наверное, пивом. Но это будет еще не скоро, а пока что Фрол задерживался. Он пришел позже, поздравил Алену, расцеловал прямо в губы – это при всех-то, при Абраше, и выпил одним махом стакан «Столичной». Так вот, этот Николай привел своего друга – высоченного и здоровенного парня, неловкого на вид и поэтому с виноватой, но хорошей улыбкой. Настя, как увидела, так и обомлела, поняв: это – то самое.









































