Читать книгу "Гулящие люди. Соляной бунт"
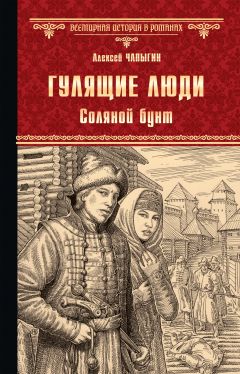
Автор книги: Алексей Чапыгин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Никого в избе – вся изба моя, забредут иные – не пущу.
– Добро! Идем, брат, сговорим – уйдешь.
Старики из кабака вышли. Серафим сказал:
– Завтре безотменно в кабак Ульяну пошлем, Миколай!
– Пошто, Серафимушко?
– А надо ей узнать и нам сказать, што затевают разбойники.
– Гиль, не иное што!
– Но где и в какое время скопятца? Медный бунт заваривают, к тому народ поят водкой… нам же надо упредить объезжего! Знакомец наш, тот старый дворянин с Коломны.
– Тот, што борода помялом? Мохната…
– Тот… наши бабы в его дому на Коломне бывали – Ульяна про замысел их ему доведет…
– Самим надо! Не бабьего ума дело, Серафим…
– Того неможно! А ну как не удастся взять сатану Таисия – тогда конец нам, Ульяне же добром сойдет… «довела, дескать – убоялась, што ее. приголубника в бунт заводчиком потянут!»
– Эх, Серафимушко! Переведет она Сеньке наш сговор и не пойдет…
– Ты чуй! Сговорить ее надо – разжечь: «Таисий-де твоего Сеньку с Фимкой сводит…»
– Оно, пожалуй, гоже такое? Тогда пойдет!..
– Уберем голову, а Сеньку убрать легко – глуп, доверчив, пойми!
– И это ладно удумал ты, Серафим!
В летнем теплом воздухе кривыми тропками пробрались на Фимкин двор. Сама хозяйка первой зашла на крыльцо, увитое хмелем, отворив дверь в сени, бойко скрылась в сумраке избы. Слышно было, как она у печи вздувала огонь лучины в углях жаратка. Сенька с Таисием ждали в сенях. Фимка крикнула:
– Заходите.
Осветив огнем лучины просторную лежанку с кирпичными ступенями, плотно приделанную к курной печи, Фимка полезла на ступени, откинула на лежанке створчатую дверь – за дверью начинались ступени вниз.
– Ниже сгибайтесь – пролезете! – И первая полезла под избу, прибавила: – Кто последний, крышку накрой!
Сенька влез последним. За скобы поднял створки, закрыл вход.
В подызбище пахло печеным хлебом, овчинами, медом. Подземелье было невысокое, но обширное, над головой на толстых бревнах лежал настил пола избы. Войдя с огнем, Фимка на широком столе зажгла две свечи, лучину затоптала на земляном полу. Окон не было. Хозяйка пошла в глубь подземелья, открыла дверку, повеяло холодком летней ночи, запахом травы. Кровать Фимки близ стола, широкая, с пестрым лоскутным одеялом, с горой подушек в красных наволочках. Ножек у кровати нет. Кровать широкой рамой врыта в землю.
Друзья присели у стола на скамью. Оба огляделись, заметили в глубине столб, подпиравший настил, на нем образ, зажженная лампадка мигала от ночного ветра, огонь свеч на столе тоже.
– Женка! Прохладно, запри дверь, – сказал Таисий.
– Припру! Сыщу когда… – Фимка за дверью чего-то искала. Дверь заперла, принесла на стол малый жбан пива, две деревянные точеные чашки и оловянную торель с пирогами. – Пейте, ешьте, а я подремлю.
Она столкнула с ног кожаные уляди, завернув в красную юбку голые крепкие ноги, упала на кровать ничком, и видно было, что скоро уснула.
Приятели выпили пива, заправили по рогу табаку и с бульканьем воды стали курить. Таисий из пазухи вытащил кожаную сумку, порылся в ней, звеня золотом монет, достал два письма и, передавая их, заговорил:
– Тут, Семен, два, оба надо повесить. Едино с Лубянки, другое с Красной. Как письма устроить, не ведаю, только рано прибить до народу… Народ к тем письмам кинется, дьяки тоже – так спервоначалу шум зачнется…
– Знаю человека – устроит…
– Письма писаны нарядным[235]235
Нарядным – поддельным.
[Закрыть] росчерком Максима Грека[236]236
Максим Грек (1475–1556) – настоящее имя Михаил Триволис. По приглашению Василия III Ивановича в 1518 г. прибыл в Москву для перевода церковных книг. Собрал вокруг себя кружок, в который входили сторонники Нила Сорского и некоторые бояре, попавшие в опалу. Был осужден церковным собором и 20 лет провел в ссылке. Оставил обширное литературное наследство.
[Закрыть], титлой – ищи во гробех писца!
– Ты бы, Таисий, берег золото, сгодится.
– Серебра долго искать, да и пойматься можно! Завтра на кабаке люди будут с топорами, поить много не надо, – Анике втолковать тоже. С большого хмелю в бахвальстве меж собой, гляди, посекутся – дело уронят… Впрочем, то моя забота. Ты же завтра направляйся в Коломну, жди меня с народом… Спать будешь на мельнице, где переход за Коломенку. Мельница не мелет, пуста – туда Кирилка придет, и я вас с ним найду… Без моего зова к царю не подступайте. Царь на Коломне живет…
– Ладно, завтра с утра направляюсь, только не весь народ придет к кабаку с топорами. Как ты призывал, я ходил по кабаку и слышал, говорили: «Топоры пошто брать? На бояр идем да к царю за правдой!»
– Дураки! Ищут у каменного попа железной просфоры, – он им задаст правду, коли приступят с пустыми руками. Вот говорил я тебе, народу надобен царь справедливый – без царя этот народ жить не будет! Неучен, попами запуган: нет царя – пойдет искать, а бояре тут как тут, иного тирана подсунут, худчего.
– А все же царей не должно быть!
– В будущем – да, не теперь…
– Теперь – убить одного, сядет другой – и другого так же…
– Много ли таких, как Кирилка? Мало их или нет!.. Попы учат: царь – бог, а как на бога пойдешь? Народ суеверен…
– Как убить, указал Кирилке ты?
– Завтра на кабаке договорим как.
– То ладно! Лишь бы не изменил…
– Этот не изменит…
– Дальше как будем вести дело?
– С царем кончим… Лихие дома бояр разобьют и их побьют. Сидельцев из тюрем пустим, стрельцы есть сговорные, а там из дела видно будет.
– Иду спать!
Сенька встал, обнял Таисия, тот спросил, прощаясь:
– Пистоли с собой есть?
– Два – бери! Два дома про запас лежат.
Таисий принял пистолеты. Сенька ушел.
Улька много раз вылезала за тын Облепихина двора, приседала, вглядывалась в лесок, в кусты, слушала и снова шла к себе. Ее окликнул отец:
– Уляша!
– Чого тебе?
– Иди-ко… мы с Серафимом слово молым…
– Не до тебя, отец!
– Все едино, кого ждешь – скоро не вернетца!
– Пошто не вернетца?
Улька вошла в избу, бабы спали, отец провел ее в прируб. В прирубе Серафим, атаман ватаги, сидел на своей чисто прибранной постели в плисовой черной однорядке. Борода старика расчесана, волосы приглажены на лысину, и лысина, вымытая, с волосами, помазанными маслом, блестела, глаза тоже светились хитрой ласковостью. У черного образа горела лампадка, на полке резной над кроватью Серафима медный трехсвечник пылал тремя огарками толстых свечей.
– Праздник у вас нешто? – спросила Улька, садясь на кровать отца.
– Праздник, дитятко, новой объезжий у нас.
– Хто таков, што празднуете?
– Коломну помнишь? Ты с бабами к ему в избу ходила сатану зазывать с нами на Москву – Архилин-траву – Таисия.
– Не говори, батя, о нем, не терплю. А и терплю, то ради Семена…
– Люби ай нет – все горе от него!
Серафим, сощурясь, поглядел на отца Ульки:
– Чул я, Миколай, как ён на кабаке шептал Семену, когда скоморохи их венчали…
– Да ведь вы ране того ушли? – спросила Улька.
– Миколай-батько ушел, а я замешкался… чул…
– Ну!
– Сказал ён так: ночь с Фимкой проспи, я уйду… в избе места много… с новой женкой счастья больше добудешь – расторопна, не Ульке твоей пара.
Улька скрипнула зубами, вскочила.
– Пойду я!
– Остойся, девонька! Сегодня, може, и вернетца, а дале надо тебе помочь.
Улька села, тяжело дыша, меняясь в лице, спросила тихо:
– Как тут помочь, дед Серафим?
– Вылечить едино от лихоманки – дело пустое, лишь бы человек верил, слушался, делал все, што укажут, – тогда и дружка приколдуем… хи-и…
– А ну же, не томи! Дед Серафим!
– Без смертного дела, девушка, не обойтись! Архилин-траву надо с корнем вырвать, штоб больше от ее колдовства не было… Колдует та трава просто – уйдет и дружка твово уведет…
– Уведет, Уляша! Ой, уведет…
– Так я его нынче же зарежу! Проберусь к Фимке, все ее ходы под избу проведала…
– Послухай меня, девушка. Он, Таисий, бывалой вор, не такими, как твои ручки, хватан был, а вывернулся. Нет! Взяться за него надо умело… Будешь слушать – поучу!
– Учи, дед Серафим! Слушаю…
– Дворянин Бегичев ныне объезжий… К ему надо – он не один, он со стрельцы, а у стрельцов пистоли да сабли. К ему проберись и шепни на поганую траву!
– А чего шепнуть?
– То шепни, што завтра на Старом кабаке узнаешь… Пройди к вечеру в кабак, притулись в угол темной, к пропойцам женкам, там будешь знать, что объезжему доводить. Мы же тебя с батьком на Коломну как на ковре-самолете предоставим, в обрат сам объезжий лошадь даст с почетом, не просто так. И страху тебе терпеть не надо, без тебя сатану свяжут да в гроб положут!
– Ладно – так сделаю!
– Только, девушка, дружку твоему и во сне не проговорись!
– Знаю, што они один за другого!
– Покрестись, девушка, на образ – Бог видит, дай слово Ему сполнить обвещание.
Улька, стоя рядом с отцом и Серафимом, шептала то, что Серафим говорил:
– Господи Боже! Не сполню обвещания, данного честным старцам отцу моему Миколаю и рабу Божьему Серафиму, то накажи меня болью непереносной – глазной темой и сырой могилой, аминь!
Улька, не глядя на старцев, ушла.
– Сделает! – сказал Улькин отец. – По лицу вижу: ежели смура лицом стала да брови дергаютца – сделает…
– Аминь! – прибавил Серафим.
В доносе на воеводу Стрешнева Семена, подтвержденном видоками, истопником и девкой – дворовыми Стрешнева, Иван Бегичев оказался правдив во всем, но царь до времени оставил дело Стрешнева за собой. Любимец царя Богдан Хитрово и боярин Милославский слово сдержали – устроили Бегичева на Коломне беломестцем. Двор Бегичева с пристройками, садом и избами жилыми и нежилыми получил освобождение от всех поборов, так и записан был в писцовые книги: «Двор Белый».
По предписанию того же оружейничего царского Хитрово Богдана воеводе Земского двора – «дать дворянину Ивану, сыну Бегичеву, службу» – Бегичева сделали объезжим замест убитого лихими у Старого кабака.
Худой дворянин с Коломны, став объезжим, загордился. Объезды были часты; даже в свободные от работы дни шли люди, стрельцы и ярыги Земского двора, не те, что пожарного дела, а кои по сыску держались, – они приходили, звали, требовали, ежели дело шло о «гилевщиках» или людях, сказавших: «слово и дело государевы!» На старости Бегичеву и тяжело иной раз приходилось, но жадность к наживе, а пуще к отличию на государевой службе заставляли покой забывать. Кроме того, грамотный, усердный к церкви, обновленной Никоном, Иван Бегичев зорко преследовал раскол и имел по тому делу не один спор с объезжим патриарша двора.
В своем участке на Коломне дальную избу, где когда-то жили Таисий с Сенькой, Бегичев сделал приемной. Указал служилому люду заходить к нему с речки Коломенки в калитку через сад, а подумал так: «Грязь в горницы не носят».
Как все, Улька пришла к Бегичеву тем же ходом. Встала у дверей. Бегичев писал дьякам Большого дворца про обложение харчевых дворов. Раньше письма исчислив, сколько даст новая прибавка к старому, косясь на Ульку, подумал: «Лезут, и не за делом… Девка-таки станом статна и ликом пригожа… Пождет…» Приткнув глаза в очках, оттянув бороду за кромку стола, писал:
«Великим государем, царем всея Великая и Малыя Русии, самодержцем Алексием Михайловичем указано: служилым дворяном, чтоб они всячески искали прибытку государевой казны, и я, холоп великого государя, дворянинишко Ивашко, сын Бегичева с Коломны, беломестец и объезжий улиц, что у Серпуховских ворот[237]237
…объезжий улиц, что у Серпуховских ворот… – Из-за смешения автором Коломны и Коломенского Бегичев, житель Коломны, оказывается московским объезжим головой.
[Закрыть], досмотрел обложить…» «Чего ей?»
– Девка! Чего тебе тут?
Улька поклонилась.
– Голова мотается – пошто же язык нем?
– С того молчу, што начать как, не знаю…
– Пришла – значит, знаешь.
– С поклепом я, дядюшко…
– На полюбовника, поди, поклеп? Пождала бы на улице…
– Я, дядюшко, приезжая, московская… с Облепихина двора…
– Тот двор, што за нищими есть?
– Нищий двор, дядюшко… тот.
– О, тем двором давно хочу заняться! Ближе поди – сядь на лавку. Там еще с ним обок Фимкин двор?
– Постою тут… Фимкин двор за вал будет…
– Иди! Сядь! Я власть большая, да с молодыми девками не гордая.
Улька подошла к столу, села на лавку в стороне.
– На кого доводишь? – Бегичев снял очки.
– Хоша и бывала с нищими на твоем дворе, да кабы не старики наши, больше не пошла.
– Мало смыслю – какие старики? И так доводишь…
– Давно было… а когда бывала тут – ведала: в этой избе жил гулящий человек, звался Иваном, только у нас его кличут Таисием…
– Помню, девка! Жил такой Иван Каменев, у солдат на Коломне слыл черным капитаном… тот?
– Тот, дядюшко!
– Вот ладно! Я его давно ищу… Так што, девка?
– Удумал тот Таисий лихое дело на великого государя… Молыть?..
– Ой ты! Говори, говори… – Бегичев кинул перо на стол. – Доходи конца!
– Удумал он великого государя…
– Говори, не запирайся!., государя?
– Вот я шальная… удумал тот Таисий убить…
– Што-о?! Великого государя?
– Да…
– Где ж он живет, тот лиходей?
– Где живет – укажу…
– Когда и где задумано убить?
– Послезавтря – в Коломенском… У собора, ай где, не ведаю… шумно было…
– Тот Таисий не один, девка? Не запирайся – дело государево… – Как всегда в волнении, Бегичев, привычно запрокинув голову, поковырял ногтем в рыже-седой бороде.
– Другой? Семеном звать того, не шевели… с нами живет.
– Твой полюбовник, должно?
– Мой он…
– Такой же разбойник, ежели его друг…
– Семена не шевели!..
– Семеном? У меня жил, Григореем звался – двуличен!
– Сказываю, не шевели! – вскочила на ноги Улька.
– Мое то дело!
– Не дашь слова не тронуть, и я тебе не доводчица!
– Вот как?
– Или коли так пошло – на тебя доведу большим боярам, што ты в своем дому крыл Таисия… И ведал, што Таисий Коломну зорил, а солдаты-заводчики тож в твоем дому бывали!
Незаметная дрожь тронула холодом ноги Бегичева. «Черт девка!» – подумал он и тихо, вкрадчиво начал:
– Тово довода твоего, девка, я не боюсь… А пошто не боюсь, скажу: кто тебе поверит и до больших бояр кто пустит? Теперь же слово тебе даю: пущай, коли разлюбезный твой Семка будет в целости, ежели сам кому из властей не попадется… Гилевщики уж шумели сегодня на Москве, и ежели его в заводчиках не сыщется, пошто парня трогать, а Таисия имать – укажи время…
– Укажу…
– Награду поймешь от великого государя, колико нам удастся его словить!
– Я пришла по злобе! Мне твоя награда не надобна…
– Так, так…
– А так!
– Сказуй честно, не говори лжи и место кажи не пустотное, без отвода глаз! Инако за кривду у нас на Земском дворе палачи с трех ударов кнутом человека на полы секут.
– Меня, дядюшко, ежели што озлит много ай бедой накроет тяжкой – я тогда деюсь шальная… лихоманка меня трясет… тогда хоть на огне пеки, слова не молвю!
«Эх, и хороша же девка! Моя Аграфена – корова супротив этой…» – решил Бегичев.
«Кинуться да удавить черта? – подумала Улька. – Нет! Пришла не спуста… Сатане надо, Таисию, могилу наладить…»
– Чего умолкла?
– Думаю, как лучше взять его, Таисия!
– Чего надумала?
– Завтра, дядюшко, как отзвонят к вечерне, будь в леску за Облепихиным двором, там объявлюсь я – ударю в печной заслон три раза, поезжай тогда на Фимкин двор… следом приду, укажу ходы под избу. Теперево дай лошадь и человека нас увезти в обрат.
– Нешто ты не одна?
– Со старцем я, он на харчевом дворе.
– Поди, зови старца того… лошадь и возник вам будут налажены!
Ночью вернулся Сенька. Улька прикинулась сонной. Ныло везде избитое на дворе Морозовой тело. Пуще стыд брал, что секли ее голую, рубаху кинули, когда велели одеться. Она не плакала, только искусала губы в кровь. Сама Морозиха Федоска, окаянная, с крыльца глядела и тростью махала, «сколь бить».
«Все он, скаредник, причинен ее бою…» Сегодня Ульке казалось, что первый раз она невзлюбила Сеньку: «Кабы сам – бей сколь надо! А то чужие, псы, холопье пьяное…»
Сенька слегка тронул Ульку за плечо:
– Ульяна!
Она промолчала, всхрапнула, будто просыпаясь.
– Ульяна!
– Чего тебе?
– Ты, как заря зачнет, оденься, пройди на Лубянку, да вот два письма и воск, прилепи – одно к столбу с образом, другое на Красной, к тиуньей избе… Оборотишь, поспим до солнышка, и я в Коломенское.
– Таисий на Коломну шлет?
– Не спрашивай… Подремли мало, и я тож.
– Давай письма!
– Рано еще… решетки, сторожа…
– Мне што решетки, во всяк час бывала, давай письма.
Сенька отдал письма. Он чувствовал, что девка зла на него, но знает: как бы ни сердилась, а сделает все, что им приказано.
Улька беззвучно и скоро исчезла. Сенька заснул.
Проснулся Сенька – солнце только чуть показывалось. Выл набат на Лубянке.
«Зла девка – старики, должно, позвали?»
Он скоро надел сермяжный крашенинный кафтан, суму спрятал кожаную в заплечный мешок. В суму пистолеты сунул и шестопер, а панцирь, надетый на рубаху, закрыл легким полукафтаньем: «С ходу не обнажится, на мельнице переоденусь…» В руки взял дубовый батог, окованный снизу железом, на голову нахлобучил просторную, кропаную скуфью, под нее спрятал кудри. Пошел, слыша шум далекий со стороны Кремля. В таком виде едва нанял извозчика.
– Пошто тебе возника? Убогому… лапотному…
– Вишь, шумят! Слышишь?
– Едем, коли. Сёдни, должно, по Москве не ехать!
Извозчик нанялся везти Сеньку до половины пути:
– От яма обратно верну!
Сеньке дальше и не надо было – поворот в этом месте дорога делает в сторону, он же, зная путь, решил идти перелесками да полями – «не так жара бьет, и идти гораздо ближе. Сенокос окончен, идти не по траве, не дойду – под копной ночую…»
Небо безоблачно, солнце – хотя и вечереть стало – жгучее. На безлошадный ям приехали, Сенька отдал деньги, извозчик мало кормил лошадь – скоро повернул назад.
В большой ямской избе было душно, воняло прелью и сыромятной кожей, в сенях пахнуло дегтем – дверь в сени растворена. По стенам избы развешаны свежие гужи и хомутины новые. В углу у двери кадка с водой. Ковшик, когда Сенька взял пить, кишел мухами. Толстая баба с лицом цвета сыромятной кожи, пряча под серый плат вылезшие на уши волосы, вышла, позевывая, из прируба. Вскинув сонные глаза на Сеньку, сказала:
– Вздохни, дорожний… сядь… я чай, тяжко в пути… Вишь, я заспалась сколь?
– Тут, тетушка, жарко у вас…
– А-а-сь? Жарко! Ишь мух сколь… – Она замахала руками. Сенька поклонился бабе и вышел.
Выйдя, он взглянул на большую конюшню в стороне, конюшня напомнила ему свою во дворе отца Лазаря Палыча. Вспомнив отца, Сенька тяжело вздохнул.
– С каурым бы поиграть! Эх ты – времечко прожитое…
Шагнув, вернул за угол конюшни, сел на опрокинутую вверх дном колоду. Вынул рог, попробовал, не высохла ли в нем вода, нашел, что рог в порядке, стал набивать табаком трубку. Набивая, услыхал знакомый голос:
– К ночи бы поспеть, дед Серафим…
«Улька? А пошто здесь?»
– На экой паре коней скоро прикатим! Мы с молодшим зайдем на ям, – може, квасу дадут?
Сенька отложил в сторону батог, чтоб не мешал, выглянул из-за косяка конюшенных дверей: Серафим необычно наряжен в черную плисовую однорядку, на голове тоже новая плисова скуфья.
Когда они все трое ушли в сени избы, «гулящий», подняв свой батог, осторожно шагнул из конюшни и спешно пошел в сторону за огороды и гумно. За гумном в кустах остановился, закурил и, продолжая путь, подумал: «С поклепом были! Таисий сказал на кабаке: „опоздали“, и все же лучше бы было гадину Серафимку посечь!»
Глава IV
Медный бунт
Близко к середине площади толстый столб с кровелькой крашеной, под кровлей в долбленом гнезде за слюдой огонь неугасимой лампады. Огонь мутнел от рассвета. Сквозь легкий белесый туман заря, разгораясь, покрывала все шире золотые купола церквей розовато-золотой парчой. По холодку утра, ежась, сморкаясь в кулак, крестясь на встречные часовни, плелись в узких черных кафтанах пономари тех церквей, где не было жилья звонцу. Народ необычно густо шел со Сретенки к столбу с иконой на площадь.
– Письмо!
– Письмо – кое еще?
– Побор – о пятой деньге указ!
На столбе пониже иконы висело письмо, прикрепленное воском. Около письма уж тыкались лица людей. Неграмотные были ближе, а грамотных нет, иные письменное понимали худо. Люди шевелили губами, осторожно касаясь строчек письма корявыми пальцами.
– Што тут? О пятой деньге?..
– Хитро вирано… скоропись.
– Кака те скоропись? Зри, полуустав.
– Ведаешь, так чти!
– Може, оно нарядное, от воров, и чести его нельзи? – Растолкав батогом толпу, сретенский сотский подошел.
– Григорьев! Соцкой, чти-ко, не поймем сами.
Сотский[238]238
Сотский – выборный староста сотни, как правило, из зажиточных людей.
[Закрыть] негромко и как бы удивленно прочел:
– «Народ московский! Изменники Илья Данилович Милославский, да Иван Михайлович Милославский же, да боярин Матюшкин, да Федор Ртищев окольничий, свойственники государя…»
При слове «государя» у сотского глаза стали пугливые. Он сказал:
– Эй, робята! Не троньте бумагу, не сорвите, а я на Земской двор – дьякам довести, тут дело государево – бойтесь!
– Не тронем!
Таково начало Медного бунта 1662 года в июле. К письму пробрался стрелец, длиннобородый, сухой и немного горбатый.
– Во, грамотной! Чти-ка нам, Ногаев.
Стрелец, держа бердыш, чтоб не порезать кого, топором вниз, бойко, громко прочел:
– «Народ московский! Изменники Илья Данилович Милославский, да Иван Михайлович Милославский[239]239
Иван Михайлович Милославский (ум. в 1685 г.) – боярин, родственник Ильи Даниловича Милославского.
[Закрыть] же, да боярин Матюшкин, да Федор Ртищев окольничий, свойственники государя… – стрелец приостановился, подумал и еще громче продолжал: – и с ними заедино изменник гость Василий Шорин продались польскому королю-у!»
– На Ртищева с Польши листы были!
– Ведомо всем! Не мешайте Куземке-е!
– Чти, Ногаев[240]240
Ногаев Кузьма, стрелец, и далее упоминаемый посадский человек Лука Жидкой – исторические лица, вожди восставших во время Медного бунта 1662 г.
[Закрыть].
– «Сговор они вели с королем, чтоб у нас чеканились медные деньги, и чеканы многи к тому делу король польский „таем прислал“.
– Прислал?
– Изменники Милославские – слушь! «Ведомо вам всем, что одноконечно ценны лишь серебряные деньги, медные же цены не имут. Через гостя Ваську Шорина изменниками ране сговора было опознано, что купцы медные деньги брать не будут…»
– И не берут!
– Народ с голоду помирает!
– Не мешать! Чти, Ногаев.
– «…и на Украине польской медных денег не берут же, и наши солдаты на Украине от той медной напасти помирают голодною смертью!»
– Еще бы! Конешно, правда.
– «Куса хлеба на медь достать неможно».
– У нас тоже!
– «Сие злое дело любо и надобно изменникам для лихой корысти, а польскому королю и панам любо для разорения нашего».
– Вот правда!
– «Всякий вред и пакости православным польскому королю любы за то, что он – злой лытынец, враг веры Христовой! Ратуйте, православные, противу изменников!»
Прочтя письмо, стрелец закричал, сгибаясь вправо и влево:
– То истинная правда, товарыщи!
– Брюхом та правда ведома!
– Ведаем правду от тех мест, как Никон сшел!
– Ведаем, а пошто молчим?!
– Искать! Топорами замест свечей светить!
– Правильно! Сговорено на Старом кабаке-е!
Толпа густела, лезли люди видеть письмо. Поп церкви Феодосия, что на Лубянке, торопливо пробрался в церковь, сказал пономарю:
– Пожди звонить к утрене… все одно – мало придут – бей набат!
С колокольни Феодосия завыл набат, в то же время с Земского двора верхом прискакали двое: дворянин с розовым лицом, с бородой длинной и круглой, как лисий хвост, с ним рядом дьяк в синем колпаке, в черной котыге с ворворками, за кушаком кафтана пистолет. У дворянина пистолеты у седла. Махая плетьми, оба кричали:
– Раздайсь!
– Што за кречеты?
– Ларионов[241]241
Ларионов Семен Васильевич – дворянин, судья на Земском дворе. Активный участник следствия после Медного бунта.
[Закрыть] дворянин да дьяк Башмаков!
– Во, письмо забирают!
Ларионов сорвал письмо, повернул лошадь.
– Пропусти, народ! – И помахал плетью. Его пропустили, но пошли за ним к Земскому двору обок, сзади и спереди, не давая уехать скоро.
– Пошто те глаза с Земского?!
– Набат слышали!
– Соцкий сретенский бегал на Земской!
– Лупи их, ребята, и все!
– Не сметь! Мы люди служилые, государевы…
– У государя и изменники служат!
– Государевы? А письмо везете дать изменникам!
– Государя на Москве нет!
Кучка стрельцов пристала к пестрой, потной толпе горожан. Тот же стрелец, который читал письмо, кричал в толпу:
– Православные! Постойте всем миром: дворянин да дьяк – боярам люди свои, отвезут письмо Милославскому, тем и дело изойдет!
– Правильно, Ногаев!
– А коли што! Лови их!
Толпа сжалась плотно, лошадь дворянина схватили под уздцы, а его за ноги, за желтые сафьяновые сапоги.
– Не двинься – разуем!
Сотский Григорьев шел с толпой, ему закричали:
– Донес, черт! Бери у него письмо, ай то каменьем…
Григорьев, тощий испитой человек с лицом корявым и бледным, как береста, повис у седла дворянина, губы у сотского тряслись.
– Дай письмо! Не хочу помирать… – И вырвал у дворянина письмо.
Дворянин плохо держал письмо, по дороге толпа сорвала с его седла пистолеты, и ему хотелось скорее уехать.
– Афанасий, едем скоро!
Толпа расступилась, они уехали, но Григорьева стрелец Ногаев взял за ворот, повел; вся толпа повернула за ними. Кто-то кричал:
– Товарыщи-и! На Красной у тиуньей избы взяли другое письмо, такое же-е…
– Разберем.
– Идем все!
Теперь площадь освещало раннее солнце. Туман голубел и рассеивался. В голубой мутной вышине выл медный набат… Удалые из толпы, пряча топоры под кафтанами, пошли в церковь говорить с попом. У церкви и на паперти густо, но только нищие.
– Поп! Звони к утрене.
– Крещеные! Пономарь за государевым делом…
– Берегись! За то дело голову прочь.
– Помолитесь, пареньки, пошто шум? Господь, он, батюшко, умиротворит душу…
– Сперва в кабак! Молитва сзади, а тебе за набат – во!
Показали топоры. Поп испугался, дал знак пономарю звонить к утрене.
Притащенный на площадь сотский сретенский кричал:
– Отпустите Христа для-а!
– Нельзя… как ватаман да стрельцы укажут – еще к земскому уволокем!
– Пошто туда с поклепом бежал?
– Соцкой я, имя – Павел, Григорьев сын. Мне объезжий указал: «Коли шум, беги на Земской двор!»
– Шум не велик!
– И поведем на Красную!
В кафтане из рыжего киндяка, в дьячьей шапке с опушкой из бобра, появился на площади Таисий.
– Ватаман! Чти письмо, ладно ли?
– Письмо истинное! За правду… С ним идти в Коломенское к царю!
– Мы еще соцкого сволочим на Красную…
– Истинно!
– С письмом к царю: «Дай изменников!»
– Ватаман! Теперво с чего зачинать?
– Тюремных сидельцев вынять!
– Бою там много! Стрельцы…
– Караулы крепки – сторожи многи!
– Сила за вами! Стрельцы, солдаты идут.
Кто-то, выбившись из толпы, кинулся к Таисию, положил ему руку на плечо. По тяжести руки Таисий, оглянув человека, признал в нем Конона-бронника. Бронник обнял Таисия и жестами стал объяснять: он гладил себя по голове, погладил бороду и показал, что борода много длиннее его бороды. Тыча кулаком на Кремль, замычал, хмурясь.
– Вишь! Языка ни, кулак дело знает… кажет Куим, что Васька Шорин бежал…
– А куды?
– Сперва сшел в рясе монаха на Кириллово, а как наши сметили, сбег к князю Черкасскому.
– Вишь ты?
– У Кириллова наши воротника взяли за ворот, ён и сказал: «Чего глядели? С задних ворот сшел на княжой двор!»
– То, оно! Передние ворота ко князю со Спасской улицы…
– В задние утек!
– Ништо! Дом ево разбили, слышал, да сынишку Шоринова уловили – к царю поведу-ут!
Солнце к полудню, на потные головы палит жаром, шапки у всех в пазухах. Отливая радугой, тускло отсвечивает в узорных окончинах слюда. Тихим ветром наносит из знойного воздуха прелью гнилых бревен, падалью – из закоулков. Дремлют башни древние.
В разных концах города выл и ширился набат.
За тын Мытного двора[242]242
Мытный двор – таможня, где собиралась пошлина со скота, пригоняемого в Москву.
[Закрыть], в конюшни и стойла пастухи, усталые и злые, загнали скот – проходное платить и поголовное. Отогнав погонными батогами упрямых быков, ворота во двор заперли. Поглядывали искоса на тюремную вышку покосившейся, широко севшей в глубине двора избы. Боярин на балкон, окружавший вышку, не выходил, как обычно, не спрашивал подьячих, кои ведут счет скотским головам, и подьячие на двор не выходили же. Один высокий старый пастух сказал:
– Долго ли на экой жаре ждать дьяволов? Скот тамашится!
– Боятца, Порфирий. Вишь, шумит народ.
– А, черт с ним, делом! Ладно и день погулять, – сказал другой.
– Идем! Може, боярина какого батогом ошарашим… Не все нас бить.
Ушли. Замаранные навозом полы кафтанов подтыкали за кушаки. Тяжелые, куцые, утирая потные лица шапками, шли вразвалку, упираясь на погонные батоги. Шли туда, где выл набат и шумел народ. Вслед за ними к воротам, бороздя рогами по бревнам, подошли быки, нюхали влажный воздух, идущий с Москвы-реки. Иные ревели, коровы мычали, блеяли овцы. Подпаски-мальчишки, боясь разъяренных быков, залезли на тын. По переходам в служилую горницу боярина пошел дьяк; войдя, поклонился Милославскому, сказал:
– Боярин! Я чай, у бунтовщиков на письме есть и твое имя?
– Не видел глазами… Сказывали, есть.
– Так мекаю, пробратца бы тебе от шума? Управим с подьячим, а то пастухи, черт их душу, зри, народ наведут…
Милославский молча послушался, пошел из избы. Спускаясь на двор по скрипучим ступеням, затяпанным навозными ногами, подумал: «Построй покляпился, крыльцо тож сгнило – починивать надо…» Лошадь держали оседланную, но боярину пришлось спешно стащить с плеч красный зарбафный кафтан. Едва лишь сел он, быки, нагнув лбы, пошли к его лошади. Милославский, сдернув кафтан, сунул под себя, зеленой подкладкой вверх. В желтой шелковой рубахе, в голубом высоком колпаке с узорами из мелких камней по тулье, хлеща буйную скотину плетью, проехал среди мычания и сопения до ворот. За воротами галочий крик – черно от бойкой птицы.
У ворот дворник сдернул с головы шапку, сгибаясь в поклоне, распахнул одну половинку ворот. Быки вслед за лошадью боярина шиблись вон, свалив на землю дворника. Отползая в сторону, дворник вопил:
– Куды пошли, окаянные!
– Пусти! Пастухов нет! – крикнул боярин.
На голос боярина дворник распахнул ворота. Быки, коровы, телята, мотая от мух хвостами, бежали к реке пить, из открытых хлевов посыпали овцы. Мычанье, блеянье смолкло, набат стал слышнее. За воротами боярин снял сияющий колпак: «Долой его от людей! Глаза… кафтан от быков прочь… ну, время!» Он ехал берегом Москвы-реки, оглядываясь, а в голове толклись мысли: «Письмо, дерзкое, воровское… шум уймут – писцавора сыскать!»
С хитрыми глазами, бородатый, одеждой похожий на свой куб, обшитый мешком, сбитенщик говорил корявому, неповоротливому калашнику, поставившему свое веко рядом:
– Гиль идет! С народом тогда не тянись, Гришка. Народ – што вода в кубе… звенит куб, покель не закипела вода… закипит, щелкни перстом по стенке, услышишь – медь стучит, как дерево…
– Что-то мудрено судишь!
– Примечай… народ кричит, зовет, ругаетца до та поры, покеда не закипел! Пошел громить – закипел… Тогда нет слов, един лишь стук!
Слышно было на Красную – в Китай-городе, в стороне Хрустального переулка, звенела посуда или стекла, и слышался там же хряст дерева.
– Оно – быдто лупят по чему?
– И давно уж! Шорина гостя дом зорят…
Выли и лаяли собаки, а над гостиным двором черно от галок…
– Нешто опять сретенского Павлуху волокут? Григорьева сына…
– Все с письмом волочат, а ту, у тиуньей избы, попы сняли другое, сходное с тем…
– Попы безместные, вор на воре – може, они и написали?
– Оно то и я мекаю! С Красной, Гришка, уходить надо, – я пойду!
Сбитенщик надел ремень своего куба на плечо.
– Я тоже! – Подымая лоток, попросил: – Поправь шапку, глазы кроет…
Сбитенщик поправил ему шапку. Оба проходили мимо скамьи квасника. Квасник, пузатый, лысый, блестя лысиной, расставлял на вид разных размеров ковши.
– Уходи, плешатый, гиль идет!
– Вишь, народу – што воды!
Подтягивая рогожный фартук, квасник, тряхнув бородой, гордо ответил:








































