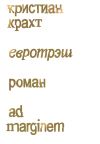Текст книги "Словесник"
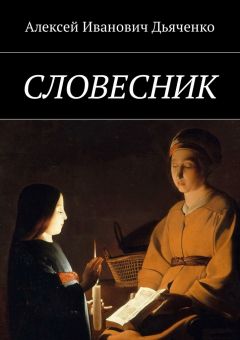
Автор книги: Алексей Дьяченко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
В кабинете терапевта двое. Врач Антонов Марк Игоревич, внимательно слушающий пациента и Герман Гавриков, эмоционально рассказывающий доктору о своих бедах.
– Сосед, ведь и недели не прошло, как с койки больничной, – жаловался Герман, – и снова кашель, температура. В больнице женщина-врач мне вопрос задала: «У вас ненависть к белым халатам?». Я промолчал. Признаться, и сам себе такого вопроса никогда не задавал. Но сейчас понимаю, что прожив на Земле тридцать лет, попадая в разные передряги, оказываясь вследствие этого на больничных койках, – не видел хорошего врача.
– Постой, – миролюбиво прервал Гаврикова Антонов. – Давай так. Пуповину в роддоме тебе хорошо перерезали?
– Не знаю. Не уверен.
– Ну, живёшь же. И, глядя на тебя, бравого, можно заключить, что при рождении не было у тебя вывиха бедра, смещения шейных позвонков. А это значит, что уже был в твоей жизни один хороший специалист.
– А сколько было «палачей», настоящих, откровенных вредителей? Например, всем моим сверстникам, поголовно, гланды вырвали. А зачем?
– Давай вернёмся к тебе. Несмотря на то, что ты неоднократно болел ангиной, тебе гланды не удалили. А что это значит? Это значит, что есть в твоей жизни уже второй хороший специалист.
– Согласен, гланды не удалили. Но, при этом совершенно здоровому ребёнку иглой толщиной с указательный палец, гайморовы пазухи проткнули. Причём, и врач, и медицинские сёстры доподлинно знали, что я здоров. Они при мне общались: «Клава, он же здоров! У него нет хронического тонзиллита!», – «Зин, тебе какая разница? Есть направление? Колѝ». Им было на меня плевать. Прийти бы к ним сейчас в детскую поликлинику, как это показывают в голливудских фильмах, и восстановить справедливость. Сказать злым старухам: «Берите в руки те самые огромные шприцы и прокалывайте друг дружке аденоиды. Промывайте их солёным раствором» – «Так они же у нас здоровые!» – «Уж кому-кому, а вам всегда на это было плевать». И иглу им до самого мозга, как они это делали. Не шучу.
– Опять увлекаетесь. Вы мне рассказали, что от алкоголизма лечились. Зашивали, капельницу ставили? Жив? Значит уже третий хороший специалист у нас в активе. Опять же в больнице от бронхита лечили и вылечили.
– Да, – вспоминая больницу, засмеялся Гавриков, – пригласили на ингаляцию, а я прозевал. А тот врач, что должен был мне ингаляцию делать, вдруг внезапно, скоропостижно, скончался. Совсем молодой, мой сверстник. Так пришли ко мне в палату и спрашивают: «Вы же должны были в восемнадцать часов быть у него. Почему не были? Он как раз в это время и умер». Говорю: «Что за вопросы? Возможно, если бы был, то сейчас находился бы на его месте. Кто знает, может, он предназначавшуюся для меня ингаляцию понюхал». И ничего. Закрыли ингаляционный кабинет на замок и больше никому ингаляции не делали. Говорите: «вылечили». Спазмы убрали, смог свободно дышать, но из больницы-то меня не выпустили. Сказали: «Мы вам помогли, помогите и вы нам. Полежите ещё недельку». Тех, кого не могут вылечить, под любым надуманным предлогом из больницы выгоняют. А коли ты здоров, – так полежи ещё. Им же нужны выздоравливающие, для статистики. И я, дурак, пошёл у них на поводу. И за ту неделю, на которую по их просьбе остался, чуть было не угробили. Каждый день брали кровь и ставили капельницы. Капельница, она лишь больному помогает, а здорового человека калечит. Да и ставили их бездумно, неумеренно, по два раза в день. Фактически, каждый раз этой процедурой покушаясь на смертоубийство. Скажешь медицинской сестре: «Вы иглой не попали в вену» – «А вы откуда знаете?» – «Так солянóй раствор идёт в мышцу, соль сильно дерёт». В результате такого лечения все мои локтевые изгибы, могу показать, превратились в сплошной синяк. И потом, к здоровому каждый день приходили с предложением пройти бронхоскопию или даже колоноскопию. То есть в современной терапии со времён солдата Швейка, мастерски выписанного Гашеком, ничего не изменилось. Лечат исключительно клизмой и рвотными порошками.
– Так это же замечательно, – засмеялся Антонов.
– Да, но у кого проблемы с дыханием или, скажем прямо, здоровым людям, клизма не помогает. Тем более рвотное, понимай, гастроскопию. Но мы отвлеклись.
– Согласен. Много я узнал от тебя интересного, но ты меня всё-таки не переубедил. Без врачей, плохих ли, хороших, – не обойтись. От этого и пляши.
– Вот это позиция честного человека, а всё остальное – пустые слова, лирика, – согласился Гавриков.
– Болезнь, Герман, она когда начинается? – задетый обличительными воспоминаниями соседа-пациента, спросил врач, и сам же на этот вопрос ответил, – Когда лукавый научает, что ты ни в чём не виноват. А виноват другой, в данном случае, лекарь. С этой самой мысли все болезни начало своё берут. Или когда хочешь заполучить то, что тебе не нужно. Правильно?
– Правильно, – согласился пациент, – Но только мне нужен больничный, и от простуды лекарства выпишите.
– Кому я это всё говорю, – обиделся Марк Игоревич, усаживаясь за стол, – Лекарства я тебе выпишу и бюллетень дам, но люби меня не за это. А за то, что хочу просветить твою невежественную жизнь светом знания драгоценного.
– Вам бы вместе с Ермаковым по воскресным дням в церковь ходить, – пряча рецепты и бюллетень в карман, заметил Герман. – Подозреваю, не своё вы поприще выбрали. Вам бы по духовной части пойти. Глядишь, были бы сейчас священником – архимандритом.
Глава девятая
Галина и моя мама. Новые встречи с Таньшиной
В понедельник и мама, и жена успокоились. И мне даже показалось, что Галина чувствует себя виноватой. Но жена, не извинилась, это было не в её правилах. В глазах супруги я всё равно остался извергом и человеком, изначально во всём виноватым. К тому же, то смущение, которое у жены замечалось с утра, очень скоро прошло, и Галина принялась меня стыдить и при этом ругалась последними словами.
Моя мама держала её сторону и со своей стороны осуждала меня, не входя в суть дела, не интересуясь подробностями случившегося.
Чтобы как-то обрисовать взаимоотношения Галины с моей матушкой, передам нечаянно подслушанный их разговор, случившийся ещё до рождения Полечки.
Мама, говорила Галине:
– Терпение и труд – главные украшения для замужней женщины, а не золотые перстни с цепочками. Я в своё время как жила? Бывало, свекровь что скажет, я промолчу. Муж несправедливо отругает – стерплю. Вот и был мир в доме.
– Это вы мне для того, Марья Андреевна, рассказываете, чтобы я вам во всем потакала? Так сразу скажу – этого не будет. У меня свои взгляды на семейную жизнь. Своя жизнь личная, в которую я не намерена никого пускать. Я воспитывалась в советской семье. Что не по мне, так я прямо и скажу, молчать не стану. А если попробуете меня с мужем ссорить, я стану за него бороться всеми средствами, так как это моё, родное.
– Путаешь, Галя. Если так любишь прямоту и о родном заговорила, то сын – это, скорее, моё. Вот если бог даст тебе родить своего, то это будет твоё родное. А мой Серёжа тебе не родной. Любимый, милый, как там ещё ты его называешь, когда хочешь подольститься… Родным он тебе стать может только через ребёнка, то есть будет родным отцом твоему сыну. А пока что, без детей, вы – даже ещё и не семья, а зарегистрированные в ЗАГСе сожители. Невенчанные, расписавшиеся без родительского благословления.
– Я так и знала, что этим всё кончится, что станете такие разговоры заводить. Всё это неважно.
– Важно, милая. Ещё как важно. Это я тебе с высоты прожитых лет говорю. Когда замуж идёшь назло отцу с матерью, да ежеминутно в чужом доме характер свой заявляешь, то ничего хорошего из этого не выйдет.
– Это нам с мужем решать. Нам строить свою жизнь, у вас совета не спросим.
Такая вот была беседа. И после рождения Полечки противоречия между Галиной и моей матушкой не только не сгладились, но даже усугубились. А тут вдруг они обе объединились и пошли единым фронтом на меня.
Впрочем, их женская дружба длилась недолго.
В тот же понедельник Таньшина уехала к себе на Алексеевскую. Моя жизнь вернулась в прежнее русло и потекла по-прежнему. Я продолжал преподавать в Университете, в мае съездил в деревню, помог тестю с тёщею вскопать огород и посадить картошку.
Новая неожиданная встреча с Татьяной случилась у меня в Парке Победы на Поклонной горе. Полечка, перед тем как уехать к тёще и тестю в Черноголовку, где проводила всё лето, каталась в парке на роликовых коньках. Я приглядывал за дочерью и вдруг услышал женский крик. Всё произошло мгновенно. Это был голос Таньшиной. Татьяну несло по дороге имеющей большой уклон. Тормозить она не могла, видимо испугавшись, растерялась и забыла, как это делается. Катилась, стремительно набирая скорость и громко кричала от страха. Впоследствии выяснилось, что она в первый раз встала на роликовые коньки. Я вместе с другими неравнодушными кинулся к ней на помощь, и на зависть всем им, оказался тем, кто спас девушку. Спасённая и спаситель, вцепившись друг в друга, закружились, словно в танце, а затем, потеряв равновесие, упали на асфальт. Мы ушиблись, но при этом очень обрадовались новой встрече. Долго и счастливо смеялись, не выпуская друг друга из рук.
Вторая случайная, а возможно, уже и не случайная, встреча с Татьяной случилась у меня в начале июля. Когда Галина с Полечкой жили уже в Черноголовке. Брат Андрей, в то время проживавший у тёщи на Соколе, приехал на похороны своей одноклассницы в наш район. Он сильно набрался за поминальным столом, выкушав без малого две бутылки водки. В таком состоянии не то, что до Сокола, до родительской квартиры без посторонней помощи он не в состоянии был дойти. Родственники покойной позвонили и попросили меня прийти за Королевичем.
Вся наша с братом дорога до дома напоминала сцену из военного фильма о двух солдатах, вырвавшихся из окружения противника и с трудом пробирающихся к своим. У одного бойца смертельная рана и он плетью висит на плече у товарища, всячески препятствуя его ходьбе, а у другого от чрезмерных усилий по его транспортировке, всё тело в поту и выбилась рубашка из брюк.
Зайдя в подъезд, мы встретились с Таньшиной, выходящей из квартиры на прогулку с собакой. Улыбнувшись, девушка поздоровалась с нами. Мне стало настолько неловко и за пьяного брата и за свой неприглядный вид, что я в оправдание забормотал что-то жалкое и нелепое.
– Все хорошо, – успокаивающе прошептала Таня и, приблизившись, нежно коснулась моих губ своими губами.
И тут случилось невозможное. Прислонив брата к стене, я заключил девушку в объятия и крепко её поцеловал.
Мне было страшно и сладко. Я боялся, но целовал и не верил, что целую. Это казалось неправдоподобным. В моих глазах эта девушка была само совершенство.
В тишине подъезда вдруг послышался резкий звук открывающегося замка, хлопнула дверь. По ступеням застучали задники чьих-то домашних тапочек. Мы с Таней тотчас отстранились друг от друга, пряча глаза и краснея, как нашкодившие и застигнутые врасплох дети. Перед нами в пижаме и шлепанцах появился мой отец.
– А то смотрю, в подъезд зашли и пропали, – стал оправдываться Сидор Степанович, извиняясь перед Татьяной за своё появление, а пуще того за свой затрапезный вид.
Таньшина смущённо поздоровавшись, выбежала с Дастином на улицу, а мы вдвоём с отцом поволокли в конец ослабевшего Андрея вверх по лестнице.
Когда привели Королевича домой, он, слегка протрезвев, стал кричать:
– Мама, держи меня! Знаешь, какую я женщину видел! Я удивляюсь, как не ослеп. Это была богиня! Афродита! А была бы здесь твоя супруга, Серёга, я бы обязательно ей наябедничал, что ты целовался с Афродитой. Это неслыханно! Несправедливо! Мама, на его месте должен быть я. Я – старший! Я всегда был первым! Я всегда был лучше его. Почему вдруг случилась такая несправедливость?
Я ушёл в свою комнату, лёг на кресло-кровать и всё ещё ощущая вкус поцелуя, блаженно улыбнулся.
До июля я работал. По выходным, когда жена уезжала к родителям на дачу, мы с Татьяной прогуливались по вечерней Москве. Однажды я ей предложил показать дом, в котором жил четыре первых года своей жизни.
На встречу Таня пришла в длинном штапельном платье, на небесно-синем фоне которого цвели розовые пионы. На ногах красивые легкие белые босоножки. Густые пшеничные волосы заплетены в косу. Шею обвивала нитка жемчуга.
– Все царицы мира завидуют вашей красоте, – восхищённо заметил я.
– Спасибо, – скромно ответила девушка и поинтересовалась, – Ну что, в дорогу?
Сначала мы решили ехать на метро, но передумали. Пошли пешком. Мы шли и на Таню все оглядывались, настолько она была хороша в своём простом и всё же царственном наряде.
От метро «Кунцевская» по Кастанаевской улице мы неспешно дошли до станции метро «Багратионовская». Здесь на нашем пути попалась лужа, оставшаяся после ночного дождя. Я подал Тане руку, которую та охотно взяла. И преодолев препятствие, мы продолжили свой путь, держась за руки. Дошли до станции метро «Фили». Перебравшись на другую сторону железной дороги Белорусского направления, мы вышли к Бородинской панораме. Посидели на скамеечке у памятника Михаилу Илларионовичу Кутузову, избавителю Москвы от наполеоновского нашествия. Затем прошли мимо Первого МПЗ, где трудился мой отец, перешли Кутузовский проспект и пошли в сторону Киевского вокзала, к дому, в котором прошли первые годы моей жизни. От Киевского вокзала, на речном трамвайчике по Москве-реке мы добрались до Парка Культуры и гуляли там допоздна.
Славное было лето. Мы с Татьяной ходили в бассейн и на речку. Таня учила меня играть в большой теннис на открытых кортах спорткомплекса «Искра», что на станции метро Ботанический сад.
Мы ходили вместе в кино, в театр, на вернисаж в Измайлово. Я предложил Тане сделать ремонт в квартире на Пятнадцатой Парковой, чтобы она могла сдавать свои апартаменты жильцам и не нуждаться в деньгах. Чем в августе месяце мы и занялись. Я был больше на подхвате, а первую скрипку в ремонте играла молодая хозяйка. Тогда же я купил дорогой хороший фотоаппарат и мы много фотографировались. А затем со снимками, где я пью квас из бутылки и лежу, развалясь на диване, Таня выпустила сатирическую стенгазету, смешную, уникальную и удивительную.
В одно из воскресений мы отправились с Таней на Вернисаж. В переходе у станции метро «Измайловский парк» случайно наткнулись на Андрея с приятелем, которые пели, аккомпанируя себе на гитарах. Вокруг них собралась целая толпа поклонников. То и дело летели монеты и купюры в раскрытый чехол от гитары, лежащий перед артистами. Мы с Таней остановились послушать импровизированный концерт, а в антракте подошли к менестрелям и Андрей познакомил нас с Вениамином Ксендзовым.
Весь день мы гуляли с Таней по Вернисажу, держась за руки, а Ксендзов с Королевичем, бросив свой доходный промысел, ходили за нами с гитарами и пели только для нас. По уверению Вениамина, находясь в нашем обществе, он получал наслаждение, отдыхал душой. Мы ему верили и не удивлялись его восторженным словам, справедливо полагая, что влюблённые притягивают к себе людей, желающих им сделать что-нибудь приятное.
Влюблённый человек преображается сам и преображает окружающий его мир. А если влюблённых двое, – то это второе солнце, которое ходит по улице рядом с вами, светит и согревает.
На город спустились вечерние сумерки, незаметно превратившиеся в ночь. Мы с Таней бродили по опустевшему городу и без конца целовались. Стоя на мосту, проходящему над многочисленными железнодорожными путями, любовались синими и лунно-белыми огоньками маневровых светофоров и сияющими звёздами на московском небе.
Ранним утром мы вдруг попали под тропический ливень, промокли до нитки. Таня пригласила меня просушиться на Пятнадцатую Парковую в только что отремонтированную квартиру. Там мы переоделись. Молодая хозяйка надела длинный до пят розовый махровый халат. А мне дала новую, но старомодную шёлковую полосатую, видимо, дедушкину пижаму.
Свою мокрую от дождя одежду мы постирали и повесили сушиться на кухне.
Тогда же на Пятнадцатой Парковой «это» и случилось. Я счастливый лежал на спине в смятой постели и несмотря на приятную, но чудовищную усталость, не в состоянии был закрыть рот. Говорил без умолку, а улыбающаяся Татьяна, лёжа у меня на груди, с благоговением во взоре слушала мою болтовню.
– Я о тебе совсем ничего не знаю, – жаловалась девушка.
– А что ты хочешь обо мне знать?
– Всё. Расскажи о себе. Начни с самого детства.
– С детства? Тогда наберись терпения, повесть моя будет долгой.
– Чем подробнее, тем лучше.
– Как только я осознал, что живу, так сразу же стал задавать родителям два вопроса.
– Кто виноват и что делать?
– Нет. Интересовало меня совершенно другое. А именно, как это так получилось, что меня не было и вдруг я появился?
– А второй вопрос?
– Сколько это счастье продлится?
– И что родители тебе отвечали?
– Отец предпочитал отмалчиваться. Когда уж совсем я на него наседал, обнадёживал: «Вырастишь, узнаешь». Матушка, наоборот, очень обстоятельно на мои вопросы отвечала. Второй вопрос не сразу возник в моей голове, а в результате беседы со старичком на похоронах. Я тебе уже говорил, что все дома наши были густо заселены и свадьбы, и похороны были явлением обычным, даже можно сказать будничным. Так вот, на очередных похоронах, кто-то из взрослых и много поживших, открыл мне, ребёнку, глаза на то, что жизнь наша не бесконечна. Сказал, что рано или поздно похоронят всех, в том числе и меня. Я ужаснулся от услышанного и прибежав домой спросил у мамы: «Когда придёт моя очередь умирать? И нельзя ли как-нибудь ради меня этот закон нарушить?». Я готов был мириться с тем, что все умрут, даже мой брат и мои дорогие папа и мама. Но смириться с мыслью, что умру я, было невозможно. Всё существо моё против этого бунтовало. «Этого не может быть», – убеждал себя я, – «этого не будет».
– Подожди. Что тебе ответила мама на первый вопрос? Ты узнал от неё, как появился на свет?
– Глядя мне прямо в глаза, мама объяснила: «Я пошла к врачу. Доктор дал мне семечку, я её проглотила, и у меня стал расти живот. Когда пришло время, я снова пошла к врачу, он живот разрезал и достал тебя». У мамы действительно был шрам на животе, я видел его, когда мы всей семьёй отдыхали на речке. Поэтому эта версия мне показалась убедительной. Причём я представил себя вышедшим из живота сразу в ботинках и одежде. Таким же, каким я был, только меньших размеров.
– Что насчёт смерти мама сказала?
– Она объяснила так: «Люди живут на Земле сто лет, а потом умирают». «Неужели и я умру?», – задал я ей самый важный на тот момент свой вопрос.
«Да», – подтвердила мама слова старичка, – «надо признать, что все мы умрём».
– Как ты на это отреагировал?
– Какое дело мне было до всех. А вот тот факт, что я умру, и моя родная мама говорит об этом так спокойно, – это тогда меня поразило. Я не смог сдержать слёз и разрыдался прямо на кухне. Я не спал, как мне казалось, всю ночь и размышлял о том, как это всё случится. Впервые в мою ясную, светлую, безмятежную, а главное, вечную жизнь ворвалось что-то тёмное, тревожное. Я долго старался представить себе этот неприятный день, когда ко мне, купающемуся с товарищами в речке, подойдут и скажут: «Вы так резвитесь со своими друзьями, а между тем забыли, что вам сегодня сто лет в обед. Давайте-ка, вылезайте из тёплой воды, одевайтесь и ложитесь в гроб. Мы отнесём вас на кладбище и закопаем в сырую, холодную землю» – «Ну надо, так надо. Если уж закон такой». И начинал себя мысленно убеждать: «Действительно, а иначе на Земле другим места не останется. Что ж, лягу в гроб, пусть отнесут меня на кладбище и зароют. Буду смирно там лежать в темноте. А другие люди в это время будут бегать по Земле, смеяться и веселиться. Как будто ничего и не случилось, ничего не произошло». В голове сразу начинали роиться мысли: «Надо будет договориться с могильщиками, чтобы они гроб мой не забивали и глубоко не закапывали. А я уж, как стемнеет, выберусь, отстригу себе столетнюю бороду и буду жить безмятежно следующие сто лет. Зимой кататься с ребятами на санках, летом играть в „чижика“ и лапту, купаться в нашей мелкой и мутной Сетуньке». Распространённая в те атеистические годы мысль «травой прорасти и зазвенеть на полях колокольчиками», меня ни с какой стороны не устраивала. Такой вариант мне даже в голову не приходил. О смерти, надо заметить, заговаривал со мной и твой дедушка. Ерофей Владимирович пояснял мне, что человек может умереть и не дожив до ста лет. Но при этом уточнял, что смерти, как таковой, не существует. Тело сгниёт, а душа улетит на небо. Мама, присутствовавшая при этих его разговорах, сердилась и просила не забивать ребёнку мозги всякой вредной чепухой. Да и мне, признаться, такое не слишком нравилось. В моём варианте «состриг бороду и катайся себе ещё сто лет в парке на каруселях» было больше тепла и жизни. А то тело сгниёт, душа улетит. Что значит «сгниёт»? Жалко. Это же моё тело. И потом, что это за «душа», которая улетит на небо? Зачем она вообще нужна без тела. Да, и, положа руку на сердце, с неба, конечно, труднее удрать, чем с кладбища. «Какой такой рай? Не надо мне рая. Разве может быть что-то лучше моей жизни на Земле?». Так я вполне искренно рассуждал, хотя жизнь земная, как теперь вспоминаю, была совсем не сахарная. Не мы одни, все окружающие, друзья и знакомые, родня, соседи – все очень бедно жили. В нашем дворе состоящем из трёх пятиэтажных домов, в которых были сплошь коммунальные квартиры, был всего один велосипед. Да и тот был куплен смертельно больному мальчику. Врачи убедили родителей, что спасение только в велосипеде: «Купѝте сыну велосипед и пусть он на нём с утра до ночи, в любую погоду, в любое время года, наматывает по двору круги». И Игорёк наматывал, и никто у него не просил покататься. Никто не отбирал велосипеда, хотя ребята были всякие. Даже шпана понимала, что не для удовольствия он раскатывает по двору, а от смерти своей бежит, спасается. Сразу скажу, что не только убежал, но и пережил всех своих сверстников, сильных и здоровых. Обладатели футбольных мячей, их было двое, почитались чуть ли не за богов с Олимпа. Смешно сказать, но даже игрушечный вертолёт, запускавшийся с рогатки при помощи шёлкового шнурка, делал его обладателя, рыжего Серёжу, значительным человеком в дворовом сообществе. Детей и подростков, повторюсь, было очень много. Поэтому враждовал двор с двором. О чём я тебе рассказывал. Впоследствии коммуналки расселили, люди разъехались, соседние дворы замирились и создав коалицию, стали враждовать с другой стороной улицы. Затем с другим районом. Незаметно всё это противостояние само собой закончилось, так как район наш постепенно опустел. Я рано повзрослел и не потому, что в учителях недостатка не было, а в большей степени от того, что жили бедно. Дети в бедных семьях если и не умнеют, то уж взрослеют рано. Когда я ещё в детский сад ходил, подошли мы с приятелями к забору, а в заборе дыра. Тут же мои приятели изъявили желание убежать, так как отношение воспитателей к нам было несносное, и убежали. Велик был соблазн последовать их примеру, но я поразмыслил и остался. Во-первых, потому что родителей дома не было, а во-вторых, я знал, с каким трудом моим родителям место в этом детском саду досталось. Отец в течение шести месяцев работал разнорабочим на стройке. Поэтому и в углу я стоял послушно и терпел, как мог, когда воспитатели в качестве наказания глаза мылили.
– Тебя послушать, в детском саду работали одни садистки, – смеясь отреагировала Таня.
– У меня фотография есть. На ней все хороши, но особенно впечатляют глаза нянечки. Это глаза настоящей ведьмы. «Клещи огненные», а не глаза. И таким доверяли детей. Надо сказать, что я уже в четырёхлетнем возрасте был чрезвычайно стыдлив. Стыдлив и влюбчив. Не знаю, как теперь, но тогда в детских садах для мальчиков и девочек был общий туалет. Дети редко им пользовались, но сам факт говорит о том, что нас за людей не считали. Впрочем, к взрослым было точно такое же отношение. Может, тебе это покажется странным, но я уже в детском саду осознавал себя, как, окончательно сформировавшегося человека. Знающего, что хорошо, что плохо, отвечающего за свои поступки. И меня, с таким вот моим сознанием, грубые и озлобленные на свою беспросветную жизнь женщины, таскали за уши, срывая на мне зло, и ставили в угол. Впрочем, с ними, наверное, обращались точно так же, хотя это их и не оправдывает. Я очень хорошо помню, что тогда уже мне мешало моё крохотное тело и я не по-детски грустил о том, что ещё долгие годы мне придётся влачить бесправное, бездеятельное существование. Пока появится возможность заниматься чем-нибудь сознательно и свободно. Спасение находил, уходя в мечты и фантазии. И была несостыковка. Считая меня ребёнком, очень серьёзно относились к сказанным мною словам. Ругали за выдумки, за вымысел, называя мои фантазии ложью и враньём. Наказывали меня за мечты мои светлые. Сейчас я вспоминаю это с улыбкой, но тогда мне было не до смеха. В детстве было много интересного. Входишь во взрослый мир беззащитным, чтобы как-то выжить, вынужден общаться, сравнивать себя со сверстниками. Задавать взрослым тысячу вопросов, на которые те боятся, а зачастую и не в состоянии дать ответа. В детском саду я часто влюблялся и с интересом наблюдал за своими ощущениями. То есть следил, что происходило со мной в тот момент, когда предмет моего обожания находился рядом. Если определить то моё состояние, как состояние восторга, то всё равно это будет сухим и не полным определением. Это был взрыв эмоций, рождение новой галактики. Признаюсь, что я тогда беспредельно любил жизнь. Я её и сейчас люблю, но что со мной творилось тогда, – невозможно передать словами. Я на всех и на всё смотрел влюблёнными глазами и видел, что вечно уставшие воспитательницы, с застывшими на лицах гримасами ужаса, ненавидят всех и всё. Я удивлялся и задавал себе вопрос: «Почему они такие?».
– У тебя мамка всю жизнь в детском саду работала, а ты о детских воспитателях такие ужасы рассказываешь. Кстати, почему вы с братом к ней в детский сад не ходили?
– Она тогда ещё в детском саду не работала. И я же не обо всех, а только о своих воспитателях тебе говорю. У нас были такие, где-то возможно, наоборот, золотые. Добрее отца с матерью. В детстве я был очень близок к природе. К насекомым, к птицам, к зверям. Взрослея, удаляешься от природы, и это печально. У меня были свои страхи. С ужасом думал я тогда о сверстниках, что живут в интернатах и детских домах. И никогда не прощу родителям их угрозы отдать меня в интернат, за то, что временами я слишком, по их мнению, резво бегал и громко смеялся. Родители, зная за мной этот страх – пользовались. Я сразу же притихал, солнце для меня заходило за тучу, – я боялся, не хотел в интернат.
– Ты, оказывается, злопамятный?
– Мне просто некому было за всё это время поплакаться в жилетку. Не было родной души, способной меня услышать, понять и пожалеть.
– Рассказывай дальше.
– Там же, в детском саду, я заметил в себе неуёмное желание хоть в чём-то, но быть первым. Но опять же заметил, что первым я хотел быть не во всём. Например, один мальчик в нашей средней группе, Игорь Грачёв, умел читать и ему давали в руки книгу, чтобы он занимал нас чтением вслух. Причём от напряжения вся его верхняя губа покрывалась крупными каплями пота. Я признавал его умение, как высокое достижение, но соревноваться в этом ремесле я с ним не хотел. Слушать чтение я любил, но чтобы в четыре года читать самому – нет, на это я был не согласен. Что-нибудь слепить из пластилина, порисовать, – это было моим. Рисовали у нас все, за редким исключением, плохо. Было два художника, забитый, тихий мальчик Герман Гавриков, живущий в моём подъезде, и я. Но при этом Герман рисовал не просто хорошо, а запредельно для тех моих возможностей. Он создавал такую же картинку, как художник в книжке. Собственно, он художника из книжки и копировал. Его за это хвалили, я ему завидовал. Пробовал подражать, но у меня не получалось. Он изображал пионеров, идущих в строю. Если смотреть на картинку то первого пионера мы видим целиком, с руками и ногами, а всех остальных только контуры. И эту шеренгу, неизвестно куда шагающих пионеров, он рисовал каждый день как заведённый. Ничего другого он нарисовать не мог. Любимый цвет карандаша у детей в нашей группе был цвет морской волны. Как только нам открывали коробку, все тотчас хватались за него. И можно было наблюдать странную закономерность. Карандаши других цветов почти что все целёхоньки, сантиметров по двенадцать, а карандаш цвета морской волны размером в два сантиметра. Этим цветом разукрашивали всё: море, небо, листья на деревьях, птиц, собак, людей. Всем нам, детям, не хватало в жизни этого цвета. И вот, как-то в субботу детей в саду было мало, человека четыре вместе со мной. Германа Гаврикова, рисовальщика пионеров, не было. Помню, это была зима, снежок медленно падал за окном. И нам открыли и дали новую коробку карандашей. Я первым схватил драгоценный карандаш цвета морской волны и глазам своим не поверил. Был он огромный, не два сантиметра, а совсем такой же, как и все остальные. И дали нам ровную белую бумагу, а не серые листы с завернувшимися краями. И я конечно постарался, изобразил огромную, пушистую, еловую ветку и новогодний цветной шарик, висящий на ней. Придя в понедельник в детский сад, я увидел свою картину на выставочной доске. Над ней красовалась надпись: «Первое место». Как правило, все наши рисунки шли в мусорную корзину, делалось это прямо у нас на глазах. А тут – такое. Счастью моему не было предела. Ничему впоследствии я так не радовался, как тому первому месту на выставке детского рисунка. Рисовал я много, не оставил этого увлечения и в школе. Учительница первого класса, человек не просто сердитый, а болезненно злой, увидев мой первый рисунок, похвалила меня родителям. А нарисовал я политически выверенный рисунок. Красную площадь, звёзды на башнях Кремля, часовых у дверей мавзолея. Это первого сентября нам раздали бумагу и предложили нарисовать, кто что хочет. Моё чутьё мне подсказало, что следует рисовать. Многим не подсказало. И я был удивлён, до какой степени бешенства может довести учителя созерцание рисунков учеников. Конечно, прежде всего её вывело из себя несерьёзное отношение, с которым многие отнеслись к выполнению этого задания. Её предложение «нарисуйте, что вам нравится», было воспринято впрямую. Кто-то изобразил цветок, кто-то грузовой автомобиль. Учительница на этих «несознательных» кричала так, что стёкла в оконных рамах звенели. Тогда-то я и сообразил, что школьная жизнь будет ничем не легче детсадовской. Тут надо заметить, что в школу я стремился. К семи годам детский сад уже надоел. Но школа своей глупостью и отсутствием знаний, опостылела мне очень скоро. Та же фальшь в отношениях учителей и учеников, да какие-то ещё детские игры. Я имею в виду Октябрятские звёздочки. Какая-то глупая игра для взрослых уже детей. И за учительницу было стыдно и за себя. Экспрессивная была женщина, Александра Анатольевна, но ей, несмотря на все её старания, не позволили нас доучить. А после неё стали меняться у нас учителя один за другим. А с четвёртого класса наступила настоящая вольница. Учителей стало много. За три года я в школе уже пообвыкся, до окончания «каторги» была ещё целая вечность, длинною в семь лет. Летом ездил в пионерский лагерь, с осени до следующего лета, учился в школе. Летом – в футбол до темна, зимой – хоккей в темноте. В школе я учился легко, для меня не составляли труда те задания, которыми нас там обременяли. Иногда даже было обидно, за кого же нас принимают. Или, как говорила моя покойная бабушка, «воспринимают», что такие лёгкие уроки задают. Любимыми предметами были история и литература. Но и математика, как ни странно, была у меня на высоте. В четвёртом классе урок рисования самый любимый. Это был не урок, а час блаженства. Рисование нам преподавал пожилой, на вид очень строгий учитель, Анатолий Григорьевич. Он драл непослушных учеников за волосы, щёлкал пальцами по лбу так, что на этом месте шишки вскакивали. И всё это учениками и учителем воспринималось как норма взаимоотношений. В отношении меня он был предупредительным и ласковым. Мне он всё прощал за то, что я любил рисование. За один урок я изрисовывал весь десятистраничный альбом. А другие еле-еле одну картинку вырисовывали. Признаюсь, не рисовал того, что требовала школьная программа. Чучело селезня, статуэтку верблюда. И у учителя хватало и ума, и такта не заставлять меня заниматься этой тупой, бессмысленной работой. Он смотрел мои рисунки, вглядывался в баталии, которые вовсю разворачивались на страницах моего альбома. Смеялся той живости, с которой я изображал сражающуюся братию, давал ценные советы. У меня то индейцы бились с ковбоями, то русские с французами, то красные с белогвардейцами, то советская армия с фашистами. Все мои картинки, разумеется, не были совершенны с точки зрения живописности, но они были занимательны своим психологическим сюжетом. Чем собственно Анатолия Григорьевича и покоряли. Узнав о существовании кентавров, я их тотчас призвал в красную армию. Надел на голову будёновку, в руки дал две сабли, на спину посадил красноармейца. То есть вся красная армия пересела с нормальных лошадей на кентавров. Когда же узнал о существовании русалок, тотчас и их мобилизовал. Рисовал плот на озере, на плоту пулемёт «Максим», за пулемётом русалка в будёновке. Анатолий Григорьевич одобрял мои нововведения в красной армии. Только просил, чтобы я у русалок сисечки прикрыл чешуёй. Тогда с эротикой было строго.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?