Текст книги "Люблю"
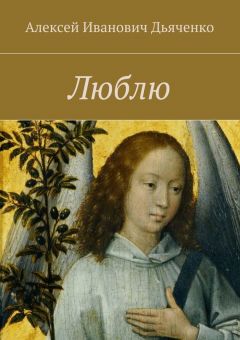
Автор книги: Алексей Дьяченко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Пересчитывая, он настолько погрузился в процесс, такое испытывал наслаждение, что все находящиеся в комнате невольно поддались этой магии и следили за ним, не в состоянии оторвать глаз. Он и нюхал купюры, и смотрел их на свет, и целовал. Переворачивал же не иначе, как послюнявив, для большей цепкости, пальцы, словно не деньги считал, а плов ел. У всех наблюдавших за этой процедурой слюнки текли, так аппетитно он всё это делал.
– У тебя появились деньги? – Спросил Фёдор.
– И немалые, – самодовольно ответил Случезподпишев.
– Так может, отдашь мне тогда червонец? – Поинтересовался Фёдор, рассчитывая теперь же расплатиться с Леденцовым.
– Какой? – Испугался Стасик и спрятал деньги в карман.
Фёдор понял, что сделал ошибку, спросив десятку, которую тот ему задолжал и на которой он давно уже поставил крест. Но, слишком уж велико было искушение. Исправившись, тут же, вдогонку, он сказал:
– Ладно.
– То-то же, – подхватил Стасик это «ладно» и спрятал его в карман вместе с деньгами.
– У кого ты червонцы свои спрашиваешь? – Снова оживился Вадим. – У этого? Забудь! Лучше послушай занимательную историю, тоже о червонцах и об одном подонке, не имеющем ни чести, ни совести, ни чувства собственного достоинства. Этой весной Стася пригласил меня в гости к своей невесте. Предупредил: «Ты там не особенно. Девицы будут порядочные, держи себя скромнее». Это он мне так говорил, а я ему верил. Сначала отказывался ехать, куда ехать, денег не было по гостям ходить. Он мне – не бойся, за всё плачу. Купили пива двадцать бутылок, на его счёт, по его совету. Рыбу купили копчёную, скумбрию, всё по его же рекомендации, и в гости к невесте поехали. Ехали долго, не помню куда, помню первое впечатление от помещения. Привёз меня в ночлежку Костылева, в общежитие, в бывшую солдатскую казарму, разделённую перегородками на квадраты-комнаты. Кто живёт там, я так и не понял. В основном, конечно, женщины. Ну, тут же и дети, и целые семьи, короче все вперемешку. Вот одну из многих он своей невестой и называл. Пока я это всё за чистую монету воспринимал, вёл себя, как мне и наказывалось, прилично. Стася напился, стал при мне своей невесте допрос учинять. Узнал от кого-то, стороной, что накануне приходили солдаты и спрашивает: «Ты с солдатами спала?». Невеста, не смущаясь, говорит: «Спала. Все спали и я спала». Ну, само собой разумеется, что жених с невестой другими терминами оперировали, я лишь точный смысл передаю. Ага. Я хоть и выпил тогда, до допроса, три бутылки пива, но ещё соображал. Встал, оделся, говорю – мне пора. Стася: «Подожди, сначала давай за пиво рассчитаемся». Отдал я ему за половину, за десять бутылок, он опять не отпускает. Говорит – за рыбу плати! Я отдал ему и за рыбу. Остался у меня последний червонец, он забрал и его, но не сразу. Я, одетый, иду к выходу, он меня оббежал, закрыл собой дверь и говорит: «Не выпущу. Чего ты уходишь? Боишься, не выгорит? Не бойся, всё будет нормально». И тут же спрашивает у одной из сидевших в стороне: «Люся, скажи Вадиму, что всё будет нормально». «Да, всё будет нормально», – отвечает Люся. «Люся, скажи Вадиму, что он может лечь сегодня с тобой». «Да, Вадим, можешь лечь сегодня со мной». А Стася, вот так же, только от пива ещё противнее рожа была, лыбится, свинтус.
– Что-о? – Завизжал Случезподпишев.
– Извини, – спохватился Вадим.
– Не свинья я? – Потребовал Случезподпишев подтверждения.
– Нет, не свинья, – подтвердил Мазымарь, – но, разумеется, и не человек.
– Последнее приятно слышать, – сказал Стасик, пробуя шутить, и опять заулыбался.
– Я уходить, – продолжал Вадим, – он ни в какую, не выпускает. Стал поносить почём зря. Причём упор в поношениях, как вы сами понимаете, делался на уничижение моих потенциальных возможностей по мужской линии. Что бы, так сказать, перед девицами меня осрамить. Когда не помогло, кинулся в другую крайность. С пеной у рта начал хвалить меня в глаза и при этом ругать себя. И вот, когда всё оказалось напрасно, когда я его от двери отстранил, силёнок всё-таки во мне поболее, он, что же, гад, придумал! Принялся невесту свою истязать, требуя у неё десять рублей, помня, разумеется, что у меня десятка осталась. Бьёт её, а сам на меня смотрит. Отдал я ему десятку и сразу же забыл о ней, забудь Федя и ты, Бог с ним.
– Вот именно, Бог со мной, – подхватил Случезподпишев. – А тот червонец я помню, это не ты мне его давал, это моя давала. Так что не надо! Я всё прекрасно помню, у таксиста за двадцадку я польскую водку тогда взял. Её это были деньги, а не твои! – Закончил он, довольный уже и тем, что так много о нём говорилось.
– Ну, вот, – показывая на него рукой, сказал Вадим и, заметив за спиной Фёдора только что появившуюся Лилю, обратился к ней. – Проходи, не подслушивай. Ни о чём секретном не говорим.
– Олухи Царя Небесного, переодели бы его, он же заболеет! – Сказала Лиля, переживая за Фёдора.
Фёдор, незаметно привыкший к своему новому состоянию и до прихода Лили о мокрой одежде забывший, после её слов ощутил озноб и вспомнил Козловку и Черногуза.
– Да! Я же сегодня за деньгами ходил, – объявил он из другой комнаты, где надевал на себя сухую одежду Леденцова, которая была ему коротка и придавала фигуре комический вид.
– За какими деньгами? – Спросил Случезподпишев.
– На кино.
– Да? Ну и что? – В один голос спросили Леденцов и Мазымарь, и, посмеявшись над таким совпадением, задумав желания на счастье, дали Фёдору говорить. Фёдор кратко рассказал о своём пребывании в тереме, о том, как пил и спал, а закончил тем, что сказал:
– Деньги дают. Но, боюсь, они пахнут кровью.
– Ну и пусть, – сказал Стасик, у которого от услышанного заблестели глаза. Немедленно достав десятку и отдав её Фёдору, со словами « я всё вспомнил», он произнёс:
– В Америке Голливуд мафия финансирует, пусть и у нас так будет!
Фёдор передал полученную десятку Леденцову и вопросительно посмотрел на Вадима.
– Не слушай его, – сказал Мазымарь. – Он слабый человек, ничего в искусстве не понимает. А Марина как? Не звонила?
– Ой! – Вспомнил Фёдор. – Меня же дома ждут! Узнаю заодно и о ней. Где телефон?
Телефона у Леденцовых не было и пришлось идти на улицу, звонить из телефона-автомата. Вернувшись, Фёдор сообщил, что звонила Марина, просила передать, что будет ждать его завтра в десять утра, во Дворце Культуры.
– Будьте готовы, не исключено, что завтра же придется к Ватракшину идти, – закончил он, обращаясь к Вадиму и Геннадию.
– Федя, – сказала Лиля, взяв его под руку и отведя в сторону. – Анну я на твою кровать положила, в комнате, отведённой для тебя. Глаза у неё совсем закрывались, по-моему, она, уже спит. Правильно поступила?
– Очень даже правильно. Пусть спит, высыпается. Вы её не гоните, пусть у вас поживёт. С утра поеду, встречусь с Мариной, а вы покормите её, да будьте с ней ласковы.
Имея в своём режиме дневной сон, а так же хорошо выспавшись в постели Черногуза, Фёдор остаток ночи не спал.
– Дай, что-нибудь почитать, – сказал он собравшемуся ложиться и сонно моргавшему Леденцову.
– А чего я тебе дам? Евангелия у меня нет, – сказал Геннадий, памятуя о Фединых пристрастиях и слегка иронизируя над ними.
– Давай Достоевского или Гоголя.
– Это Лилька брала в библиотеке и отдала, её книги. Лучше Ницше почитай или хочешь Зигмунда Фрейда, приобрёл на днях у спившегося профессора.
– Нет. Этих не надо, – отказался Фёдор. – От этих, во-первых, сразу же засну, а во-вторых, кошмары приснятся.
– Тогда читай сказки А.С.Пушкина, – насмешливо сказал Леденцов.
– А что, есть? – Оживился Фёдор. – Неси! Я люблю его сказки.
Леденцов, улыбаясь и недоверчиво при этом поглядывая на Фёдора, принёс ему книгу сказок.
Не раз всплакнув, за чтением, от переизбытка чувств, Фёдор встретил рассвет совершенно бодрым.
Часть третья
Пятница. Девятнадцатое июня
Леденцов не хотел брать Федора на участок, но, убедив Геннадия, что ему необходимо развеяться и успокоиться после чтения, Макеев все-таки пошел вместе с ним подметать. Вернувшись, легко позавтракали, Федор поехал на встречу с Мариной Письмар, а Леденцов отправился досыпать.
Подходя к Дворцу Культуры, где назначена была встреча, Федор прочитал висевшую на доске объявлений афишу:
«Идол», пьеса в двух частях, идёт без перерыва. Автор пьесы и режиссер – Август Анисимов.
Войдя в здание, и пройдя за кулисы, он нашел там бегающих и суетящихся людей. Не найдя среди них Марины, Федор спросил о ней у длинноволосого человека, непонятного пола, одетого в свитер и брюки. Он, единственный из всех, не бегал, стоял и расправлял кашне на сухощавой шее. Непонятный человек на вопрос живо откликнулся и сиплым голосом, одинаково неподходящим обеим полам, сообщил, что Марина задержится, и любезно предложил Федору скоротать время в зрительном зале.
Зал, способный вместить около тысячи, имел от силы пятнадцать зрителей. Были две парочки, пришедшие не иначе, как затем, чтобы в темноте целоваться. Молодая мама с двумя малолетними детьми, бегавшими с криком и смехом между рядами, бросавшими друг в друга хлеб, оставшийся от бутерброда. Особнячком сидели студийцы, пришедшие посмотреть на игру старших товарищей из Народного театра, отличавшиеся от остальных зрителей отвратительным поведением. Принесённый букет цветов, купивший его, из показной бравады, пинал ногами. Он, судя по всему, стеснялся своего поступка, покупки цветов, и чувствовал себя неловко в среде подтрунивавших над ним товарищей.
Глядя на студийцев, Федор поймал себя на мысли, что он, как старый ворчун, подумал сейчас о том, что в его время студийцы были другими, были такими, какими надо, и что теперешние в сравнении с теми много проигрывают.
На первом ряду сидел дед в соломенной шляпе, лузгал семечки, а шелуху сплевывал на пол, прямо перед собой. С ним рядом, почти по соседству, сидел блаженный, из тех, которых в народе попросту называют дурачками. Этот блаженный беспрерывно вскакивал и смотрел назад, куда-то вдаль, как это делают в кинотеатрах, беспокоясь, отчего вовремя не начинается фильм, а заодно своим вставанием, как бы сигнализируя киномеханику, что время вышло и пора начинать. Он думал, что будут показывать кино. Поведение его, по крайней мере, выдавало в нем это настроение. Был он неплохо одет, но скверно подстрижен. Казалось, хулиганы, над ним посмеялись, выхватив ножницами из шевелюры целые клоки волос. К своему счастью, он мало замечал беспорядок, царивший на его голове, а так же чужие насмешки.
Присоединившись к зрителям, Федор стал дожидаться начала действа.
Свет в зале внезапно погас и в кромешной темноте, громко зазвучала музыка. Это был гимн Советского Союза. Медленно, дав зрителю вдоволь посидеть в темноте, лопнув, стал расползаться занавес. И тут же, нарушая, а временами полностью заглушая для Федора стройную мелодию гимна, из зала стал разноситься гомерический хохот. Смеялся один из кавалеров, пришедший целоваться в темноте, сидевший через ряд прямо за Федором. Смеялся он над дедом, тем, что грыз семечки, который был уже без шляпы и не сидел, а стоял по стойке смирно, смеялся над блаженным, который глядя на деда, тоже встал по стойке смирно и приложил к выстриженной клоками голове руку так, как это делают военные, отдавая честь, при наличии головного убора на голове. Смех продолжался недолго, в конце концов, утих, а стоявшие по стойке смирно стояли до тех пор, пока звуки гимна не прервались. Как только услышали тишину, сначала дед, а на него глядя, и блаженный, сели и стали смотреть на сцену.
На сцене, после того как занавес открылся, зритель увидел две стены облицованные кафелем, отделённые большим пространством по центру, двух женщин в лохмотья, сидящих под ними, и большой постамент, в форме сельского сортира с окошком в форме сердца, на котором стоял гипсовый Ленин. Постамент был в глубине сцены, практически сразу за ним шёл багровый задник, на котором красовались в профиль Маркс, Энгельс и Ленин.
Заиграл торжественный марш. Из постамента через дверцу с вырезанным сердцем вышли один за другим четверо, причем у двух первых, одетых в одинаковые костюмы были таблички на шее. Следом шёл пионер, наряженный в пилотку, рубашку, галстук и шорты, а замыкал колону актер в форме милиционера. Все они, шагая колонной и в ногу, прошлись по сцене и, остановившись на её краю, не поворачиваясь, продолжали маршировать на месте.
– Стой, ать-два! – Скомандовал первый. – На пра – во!
Четвёрка повернулась лицом к залу, и марш оборвался и исчез так же внезапно, как гимн. Теперь, когда актёры стояли лицом к залу, зритель мог прочесть, что было на табличках. У первого было написано «КПСС», у второго «ВЛКСМ».
– Что такие хмурые? – Спросил актер с табличкой, на которой было написано «КПСС» у зрителей, но как бы у нищенок, присутствовавших на сцене. – Молчите? Это хорошо. Мы любим молчаливых!
Достав из кармана конституцию, он стал делать вид, что читает её и, передав конституцию актеру, у которого на табличке было написано «ВЛКСМ», огласил то, что якобы вычитал:
– Народ и партия едины, народ для партии – скотина!
Комсомолец, не удосужившись даже заглянуть в конституцию, передав её пионеру, сказал следующее:
– Комсомол – любимое детище партии! – И приставив руку к губам, как бы говоря по секрету, так же громко добавил, – ласковое дитя двух маток сосет.
Пионер, которого на сцене играла мясистая женщина с толстыми ляжками, не читая, передав конституцию милиционеру, прокричала в зал:
– Если комсомол любимое детище, то пионерия, надо вам знать, излюбленная игрушка партии.
Актер, игравший милиционера, покрутив конституцию в руках и показав пожатием плеч, что не умеет читать, порвав её и бросив на сцену, вынул из-за пазухи резиновую дубинку, помахал ей в воздухе и сказал свое слово:
– Демократия, вашу мать, это вам не дозволенность!
Словам милиционера, коммунист, комсомолец и пионер зааплодировали.
Зааплодировал и дед, сидевший на первом ряду, а вслед за ним и блаженный. Подняв руку вверх, как бы прося аплодисменты прекратить, коснувшись указательным пальцем головы, актер, игравший коммуниста, показал, что думает, как после слов милиционера поступить, и, придумав решение, опустив руку, скомандовал:
– На пра – во!
Четверка повернулась направо, и милиционер оказался в начале колоны. Все остальные, как бы добровольно отдавали ему свое первенство. Коммунист, замыкавший теперь колонну, все одно продолжал командовать:
– Шагом марш!
Все зашагали за милиционером, который подойдя сначала к одной нищенке, а затем к другой, бил их дубинкой по голове и приговаривал:
– Недозволенность, вашу мать. Недозволенность.
После чего вся колонна скрылась в постаменте, закрыв за собой дверь, а к оставшимся на сцене нищенкам из-за кулис вышел парень с бутылкой.
На этом месте, театрального действа, клевавший носом Фёдор погрузился в сон. Проснулся от громкого марша, под который на сцену, один за другим, выходила уже знакомая ему четверка, окружавшая полукругом парня, продолжавшего находиться на сцене с ополовиненной бутылкой в руке.
– Ой, смотрите, – крикнула женщина, игравшая пионера, подсказывая товарищам предлог, который они искали, чтобы придраться, – он пьяный.
Коммунист, комсомолец и милиционер разом, как по команде, кинулись с кулаками на парня и с ожесточением стали его избивать. Глухие и хлесткие удары, попеременно доносившиеся со сцены, исключали всякую имитацию и вызывали оторопь.
Когда же, наконец, прекратив избиение, коллеги по Народному театру, актера, игравшего парня, утащили за кулисы, женщина, выступавшая в образе пионера, подняв бутылку, выпавшую из рук несчастного, подошла к краю сцены.
– Настоящая! – Попробовав содержимое, глумливо крикнула она и, показывая на то место, где избивали парня, сказала:
– Видели? И думать забудьте. Мы так сильны, что даже надежд не питайте!
Она погрозила кулаком, повернулась, и тихо пошла вглубь сцены, где скрылась за сомкнувшимся занавесом, под звуки вновь зазвучавшего марша. В зрительном зале включили свет.
Никто, кроме студийцев, даже и не пытался хлопать в ладоши, да и они, попробовав, стушевались и, перестав этим заниматься, гуськом, как только что ходившая по сцене четверка, пошли за кулисы относить помятый букет.
Занавес по окончании спектакля не открывался, актеры на поклон не выходили. Осмотревшись, Фёдор заметил идущих в его направлении Марину и человека, имевшего на шее кашне.
И тут он вспомнил, что уже видел его несколько лет назад. Был он совсем другим, полным, румяным, широкоплечим. Имел взгляд победителя и лужёную глотку. Ставил все юбилейные и праздничные спектакли, в которых Народный театр и студия, наравне с другими кружками и секциями Дворца Культуры, обязаны были участвовать.
«Да, да. Конечно. Как я мог забыть, – думал Фёдор. – И эта черная тройка на заднике, она же оттуда. Висела на седьмое ноября, красный день календаря, и на первое мая, для пущей солидарности всех трудящихся. Да, тогда он не „Идола“ ставил. Да, и будет еще ставить прежнее. Семьдесят лет на носу, Великой Октябрьской. Такие Августы не от чего не отказываются».
– Очень рада… – начала Марина, подходя, пустую, высокопарную фразу и тут же, исправившись, сказала просто:
– Знакомьтесь. Фёдор Алексеевич Макеев, будущий великий писатель. Август Анисимов, автор и постановщик.
Фёдор пожал безвольную руку, поданную автором и постановщиком, и посмотрел на Марину. Марина молчала, опустив глаза.
– Как Вам пиесса? Понравилась? – Спросил Анисимов.
– Понравилась? – Переспросил Фёдор, на ходу соображая, сознаться или нет, что спал, и сказал. – Понравилась. Мне всё нравится.
Дополнение к «Понравилась» насторожило Анисимова и он, поправляя на шее кашне, решился уточнить. – А, что именно? Замечания на Ваш взгляд, какие могут быть?
Пропустив первый вопрос, что именно понравилось, Федор решил, что от второго можно и не уклоняться.
– Уж очень сильно бьют в финале вашего героя, – сказал он Августу и, мельком кинул второй вопросительный взгляд на Марину, который та не поняла или не захотела понять, вынуждая вести беседу с человеком, общество которого Макееву было неприятно.
– Видите ли, в чём тут дело… – начал Анисимов издалека, внутренне чему-то радуясь. – Этот гимн вначале, в кромешной темноте, который у всех ассоциируется с подневольным подъёмом на работу, в беспросветное, морозное зимнее утро, этот мальчик, пионер, грозящий кулаком и уходящий от зрителя медленно и властно, эдакий будущий наследник трона…
Внутренняя радость настолько забрала Августа, что несколько мгновений он просто не мог говорить, стоял, с открытым ртом, глядя на Федора. Когда же способность говорить к нему вернулась, он не стал продолжать о наследнике, а решил оправдать страшную сцену избиения.
– Сергей, тот мальчик, что играл… Ну, вы, собственно, о нём и спросили. Он профессиональный каскадёр, ушибов не боится, сам предложил эксперимент, и я, собственно, только после этого решился пойти на прямую демонстрацию. Ну, чтобы, так сказать, вызвать шок. Пробить, так сказать, коросту в душах.
Выйдя на улицу и оставшись вдвоем с Мариной, Фёдор спросил о Ватракшине.
– Сейчас, как раз, должна ему звонить, – сказала Марина. – Вон автомат, пойдем.
По дороге к телефону-автомату, Фёдор отвечал на житейские вопросы, касающиеся его сестры и Степана.
– Они что, жених и невеста? – Лукаво прищурив один глаз, спросила Марина.
– Какая невеста, ты же с ним не разведена? Хотя не знаю, – ответил Фёдор, открывая Марине дверцу телефона-автомата. – А ты всё еще его любишь?
– Нет. Уже нет. Спрашиваю из человеческого любопытства. Интересно же знать, знакомые люди.
Марина отвечала на вопрос, краснея, она не ожидала от Федора такого любопытства. Федор, заметив это, извинился, чем только подлил масла в огонь.
– За что извинить? Ты что? – Говорила Марина, становясь пунцовой, впадая в истерику. – Издеваешься? Ты, Федя, странный какой-то, я на таких не обижаюсь. На тебя лето, наверное, дурно действует. Жару плохо переносишь, так иди в тенёк. Охладись, глядишь отпустит.
Она говорила и задыхалась, как Август Анисимов, но в отличие от автора пьесы была актрисой и умела менять состояние, то есть, владела собой.
Она легко из истерики вышла, и, подумав, совсем другим тоном, сказала:
– Да, я его люблю. И не твоего ума это дело!
Успокоившись окончательно, после того, как нашла в себе силу сказать правду, Марина, опустив глаза, как бы прося прощение за то, что накричала, шепотом добавила:
– Настоящее чувство, Федя, не умирает и не забывается.
Подняв глаза и снова обретя независимость во взгляде, надев на себя маску благополучия, она скомандовала:
– А теперь походи, погуляй. Буду Илье Селиверстовичу звонить.
Через полтора часа Фёдор, Вадим, Геннадий и Марина сидели за столом в квартире у Ватракшина.
Не обошлось без проволочек. Когда было всё оговорено, выверено и назначено, Ватракшин попросил Марину зайти к нему прежде без провожатых. Стоявшие у дверей его подъезда Мазымарь, Леденцов и Макеев, ожидали специального приглашения. Спустилась Марина и сообщила, что у Ильи Селиверстовича времени в обрез, а главное – он приготовил свою идею, для фильма, и только под неё даст деньги. Вадим, для которого деньги просились, решил пойти и попытаться всё же настоять на своём.
– Да! – В самый последний момент предупредила Марина. – Время посещения пятнадцать минут. И он сказал, чтобы три человека.
– Так нас и есть трое, – бойко парировал Леденцов.
– Нет, – поправила его Марина. – Иду я, и двое из вас.
Фёдор предложил идти Вадиму и Геннадию, мотивируя это тем, что его дело сторона, но Марина, как-то недружелюбно поглядывавшая на Леденцова, твердо настояла на том, что будет лучше, если пойдет Фёдор и режиссер.
От сильного волнения она забыла имя Вадима, а называть его по фамилии не хотела.
Войдя в квартиру, Фёдор и Вадим, в сопровождении служанки, проследовали в маленькую комнату, где и прождали аудиенции не менее тех самых пятнадцати минут, которые отвели им на встречу.
В квартиру, в это время, входили невидимые люди, кто-то выходил из неё. В центральных комнатах что-то происходило, а Фёдор и Вадим, сидя в боковой, забитой антиквариатом и похожей на лавку старьевщика, ждали своего часа, а точнее, своих пятнадцати минут.
Наконец за ними пришли Марина с Леденцовым, только что поднявшимся, которому было разрешено присутствовать, и повела их в комнату, где находился Ватракшин.
Хозяин в комнате был не один.
– Знакомьтесь, – стал представлять он присутствующих. – Доктор исторических наук, профессор, филолог. Лучший художник, из молодых.
Фёдор машинально поворачивался к представляемому, и так же машинально кивал головой, после перечисления чинов, которые и не пытался запоминать. Закончив церемонию, Ватракшин всех пригласил за стол. Все, за исключением художника, ушедшего в другую комнату, сели за большой пустой стол.
Марину хозяин посадил рядом с собой, и, не умолкая ни на мгновение, словно его завели ключиком, что-то рисуя на бумаге, стал трещать, как сорока. Начал объяснять идею, которую намеревался предложить для сценария, но оставив это, стал кривляться, показывая, как танцует «всякий сброд» на Арбате, после принятия наркотиков.
Отвлекаясь и от этого, стал вспоминать трудное детство и ночлеги в чужих ванных. Вдруг, ни с того ни с сего, переключился на читку стихов непонятой сверстницы. Потребовал, чтобы в будущем фильме Марина играла главную роль, и тут же объявил, что его не провести и что он ни копейки не даст.
На какое-то время его прервали сотрудники милиции, из вневедомственной охраны, пришедшие по причине ложно сработавшей сигнализации.
Расписавшись в их книге, и выпроводив последних, Ватракшин с удвоенной энергией накинулся на гостей. Стал показывать фотографии уничтоженных московских храмов, рассказывать о том, как на вечном огне хулиганы, в сковороде, жарят глазунью. Заметив у Вадима сросшиеся брови, обо всем забыв, стал на своей бумаге рисовать схему, из которой всякому посмотревшему на неё должно было бы стать ясно, что ребёнок может уродиться в маму, может в папу, может в бабушку, может в дедушку.
Фёдор, запас терпения у которого иссяк, хотел в шутку сказать, что забыли внести в схему проезжего молодца, но промолчал. Попросив Марину задержаться, Ватракшин тем самым дал понять Вадиму, Фёдору и Геннадию, что им пора и честь знать.
Выйдя на улицу, приятели разделились. Вадим, ругая Ватракшина последними словами, поехал с Генкой в баню, а Фёдор, для которого наступило время сна, пошёл отсыпаться к Леденцовым.
* * *
Одетый в джинсы и вишневую рубашку, Максим сидел на скамейке у фонтана. Галине, постоянно напоминавшей о том, что ему завтра ехать в деревню, он сказал о друге из техникума, у которого день рождения, и пообещал, что дома будет утром следующего дня ровно в шесть. Вокруг фонтана бегали дети. Маленькая девочка била пластмассовой лопаткой по голове маленького мальчика, который убегая от этих ее ударов, смеялся и издавал крики ликования. Девочка бегала за ним с таким же настроением. Рядом с ними, что называется за компанию, бегали еще трое малышей, и хотя они ничего не понимали во взаимоотношениях убегавшего и догоняющей, но, заражаясь общей радостью, также кричали и смеялись. Детский смех был так громок, что временами заглушал шум падающей воды фонтана, к которому Максим прислушивался с каким-то особенным чувством. Детей Максим не замечал, был занят своими мыслями, напряженно размышлял, хотя определенно сказать, о чем именно, наверное, не смог бы и сам.
– Здравствуйте, Максим, – услышал он над своей головой не знакомый, но очень приятный женский голос. – Ведь вас Максимом зовут? Я угадала?
Максим поднял глаза и увидел перед собой настоящую красавицу. Одета она была в длинный желтый пуловер и узкие, облегающие, черные брюки. У красавицы были голубые, веселые глаза, ниспадающие на плечи волнистые белые волосы, ясный взор и приветливая улыбка. Было, конечно и то, что никакому описанию не поддается, ибо понятная и разгаданная красавица это уже не красавица. Да, была в ней загадка, был в ней магнетизм, но и как частности: небольшой, слегка вздернутый носик, детский, круглый подбородок, постоянно улыбающийся чувственный рот и, конечно, безупречные белые зубы.
– Угадали, – буркнул Максим себе под нос и опустив от смущения глаза, стал ладонями растирать горящие и деревенеющие от обильного прилива крови, щеки.
– А меня Жанна, – сказала красавица и, незаметно переходя на «ты», кивая на пакеты, которые держала в руках, спросила:
– Не поможешь?
Максим встал со скамьи и молча взял у Жанны пакеты. В них оказались бананы.
– Вон туда, – сказала красавица, показывая рукой на белые «Жигули».
– Ты водишь? – поинтересовалась Жанна, открывая ключиком дверцу и, посмотрев как-то очень светло на отрицательно покачавшего головой Максима, сказала:
– Тогда придется терпеть меня за рулем.
И когда пакеты с бананами уже покоились на заднем сидении, а Максим сидел на кресле рядом с водительским, Жанна достала сигареты в красочной пачке и предложила:
– Кури. Не куришь? А я… Я тоже не курю. Это так.
Она бросила сигареты к бананам, включила зажигание и машина, управляемая ее хрупкими, женскими руками тихо тронулась с места.
Жанна совершенно не волновалась и Максим, отметив это, сделал вывод, что все-таки произошла ошибка, Ольга что-то напутала. А если нет? Если же нет, то признаваясь себе самому, он чувствовал, что с такой молодой и красивой ему страшнее и невозможнее, нежели со старой и безобразной, от которой решено было сразу же отказаться. И дело, как оказалось, тут даже не в том, старая или молодая, красавица или урод, а в том, что просто так, запросто – оказывается нельзя, невозможно.
«И, как я только мог на это пойти, до этого додуматься? Ведь совершенно невозможное дело. Встретиться на дороге, поговорить по телефону, посидеть у фонтана и – пожалуйста. Нет, это глупость какая-то. Чья-то путаница. И Назар был прав, Федор обманул. Женщины, не знаю, может, они так и могут. Но мужчины другое. Мужчины же не проститутки».
Сделав из своих рассуждений такой вывод, Максим успокоился. «Да, и в самом деле, – уже спокойно рассуждал он, – не может же быть, что бы такая красавица и вдруг стала бы платить. И за что? За то, чтобы с ней спали первые встречные? Да, ей только захотеть, только пожелать и у нее будут любые обожатели. Самые красивые, богатые. Да, еще и сами деньги принесут. Нет. Здесь ошибка. Это Ольга, что-то напутала.
По городу ехали долго, пока, наконец, не подъехали к такому же серому, кирпичному, дому, в котором жил Максим.
– Вот и финишировали, – бойко объявила Жанна.
Выходя из машины, она попросила, «если не трудно», захватить бананы.
– Не тяжело? – Беспокоилась она, глядя на мрачное лицо своего спутника. – Четвертый этаж. – Предупредительно открывая подъездную дверь, сказала она.
Максим понимал, что Жанну смущает его угрюмый вид, его упорное молчание. Чувствовал, что нужно улыбнуться, говорить, но, несмотря на все усилия, производимые над собой, на внутреннюю работу, ничего не мог изменить, рот не раскрывался.
Войдя в квартиру, он получил тапочки без задника, с острыми мысами, загнутыми наверх, расшитые золотой нитью на восточный манер. Надевая такую обувку, мелькнула мысль, уж не решила ли она над ним подшутить, сделать из него шута, маленького Мука. Но, надев тапочки, сам себе признался, что они удобные и вовсе не такие смешные, какими показались на первый взгляд.
На кухне, куда по просьбе хозяйки Максим занес бананы, его встретил большой зеленый попугай, запертый в клетку и смотревший на него одним глазом, через щель в прутьях.
– Говорящий, из Афганистана прилетел. Не сам, конечно, на самолете, – сказала Жанна, надевая на себя фартук с карманом.
– Картошку с мясом будешь? – Очень просто спросила она.
– Буду, – неожиданно легко ответил Максим, забыв о том, что рот не раскрывается.
– Тогда садись, жди, – указывая на мягкий табурет, предложила Жанна и, включив телевизор, стоявший на холодильнике, добавила:
– Хочешь – смотри, хочешь – с попугаем пока поговори. Я быстро.
От Жанны веяло настоящим, каким-то особенным, нежным и сладким женским духом, не духами, а именно духом. Максим не смел пошевелиться, она стояла так близко.
Он смотрел на её удивительно правильные, крохотные, как у ребенка, красивые руки, на её фартук с карманом, на её золотые серёжки и всё ему в ней нравилось, всё казалось особенным, необычным.
Цветной телевизор, стоявший прямо напротив, очень хорошо показывал, но так как звук отсутствовал, не было понятно, о чем беседовали так по-домашнему расположившиеся в студии два молодых человека.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































