Текст книги "Люблю"
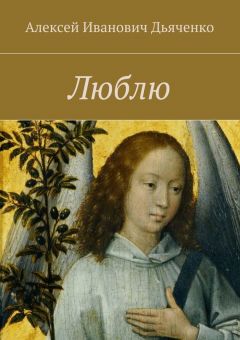
Автор книги: Алексей Дьяченко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Лидия Львовна, по второму мужу носившая фамилию Пацкань, работала врачом в Наркологическом центре, а с главным врачом той больницы, в морге которой стоял теперь гроб, была в дружеских отношениях ещё с медвуза. Статная, высокая, коротко стриженая. Для своих сорока хорошо сохранилась и с тридцатилетним мужем смотрелась ровней, тем более, что Пацкань был потрёпан, истаскан и выглядел гораздо старше своих лет.
Первый муж у Лидии Львовны был старше её на десять лет, второй на десять лет моложе, она всем об этом рассказывала. Если говорить о последних её пристрастиях, то нельзя обойти любовь к получению подарков, которые часто принимала и в виде денег. Гордилась тем, что пока продаётся спиртное, без работы не останется. О том, как получила своё хлебное место, скажем её словами: «Как мне всё это досталось, и сколько сил я на это потратила, одному только Богу известно».
В последний год полюбила весёлые компании, где не гнушалась напиваться до бесчувствия, что тоже делалось не просто так, а в целях профилактики – «дабы снять накопившееся». С Пацканём познакомилась давно. Познакомил бывший муж, Пётр Петрович, когда вместе с «Мирошей» работал в гараже при заводе. Затем Пацкань уходил в таксисты, снова возвращался на завод, и только после второго своего возвращения женился на свободной тогда уже Лидии Львовне.
Мирон Христофорыч был человеком чрезмерно преданным винопитию и единственно, в чём с супругой безоговорочно сходился, так это в страсти к застольям. Это была главная статья расхода, на которую денег не жалели. Пашкин отчим был полноват, когда говорил или дышал – раздавалось сопение. Роста был невысокого, одна нога короче другой. Он носил обувь с разными по толщине подошвами, так с изъяном справлялся. Рыжеволосый, краснощёкий, с бурыми усами и бледно-зелеными, кошачьими, глазами. Работал водителем и числился в штате гаража при известном в районе, оборонном, заводе.
В основном трудился на погрузчике, развозил грузы по территории предприятия. Но, после того, как заместителем директора стал Цекатун Валериан Захарыч, Пацкань частенько, раз восемь в месяц, на чёрной волге ГАЗ – 24, стал ездить в «спец холодильник», а оттуда – к Валериан Захарычу домой, отвозя приобретённые в холодильнике продукты. В гараже, которым заведовал не любивший «Фарфорыча» Кирькс, не без звонка того же Цекатуна, у Пацканя появился собственный сейф, якобы для хранения смазок и инструмента, необходимых всякому автослесарю, в которые Пацкань якобы думал переходить. Но, в автослесаря он не перешёл, а смазки и инструменты в его сейфе стали занимать более чем скромное место.
В сейфе Пацкань стал хранить спиртопродукты, которыми торговал в рабочее время, запрашивая за них в зависимости от настроения, двойную, тройную, а то и четвертную цену. Терпеливые его коллеги, время от времени теряя терпение, ломали в сейфе замок, забирались в недра и лакомились спиртопродуктами бесплатно, как бы компенсируя этим свою переплату. Единицы, из особо негодующих, подогретые этим самым спиртопродуктом, ловили Пацканя и били кулаками. На вопрос Мирона Христофорыча: «За что?». Отвечали: «За жадность и за то, что стучишь». Услышав, что бьют за дело, ибо знал, что повинен в этих грехах, Пацкань успокаивался. Отведя душу, успокаивались и коллеги. И жизнь в гараже очень скоро принимала свой прежний ход.
Пацкань менял сломанный замок на новый, опять запасался спиртопродуктами и в те дни, когда ему не нужно было ехать в холодильник, открывал свою лавочку. Коллеги, ещё вчера грабившие и избивавшие, подходили, жали руку, просили не помнить зла и называя про себя его сукиным сыном, снова платили втридорога.
Три ящика «Столичной», купленной благодаря свидетельству о смерти, предназначались, разумеется, не для поминок, а для сейфа. О поминках по началу и разговора не заходило, должно быть, и не было бы, если бы не Полина Петровна и не дядя Коля Кирькс, которые взялись за их подготовку с сердечным участием и втянули в этот процесс Пацканя и Лидию Львовну. Так не прошло и получаса, как пришли Фёдор и Максим, принесли с собой картошку и сразу стали чистить её, кидая очищенную в ванну с водой. Пришла старшая дочь дядя Коли Кирькс, принесла индюка и две трёхлитровые банки самогона. Заговорили о рисе и изюме для кутьи и о муке для блинов.
Утром следующего дня, выйдя на кухню, Пашка увидел четырёх женщин и огромную работу по приготовлению пищи. Старшую дочь дяди Коли Кирькс, крестную и Галину он сразу узнал. Заметив пристальный взгляд сестры, он покраснел и опустил глаза. Незнакомая девушка хохотнула, глядя на это.
– Да, такой вот брат у меня, – гордо сказала Галя. – А, это подруга моя, Ванда, она поможет.
– Ой, Павлик проснулся, – очнувшись от своих мыслей, сказала Полина Петровна, – иди, сходи к маме, миленький. Она тебя что-то спрашивала.
Крестная подошла к нему, погладила по голове и поцеловала. Пашка заметил, что голос у крестной дрожит, а веки красные, припухшие. Ему хотелось побыть с ней, но приходилось идти к матери.
– Одевайся и дуй в больницу, – сказала Лидия Львовна, когда он нашёл её в комнате.
– Зачем в больницу? – Не понял он.
– В морг! – Повысив голос, уточнила мать. – Отнесёшь вещи. Тут Полина костюм принесла и всё, что полагается. Давай, это заранее нужно сделать.
– Хорошо, – безропотно согласился Пашка и взял из рук матери сумку.
– Да, погоди ты! Не сразу сейчас. Через полчаса, через час. Иди, поешь пока.
На кухне, положив в глубокую тарелку большую порцию салата с горошком, Галина подсела к Пашке и стала есть вместе с ним из одной тарелки.
– Ничего? – Осторожно спросила она. – Тарелок больше нет, посуду из кухни всю вынесли, – попыталась она оправдываться, но почувствовав, что это лишнее, замолчала и стала есть спокойно.
Пашке было приятно, что примирение произошло так просто и так красиво. Отец всё-таки сделал то, чего он от него ждал. Примирил с Макеевыми и особенно с Галей. Какая-то необъяснимая радость разлилась по сердцу.
– Ешь, ешь, – говорил он всякий раз Галине, которая ела с аппетитом, но временами останавливалась и вопросительно смотрела на него. И Галина ела, слушалась, его, самого младшего. И от этого на душе становилось особенно светло, вспоминались те вечера, в которые Пашка по каким-либо причинам должен был ночевать у Макеевых. Фёдор с Галей рассказывали им с Максимом придуманные сказки, устраивали между ними соревнования: кто скорее прожуёт и проглотит варёное яйцо целиком, засунутое в рот. Они с Максимом старались, а Галя с Фёдором, глядя на них, смеялись.
Пашке у Макеевых всегда было весело. Летом с балкона пускали бумажных голубей, смотрели – чей выше поднимется и дальше улетит, за голубями шли мыльные пузыри, переливающиеся всеми цветами радуги, прозрачные и красивые, они быстро появлялись на свет и так же быстро исчезали. Следом за пузырями брызгалки, с направленными твёрдыми струями воды и непременным смехом. Зимой играли в жмурки, в карты и в домино, все вместе раскатывали тесто и готовили пельмени. Они не скучали, всегда что-нибудь да придумывали, у них всегда в квартире было много смеха, всегда царило веселье.
Через полчаса, взяв сумку с вещами, Пашка направился к моргу, рядом с которым должен был ждать его Фёдор.
– Кто тебе губу разбил? – спросил Фёдор, протягивая брату руку для рукопожатия.
– Не знаю, – опуская глаза, сказал Пашка.
– Побили. Отчего Максиму с Назаром не скажешь? Чего они тебя не защищают? Или ты сам не хочешь?
– Не хочу, – ответил Пашка и, чтобы переменить тему, приподнял и показал брату сумку с вещами, которую надо было отдать санитарам.
Войдя в помещение морга, через дверь находящуюся с другой стороны от той, в которую вносили гроб, они оказались в приёмной. Объяснившись со стоящими и чего-то ожидавшими там людьми, Пашка постучался и вошёл к санитарам. Два молодых человека, как раз завтракали в этот момент. На большой, чёрной, чугунной сковороде, только что снятой с плитки и поставленной на стол, ещё шипели в масле жареные яйца, которых было не меньше дюжины. Расспросив для кого и не спросив, как того ожидал Пашка, денег, которых у него с собой и не было, они взяли сумку и сказали, что всё сделают, как надо. Даже тогда, когда вошедший вслед за ним Фёдор спросил некстати, не нужно ли заплатить, они наотрез отказались, уверяя, что совершенно не нужно.
Выйдя из морга на улицу, Пашка с Фёдором зашли в маленький жёлтый автобус, ПАЗик, к ним приписанный и к тому времени уже подъехавший. Этот маленький жёлтый автобус должен был везти гроб на кладбище. Сидя в тишине на прохладных сидениях, изредка отвечая на вопросы водителя, они дожидались своих. Свои подошли к половине одиннадцатого и их, как показалось Пашке, было слишком уж много.
Из тех, кого узнал и кого никак не ожидал увидеть, были: Назар, пришедший вместе с Максимом, Степан Удовиченко, пришедший вместе с Галиной, люди со двора, как то: повар, фамилию и имя которого Пашка не знал, известный тем, что посадил когда-то клён во дворе и дарил чуть ли не каждый день детям карамель, Гульканя, человек знаменитый своим пристрастием к скачкам и тем ещё, что имел пластмассовое горло и говорил шёпотом. Мелькала фигура Валентина, грузчика из продуктового, которого все называли милиционером, так же проживающего в их дворе. Была дальняя родня, которую Пашка, как-то видел в доме у тёти, но это было так давно, что он теперь их еле узнавал. Из тех, кого предполагал видеть, были: отчим, мать, Милка, крёстная, Максим, Галина, дядя Коля Кирькс и вчерашние молодцы, помогавшие перевозить тело отца. Было так же очень много совсем незнакомых. Увидев такое количество людей, Пашке захотелось от них спрятаться.
И странно, чтобы не думать обо всех этих близких, чужих, знакомых и не знакомых, не думать о главном, самом страшном, что ему предстояло и было неотвратимо, он стал вдруг думать о грузчике Валентине и ушёл в эти думы целиком.
Валентин, работавший теперь грузчиком в продуктовом и ходивший повсюду в синем промасленном халате, был толстым и сутулым. Этот Валентин совсем ещё недавно был милиционером, но милиционер из него был никудышный. Он стеснялся своей формы, до ужаса боялся хулиганов. Пашка видел однажды, как он ехал в одном автобусе с хулиганами, те ругались, курили, обижали пассажиров. Пассажиры вопросительно смотрели на Валентина, а тот, бедный, не знал, куда б ему спрятаться. Съёжился, забился в уголок, отвернулся и делал вид, что смотрит в окно. Жалкое было зрелище.
То ли дело участковый Шафтин, тот и без формы ходил милиционером, и голосил почём зря. Когда мужики во дворе заигрывались в домино, мешали людям спать, он выходил и командовал: «Конец игре». И его все слушались, а выйди Валентин и скажи так, все бы только рассмеялись.
Хорошо, что в милиции Валентин работал недолго и оттуда пошёл прямо в грузчики. Изменился человек, как заново народился, что значит, не играть чужую роль. Стал твёрдо шагать, громко говорить, в каждом жесте стал виден хозяин. Правда, с тех пор, как устроился в магазин, обнаружилось в нём много странностей. Время от времени стал подпадать под влияние различных увлечений. То, взялся склеивать модели, а то вдруг заболел идеей физического бессмертия, говорил о каких-то учителях, пьющих свою мочу так же запросто, как воду из-под крана, называл мочу «водой жизни», но сам больше водку пил. Ел проросшие зёрна, какие-то коренья, на ночь привязывал к ноге проволоку, а другой конец проволоки к батарее, чтобы старость, накопившаяся в нём за день, в течение ночи ушла в землю. Очень во всё это верил, но вера его была не твёрдой. Как с моделями, так и с долгожительством скоро завязал, стал беспробудно пить и этим утешился.
Отчим, как только пришёл, так сразу же осведомился – не в обиде ли санитары?
– Они не взяли, Федя предлагал, – ответил Пашка лишь затем, чтобы тот от него отстал.
Когда санитары впустили всех в комнату, в которой стоял на невысокой подставке открытый гроб с телом отца, Полина Петровна, не сдерживая себя, заплакала навзрыд, за нею следом стала плакать Галя и некоторые из подошедших к гробу женщин. Было неожиданностью для Пашки увидеть, что некрасивое лицо грузчика Валентина и благообразное лицо дяди Коли Кирькс тоже покрыты слезами. Сам Пашка, какое-то время боялся смотреть на отца, но, пересилив этот страх, заставил себя взглянуть. Отец, лежащий в гробу, был непохож на того отца, которого он видел лежащим на тахте, и дело было не в костюме, в который отец теперь был наряжен. Выражение лица за этот короткий срок изменилось и стало другим. Лицо имело теперь печать блаженства и умиротворённости, а глаза из закрытых превратились в сощуренные, приоткрытые. Казалось, что он в щелочки между ресниц смотрит за всем, что происходит вокруг и, видя Пашку, тихо и ласково ему улыбается. К Пашке подошёл Мирон Христофорыч и спросил, нужна ли панихида.
– Чего? – Испугался Пашка и попытался от него убежать.
– Говорить что-нибудь надо? – Поймав его за плечо, объяснил отчим и добавил. – Если хочешь на ту сторону, то обходи через голову. Никогда не пересекай покойнику его последнюю дорогу. Ну, так как? Панихида нужна или нет?
– Не нужна, – ответил Пашка, высвобождая плечо.
Мирон Христофорыч понимающе закивал головой, отошёл в сторону и объявил гражданскую панихиду. Стали один за другим выходить незнакомые люди и говорить речи.
Один нервный худой гражданин с длинными волосами, которого, как потом оказалось, никто и не знал, говорил хоть и пространно, но зато так искренне, что даже ушедшие санитары вернулись, чтобы его послушать.
Заметив санитаров, отчим кинулся к ним, спрашивал, не в обиде ли? Санитары ответили, что всё в порядке и от червонца, который отчим им старался всучить, отказались. За исключением пламенной речи, произнесённой никому не известным гражданином, речи других ораторов состояли из пустых и бесцветных фраз, которые и всегда коробят, ну а в настоящий момент казались просто чем-то неприличным и вызывали в Пашке сильное негодование. Однако на женщин эти лживые речи действовали иначе, успевшая уже успокоиться Полина Петровна вдруг снова в голос заплакала.
После панихиды гроб накрыли крышкой, вынесли из помещения, в котором находились, и внесли в автобус. Часть пришедших села в этот же крохотный ПАЗик, часть в большой «Львовский», специально для этого случая выписанный дядей Колей. Многие из пришедших проститься на кладбище не поехали.
Приехав на кладбище, первым делом купили железный крашеный крест, написали на нём фамилию и инициалы, год рождения и год смерти. Крест со свежими надписями впереди всей процессии с гордостью понёс дядя Коля Кирькс. За ним на специальной высокой железной тележке с колёсами повезли закрытый гроб, а уж за гробом пошли все те, кто приехал.
Свежие ямы под могилы, очень часто вырытые, мимо которых они шли, походили на окопы, их было не менее двадцати и могильщики, молодые краснощёкие парни, всё продолжали их рыть. Распорядитель, стоящий там же, с красной повязкой на рукаве, указал место и сказал, что можно снять крышку и попрощаться.
Всё напоминало конвейер. К следующей могиле распорядитель проводил другую процессию, за ними третью, четвёртую, пятую. Оглядывая всех с высоты своего двухметрового роста, он опытным глазом подмечал тех, кто уже простился и парням, копавшим новые могилы, давал сигнал, известный лишь ему и им, после которого они тут же бросая рыть, шли закапывать. Мастерства у них было не отнять, при этом никто не позволял себе никаких неточностей, способных оскорбить чувства родственников покойного. Механизм погребения был совершенен и работал, как часы.
Дядя Коля Кирькс, поставив крест так, чтобы тот мог опереться на гроб, достал из внутреннего кармана пиджака полоску бумаги с написанной на ней молитвой и положил её на лоб Петру Петровичу. Стали подходить и по очереди прощаться, целовать через бумажную ленту покойного в лоб. Последним подошёл дядя Коля Кирькс, достал из того же внутреннего кармана другую бумажку, которая оказалась свёртком с песком, развернул его и находившийся в нём песок рассыпал по телу покойного в виде креста. После чего и саму бумажку сунул в гроб, где-то в ногах, а сам подошёл к изголовью. Склонившись над другом юности, коснулся его лба троекратно, приложившись поочерёдно губами, щекою и лбом. Сделал это со знанием дела, излишне не торопясь, с внутренним проникновением. После того, как простился, гроб закрыли, забили гвоздями и опустили в могилу.
Очень быстро, практически в одно мгновение, могильщики засыпали красный сатин землёй, а в образовавшийся холмик воткнули крест и цветы, длинные стебли которых обрубили лопатой. Пашка не плакал и, как ему казалось, его вообще никто не замечал. Но, когда, после ухода могильщиков, он направился к холмику, все разом кинулись к нему и аккуратно схватили, видимо опасаясь того, что начнётся истерика. «Значит, помнят», – подумал он и объяснил схватившим, что хотел ком глины раскрошить. После объяснения Пашку отпустили, терпеливо ждали, пока крошил он ком, ну, а потом тихо отвели в сторону.
Дядя Коля Кирькс дал Пашке десять рублей, чтобы тот отдал их распорядителю. Распорядитель, увидев деньги, очень быстро сказал «нет», но тут же, воровато оглядевшись по сторонам, взял их и сказал «спасибо». На этом похороны закончились, впереди были поминки.
Пашка боялся, что из поминок сделают балаган, как это было на поминках у бабушки, но этого не случилось.
Присутствие Полины Петровны, Фёдора, Гали, дяди Коли Кирькс и других серьёзных людей способствовало тому, чтобы отчим не плясал, не пел песен, и остальные сомнительного вида граждане не вели себя на поминках так, как на свадьбе.
Пришёл старший по дому, знавший Пашкиного отца. Ему освободили место, щедро обставили тарелками со студнем, сыром и сельдью, вооружили стаканом, до краёв наполненным сорокоградусной. Выпив за упокой души, обращаясь к Пашкиной крестной, старший по дому, сказал:
– Вот, Полина, вспоминая сейчас Петра, светлая ему память, скорблю и плачу, а вернусь домой, буду смеяться и плясать. Свадьба у меня, веселье в доме. Дочь замуж отдаю. Ничего не поделаешь, такая жизнь. Всё рядом и горе, и радость.
Задерживаться он не стал, посидел несколько минут, как обещал, поплакал и, утерев слёзы мятым носовым платком, распрощался и пошёл на танцы.
За столом, справа от Пашки, сидели Максим с Назаром, пили водку как взрослые. Слева Валентин-грузчик, одетый в костюм с запахом сырого подвала. Валентин грыз ногти на руке, больше похожие на щепки и, дыша в ухо спиртным перегаром, нашёптывал по-своему добрые, имевшие цель утешить, слова. И хотя выбрал не самый подходящий приём, Пашке было приятно, что жалеют и утешают.
– Твой ещё пожил, – говорил Валентин, – а мой в тридцать два помёр. Как говорится, только бы жить да радоваться, а он возьми, да помри. Мне три года было, поднесли с ним прощаться, а отец небритый, я кричу: «не хочу целовать, он колючий». Не помню его совсем. Был на кладбище года два назад, натаскал земли из леса, а в этом году приехал – на могилке ландыши, земляника. Красота. Всё из-за земли лесной. Я ведь тоже семьи хотел, чтобы как у людей, а жена ушла к тому, у кого машина. У меня машины тогда ведь не было, её и теперь, машины, даже нет, и никогда даже больше не будет… А дочке сказали, что я умер и повели, показали мою могилку. Я даже очень сильно тогда переживал. Я в милиции работал на «Урале». Был у меня такой мотоциклет с коляской, гонял на нём, хотел разбиться. Перевернулся один раз, но об этом никто не знает. Знает один человек, но он никому об этом не скажет, он настоящий мужик. Да, навредил я тогда себе, позвонки расширились, с тех пор нервничать много стал. Вот пояс постоянно ношу (он ударил себя рукой по животу), летом жарко, а ничего не поделаешь.
– Тебе нельзя работать грузчиком. Тяжести поднимать, – сказал Пашка, серьёзно обеспокоенный здоровьем собеседника.
Глаза у Валентина заметались по сторонам, он успел уже забыть о крушении и травме позвоночника, но тут же нашёлся:
– Нет, это же гимнастика. Это помогает. Только поэтому в магазин и пошёл.
Пашка понял, что мотоцикл, травма – это скорее выдумка, спросил про дочь.
– Дочь? Нет, совсем не вижу. Один раз, когда дочка к тёще приезжала, тогда видел издалека, но не подходил. Постоял, посмотрел. Тёща меня в тот день в магазине увидела, говорит, дочка здесь, чего не заходишь? А я говорю – вы же меня похоронили и дочке могилку показали, она сразу заткнулась и ушла.
Валентин рассказывал о своих горестях легко, весело, и от этого Пашке становилось его ещё жальче. Он смотрел на синие ногти больших его пальцев, видимо раздавленные на работе ящиками или другими тяжёлыми грузами, и своё горе уже не казалось таким тяжёлым. Да, и нужно было признаться, на поминках его охватило неведомое дотоле ощущение счастья. Нет, о смерти отца он ни на мгновение не забывал, но все вокруг его так утешали, так жалели, так любили, что противиться чувству радости просто не было сил.
А главное – в своих чувствах все были искренни. Мог ли он подумать, что будет счастлив в день похорон отца? Да, и хоронили ли? Умирал ли? В смерть теперь не верилось. Казалось, что отец всех обманул и снова ушёл, на долгие десять лет. А приходил лишь затем, чтобы помочь ему, своему сыну, примирить его с миром. Отец помог и конечно, не умер, а иначе сердце бы так не ликовало. Пашка чувствовал это и знал.
5
На следующий день Пашку на улице остановила женщина.
– Извините меня, пожалуйста, – сказала она, – это правда, что Вы – сын Петра Петровича Поспелова? И, что сам Пётр Петрович…
Женщина сильно волновалась и беспрестанно мяла в руках маленький носовой платок, которым время от времени отирала сухие щёки, так, как будто по ним текли слёзы.
– Да, я его сын, Павел, – ответил Пашка, видя, что это не праздное любопытство, – и то, что Пётр Петрович… Тоже правда, – грустно добавил он.
– Неужели опоздала? – Спросила женщина у неба. Казалась, вся жизненная сила ушла из неё, после Пашкиных слов.
– Как это случилось? Где? – Стала расспрашивать она слабым, дрожащим голосом.
Умилённый видом горя незнакомой женщины, Пашка стал рассказывать:
– Дома. Никто не ожидал. Вечером легли спать, он как раз перед этим подарил мне свой крест, а утром…
– Крест? – недослушав, переспросила женщина оживляясь. – Как? Пётр Петрович передал вам свой крест?
В потухших её глазах появилась надежда.
– Да, – подтвердил Пашка, сказанные слова.
– Так это же меняет дело! Видите ли, – стала взволнованно объяснять незнакомка, – дело в том, что у меня сын погибает, – она поднесла платок к лицу и привычным жестом смахнула выкатившуюся на щеку слезу, – понимаете? Погибает теперь, в это самое время, а я, мать, не в силах ему помочь. Искала Петра Петровича, сказали, в Москве. Приехала в Москву, отыскала квартиру и вдруг – такое известие. Я не знаю, за кого меня приняли, женщина с вязаной ленточкой на голове, открывшая дверь, так странно на меня смотрела. И вы простите, я ей не поверила. В сердце закралось сомнение. Знаете, всякое бывает. Чего только не скажешь из ревности. А, он мне нужен. Так нужен был. Простите, что решила вас дожидаться, всё-таки в крайнем положении нахожусь, и потом, вот, не ошиблась.
Она снова вытерла не появившуюся на щеке слезу. Вслед за этим произошла сцена, поразившая и напугавшая Пашку. Женщина, извиняясь, попросила показать ей крест Петра Петровича. Пашка, совершенно не представляя себе последствий, расстегнул на рубашке верхнюю пуговицу и показал. Увидев крест, женщина прошептала: «Спасён. Теперь спасён» и поверглась перед Пашкой на колени. Причём, встав на них, поклонилась, касаясь белым напудренным лбом грязного асфальта.
Напуганный до смерти Пашка, внимательно следил за тем, как она это делает, опомнившись, хотел убежать, но поднявшая голову женщина его остановила.
– Подождите, прошу вас! – Умоляюще возопила она, вставая с колен.
– Что вам нужно? – Спросил Пашка. – Крест? Не отдам.
– Нет, нет. Боже упаси, что вы, – поспешила успокоить его женщина, – зачем? Я за сына хочу просить.
– Какого сына? Чем я могу помочь? – Не понимая смысла просьбы, начиная смотреть на женщину с подозрительностью, спросил Пашка.
– Молитвой, – с готовностью ответила женщина. – Вашей молитвой.
– Я не знаю молитв. И не умею, – стал виновато объяснять он.
– Особенного умения здесь не требуется. Вам, Павел Петрович, с такой реликвией… Да, исходящей от неё благодатью, достаточно будет простого желания помочь. Придёте домой, выберете тихую минуту, более не потребуется, и помолитесь. Скажите по-своему несколько слов. Здесь главное не знание, а желание помочь. Как мать, прошу, помогите. С сыном моим, Андреем, беда.
Женщина говорила тихо, но уверенно и, услышав «попробую», тут же, поблагодарила и ушла, оставив Пашку в недоумении.
Придя домой, он стал размышлять: оставить ли просьбу без внимания или же сделать то, о чём женщина просила? Хорошенько подумав и вспомнив, с каким состраданием она расспрашивала о смерти отца, он остановился на последнем. «Тем более, – решил он, – что это не составит большого труда». Посмотрев на бабушкину икону, пыльную и всеми в доме забытую, он решил, что слова короткой молитвы, которую уже придумал, будет удобнее произносить, глядя на неё. Встал лицом к запылённому лику, перекрестился, как это делают верующие во время молитвы, и стал говорить:
– Господи, прошу тебя…
Договорить не получилось. Он вынужден был прерваться, услышав за спиной знакомое «гы-гы». Неприятно было узнать, что сводная сестра находилась дома, наблюдала за ним сквозь щель приоткрытой двери и всё видела.
– Милка, что ж ты гулять не идёшь? – Спросил Пашка, краснея, как человек, замеченный на чём-то постыдном, и вспомнив характерный ответ сестры на этот, часто задаваемый ей, вопрос, тут же сам себе ответил. – Ну, да. Дома веселей.
– Гы-гы… Молишься? – В нос произнесла Милка. – Всё маме скажу!
– Чего – всё?
– А то, что ты молишься, и ещё скажу, что ты крест, который она выбросила, подобрал и носишь.
Пашка представил себе сцену, как мать и отчим, выслушав рассказ Милы, будут дразнить его «баптистом», как величали без разбора всех верующих, как будут смеяться, а возможно силой попробуют отобрать у него крест. Стало до того стыдно, что готов был провалиться под землю. Проклинал и себя, решившегося играть роль молельщика, говорящего придуманные слова, и Милку, с её отвратительным смехом, которая всё время следит за ним, и незнакомку, которая, скорее всего, над ним подшутила. Но делать было нечего. «Что будет, то будет», – решил Пашка и слегка успокоившись, уверил себя в том, что крест в любом случае не отдаст, в конце концов, его на время можно будет даже спрятать, а будет мать с отчимом дразнить – что ж, это можно и потерпеть.
И ещё Пашка принял одно твёрдое решение – не верить незнакомым, посторонним, людям и не исполнять их подозрительные просьбы. И припомнив любимую поговорку Трубадуровой: «А если бы тебе сказали – прыгай в колодец?» – уверил себя в том, что это решение не только твёрдое, но и окончательное.
Милка сдержала слово, данное брату о том, что расскажет о кресте и молитве, но как это было не странно, последствий жалоба не возымела. То ли потому, что от похорон и поминок Лидия Львовна ещё не отошла, то ли от того, что голова её в тот момент была занята совсем другим, более важным делом. Как бы там ни было, сыну не сказала ни слова. Быть может, ещё и потому не сказала ни слова, что двойку за экзамен никак не связывала с сомнительным сыновним объяснением, в котором фигурировал крест. Неудовлетворительную оценку, сама для себя, объясняла просто – сын робкий, замкнутый и конечно, как следует не смог рассказать того, что знал. А что он знал, в том сомнений не было. За два месяца до экзамена она ежедневно заставляла сына сидеть и учить экзаменационные билеты, а затем пересказывать их ей наизусть, за чем сама следила по тетрадке.
«Там, где не нужно говорить, – думала она, – в математике письменной, там, пожалуйста, на четвёрку написал. Та же картина с русским. Письменный экзамен на пять, а за устный еле-еле тройку поставили. А почему? Потому, что молчун, слово из него клещами не вытянешь».
На другое утро, когда Пашка пошёл в школу для пересдачи экзамена, первым, кто на улице попался ему на глаза, была та самая женщина, что накануне просила за сына.
Опустив глаза, Пашка направился мимо неё. Она поняла, что он к разговору не расположен и, сделав по инерции движение вперёд, робкую попытку подойти, осталась стоять на месте. Наблюдая за всем этим краем глаза, Пашка остановился и повернулся к ней. Женщина подошла и одними глазами спросила: «Как»? Пашка понял её так хорошо, что, не колеблясь, ответил: «Пока нет». И, оставив женщину, продолжил свой прерванный путь в школу. Решил, что сегодня же сделает то, о чём она просит. Пусть это глупо, бессмысленно, но раз уж ей это так важно.
В школе начался ремонт, ходили маляры, по рекреационным залам с шумом бегали малолетние дети тех учителей, которые вынуждены были, по тем или иным причинам всё ещё находится в школе.
Он прождал Трубадурову, стоя у дверей учительской, два часа. От запаха краски заболело сердце. Дубовый паркет, натёртый рыжей мастикой, от которого исходил малоприятный дух, тоже ни здоровью, ни настроению не помогал. В коридорах стало тихо. Жизнь ушла из стен школы вместе с малолетними детьми, которых увели с собой освободившиеся мамы. Даже случайный маляр, отбившийся от бригады, не проходил более мимо Пашки. Трубадуровой всё не было.
Когда же Тамара Андреевна вышла, то, делая вид, что очень занята и совершенно о нём забыла, сказала, что пересдачи сегодня не будет и чтобы он приходил завтра.
Пашка, ожидая подобных издевательств, покорно согласился и направился домой. Возмутившись тем, что с сопливых лет ученики имеют наглость не умолять, не унижаться, не просить, Тамара Андреевна его окликнула и попросила расстегнуть рубашку и показать грудь.
Увидев крест, сначала обрадовалась тому, что не ошиблась и предугадала то, что там увидит, а затем пришла в бешенство, так как всем сердцем своим хотела ошибиться и креста на груди не обнаружить. Она сделалась страшной и с гневом в голосе категорически заявила, что сдача экзамена с завтрашнего дня переносится на послезавтрашний, а если снова придет с крестом, то никаких пересдач больше не будет и «двойка» пойдёт в аттестат.
На пути из школы домой снова встретилась женщина, имени которой Пашка не знал.
– Прошу Вас, как мать, – сказала она дрожащим голосом, поймав его взгляд. – За раба Божьего, Андрея.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































