Текст книги "Человек сидящий"
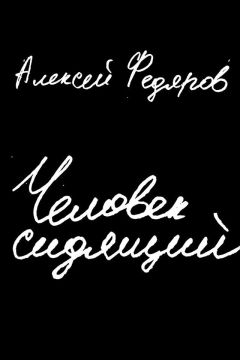
Автор книги: Алексей Федяров
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Этап
Я смотрю на людей вокруг и вижу их.
У меня этап сегодня, его объявили, я уже собран, знаю, чего ждать, и знаю, что все равно будет не так, как жду.
Неизвестность и опасность дарят на время взгляд сквозь, и я вижу.
Вот Вася, ему еще неизвестно сколько томиться, – следствие нынче неторопливое, это раньше прокуратура мешала быстро расследовать, а сейчас следователи продлевают сроки по делу у своего начальника, и то, что раньше расследовалось полгода, теперь нельзя заканчивать раньше чем через год. Василий, конечно, надеется на оправдание и последнее время даже сурово уверен в нем, но когда делу уже скоро год, а обвинение особо тяжкое, а он хоть и МЧС, но полковник, взятки множественные, плюс арест, и пусть писано все криво оперативными вилами на мутной воде – какие еще нужны доказательства суду? На самом деле ни в чем он не уверен и понимает, что жена и дочь, дом, хозяйство, а он очень хозяйственный, – не про него надолго. Он боится. И я не расстраиваю его своими прогнозами, они его раздражают тем, что сбываются, – ну так зачем бередить? Ему достанется и без меня. Он напоследок пытается выхватить у меня что-то по его делу, он верит в волшебное озарение системы и исправление чудовищной ошибки в отношении его – ведь надо только объяснить, я бросаю фразы коротко, не до того, остались минуты, но он думает не о них, а о своих злых годах впереди. Он так живет, и он прав. А я уезжаю, и у меня своя правда.

Евгений – жесткий, шестой десяток, волосы – тускнеющий, но еще ёжик, руки выдают силу, глаза – ум. Недюжинный во всем. Ему не страшно. Он думает. Жена красива и беспощадно молода, трое детей, отец старик, которому не отпущено времени на долгое ожидание. Бизнес в минус, уголовное дело в плюс, что удивительного? Он знает, что выйдет. Он просчитывает варианты. Приговор уже состоялся, он нелеп, и его можно обжаловать, но мы знаем, что шансы около нуля – дело расследовано и «сопровождено» бывшими коллегами. В КГБ он стал подполковником, а в ФСБ – обвиняемым, затем осужденным, без права на обжалование приговора. То есть право жаловаться есть. Но приговор останется. Дураков в суде нет. Он уедет вскоре после меня, я не волнуюсь за него.
Александр, бывший начальник отряда в колонии общего режима, добрый и простой парень. Осудили за вымогательство взятки в виде бутылки коньяка у освободившегося условно-досрочно зэка. По приговору он сначала получил бутылку, а затем начал ее вымогать. Жалобу апелляционную ему я написал, писалось легко, как всегда это бывает для хороших людей, и суд апелляцию услышал, как почти никогда не бывает с хорошими людьми, но переквалифицировали, убрали вымогательство, наказание снизили и режим сменили со строгого на общий, все неплохо. А что доказательств получения взятки нет вообще, как-то забылось на радостях.
Обнимаю всех. Пошел, зовут.
Шмон на выходе, ожидание автозака. Ожидание в автозаке. Путь на вокзал. Я не вижу, куда едем, но город чувствую, мы не на сам вокзал, что естественно, а в закуток, мимо которого я проезжал сотни раз и на который не обращал внимания. А сейчас меня с несколькими парнями и женщинами по одному заводят в вагон, и мы идем мимо собак со злыми глазами и вертухаев с пустыми глазами, быстро, нас подгоняют, мы – скот, даже хуже, от нас нет пользы. Город, я слышу его шум и вижу людей вдалеке, и мне странно, я и в городе, и не в нем. Нас нет для людей и города, где я так долго прожил и постоянно был кому-то нужен, чему иногда раздражался, и вот его шум и запах, но я вычеркнут.
Шмон в вагоне, их много будет, этих шмонов, на каждом входе и выходе. Делаешь все быстро и спокойно, мысль, что у тебя нет ничего своего и везде чьи-то руки, усваивается моментально, иначе не выжить.
Камера в «столыпине» – это купе, только мест не четыре, там вообще нет мест, там заполняемость, там по три полки с двух сторон и все это на двенадцать человек.
Решетка, как же без нее, закрашенное окно, сквозь проплешины которого я смотрю на перрон, нас прицепили к поезду. Люди идут вдоль поезда и смотрят сквозь этот вагон, смотрят сквозь нас, как раньше смотрел я, и не видят, как не видел я.
Впереди транзитные камеры – хаты в пересыльных централах, где по восемь шконок на три десятка человек. Забытье по очереди на час.
Шмоны, шмоны, шмоны. Туалет – три раза в сутки. Я слышу, как женщина просит вертухая вывести ее в туалет, она немолода и больна, я слышу, ЧТО он ей говорит и КАК он смеется, и больше никогда не называю конвоиров сотрудниками, это вертухаи, вертухи, это они топили печи холокоста, и это о них писал Ремарк.
Зрения в «столыпине» не нужно, света нет, только мутный дежурный, а слушать нужно, и я слушаю.
Я слышу безысходность в смехе блатного, что в соседней камере, ему в Омск, на особенную крытку[13]13
Крытка – колония особого режима.
[Закрыть], он с 94-го по тюрьмам, он в отрицалове, и теперь из Краснодара за такую жизнь его везут для перевоспитания к медленной смерти, будут ломать, а способов много, ему еще два года, и это будет страшное время.
Сочувствую, хоть и понимаю, что он сидит за что-то очень злое, но он обаятелен, и все женщины, которых везут этим же вагоном, начинают с ним шутить, он просит их говорить. У него нет близких, мать умерла, жены не завел, и женщины он не видел годы, они говорят с ним, он впитывает их голос, а они останавливаются около его камеры, когда их ведут в туалет, – все люди.
Женщины время от времени поют, это красиво, и даже вертухи слушают и молчат. У всех этих женщин страшные сроки, от десяти, у всех 228.
Где-то стонет парень, жалуется на судьбу, у него спрашивают, сколько дали, он отвечает – семь, люди подбадривают. Он добавляет – месяцев, и люди хохочут. Потом замолкают и забывают о нем.
Мысль, что он слабый, а ты нет, подленькая, но от нее легче.
Пересылка в ИК-2 Екатеринбурга – это чистилище в центре города, в него заходят прокуроры и всякие прочие важные проверяющие, но не видят ничего, ад вечен, но, бывает, вчерашние проверяющие приезжают туда в автозаках и тогда видят, но уже поздно.
В этом аду набирают этап в Тагил, туда, где уже ждут пряников[14]14
Пряник – человек, впервые попавший в тюрьму или колонию.
[Закрыть] в зоне для бывших сотрудников, а пряники – это те, кто только приехал и еще мягок. Сколько бы мы ни просидели на централах, и чего бы ни повидали на этапах, и кем бы ни были в прошлой жизни, там мы будем пряниками, нас будут пытаться съесть и многих съедят, но до этого еще надо дожить.
Мы преступники, поэтому родственники ничего о нас не знают, это запрещено: пока мы не приедем в зону, с нами нельзя связаться, эти недели мучительны для них, но кому есть дело до этих мучений.
Я проживу, и все могут это прожить, система отмеряет бед ровно по силам, это вековой опыт, она не ошибается.
Но этот ритм, перестук колес этих вагонов – то, что я буду помнить. На глазах моих останется третье веко – калька, через которую я смотрю на мир, это окно «столыпина» с проплешинами, через него я вижу простые радости и их истинную цену, вижу, как все проходит, как проходят мимо люди, как они смотрят сквозь вагон, в котором я, в котором такие же другие, и нас много, но выйти из него мы не можем – мы вычеркнутые люди в глухом вагоне с замазанными окнами.
Казанский централ
Централ в Казани пахнет восточными специями и пловом. Сидельцы в некоторых хатах умудряются прилично готовить – и запах разносится. Он следует пару часов за каждым прибывшим, потом к нему привыкаешь. Но диссонанс между баландой, которая здесь – обычное дело, и запахом еды из вольного мира остается долго.
Меня привозят туда под утро. Транзитная камера для БС, бывших сотрудников.
Я не знаю, сколько я здесь пробуду. Зайдя, начинаю искать глазами свободную шконку. Их тут нет. Людей значительно больше, чем шконок, это видно без подсчетов.
Ко мне подходит невысокий, плотно сбитый мужчина лет сорока. Он из 90-х, браток. Смотрит прямо. Изучает, взгляд скользит привычно, это опытный зэк, и сканер у него не дает сбоев.
– Где работал? – вопрос обязательный для БС.
– Прокуратура.
Поворачиваются в мою сторону головы. Прокуроры и судьи не в чести. Пауза затягивается.
– Молодец, – говорит мне тихо и очень спокойно браток.
– Почему? – в тон спрашиваю я.
– Что крыться не стал, сказал честно. Проходи.
Бывших прокуроров и судей не любят даже здесь. Неприязнь неприкрытая. Но это не повод для принятия санкций, человек должен проявить себя «по личности». Вот если скрывать место работы и придумывать легенду – тут могут быть проблемы. И серьезные.
Мне дают шконку, это обязательно, арестанту, что зашел с этапа, надо лечь и постараться поспать.
Спят на централах всегда, но и шумно тоже всегда, тюрьма не спит. Кто хочет заснуть, тот уснет, – правило простое.
Я забываюсь на час, но тут заходят со шмоном, все встаем и выходим из хаты.
После этого меня начинают расспрашивать.
Как в любой транзитной хате, здесь помимо десятка человек, ожидающих этапа, – местные бедолаги, которые никуда не едут пока, но их кинули сюда, потому как взять с них нечего и замолвить за них некому. Таких здесь пятеро.
Еще двое – на воспитании. Один из них браток, что встречал меня, а второй – Александр, который сидит уже вторые десять, его привезли на раскрутку по новым эпизодам. Им нужно было создать жесткие условия. Создали.
У этих двоих есть ко мне разговор.
Разговариваем мы час. Сначала несколько коротких вопросов. Когда и кем работал? Понимаешь в делюгах? Вопросы есть, посмотришь?
Выяснили, что работал в органах я давно, – напряглись; узнали, что в уголовном праве понимаю, – успокоились и приняли решение задавать вопросы.
Смотрю документы. У братка все просто, он сидит давно, у него особо тяжкие, но по новому делу его скоро везут на психиатрическую экспертизу, его волнует, правильно ли вопросы поставлены. Постановление чистенькое, мне нечего ему посоветовать. Ему – ждать, а к этому он давно привык. Уходит на свою шконку, спать.
У обоих шконки свои, отдельные, на них никто больше не садится и не ложится, что для транзитной хаты редкость. На всех остальных шконках спят по очереди.
У Александра дело большое. Там многоэпизодная банда. Читаю и не понимаю. Обвинение ему вменено на восемь эпизодов, а в приговоре – девять. Судья ошибся, вписал ему в приговоре чужой эпизод. Ошибке много лет, но все судебные инстанции на нее плюнули.
Так не бывает, но вот бумаги передо мной. Так нельзя, но можно.
С этим принципом – нельзя, но можно – живут зэки, придется теперь жить и мне. Я еще и не такое увижу.
Я быстро пишу ему текст обращения генпрокурору, шансы близки к нулю, но времени у него много, и надо пробовать все.
Хата внимательно слушает и смотрит. Ко мне выстраивается очередь. До вечера я успеваю написать две апелляционные жалобы и позицию в прениях трем арестантам. Я рад: это отвлекает и убивает время. Работу прерывают несколько раз – принесли баланду на обед, загнали вновь арестованного казанского парня, а под вечер этап, восемь человек.
Становится очень тесно. Почти все курят.
Арестованный из Казани – неинтересный: мелкий полицейский, сбытчик наркоты, держится дерзко и уверенно, говорит, что ненадолго сюда. Украдкой он дает мне постановление об аресте, я читаю, смотрю на парня и вижу, что он совсем не уверен и ему страшно.
Правильно не уверен, и правильно страшно. Срок будет большой.
Этап южный, люди с разных централов, от Нальчика до Ульяновска. Кто-то едет на строгий, кто-то на общий в Киров. В Тагил – я один.
– Братан, я Витос, – подсаживается юркий молодой кавказец.
Говорит почти без акцента. Но очень много говорит. Рассказывает, что он случайно с БС, он вообще черный по масти, в отрицалове, просто служил срочную во внутренних войсках. Слишком часто повторяет, что не хотел сидеть с бээсниками.
– Ты это на зоне расскажешь, не мешай человеку, – тихо бросает Александр.
Я пишу, мне действительно не до разговоров.
Витос вскидывается, но видит матерого волка, чувствует свое место и на время замолкает. Отходит, улыбается мне и Александру. Плохая улыбка. Плохой человек.
– Ляжет под оперов на третий день, – говорит Александр тихо.
Я верю.
Около трех ночи до меня доходит очередь на сон. Это самое шумное время, работают тюремные дороги, крик стоит беспрерывный. Но я отключаюсь. В шесть меня поднимают, скоро этап. На мое место сразу ложится следующий и тоже отключается.
Я одеваюсь, беру сумку. Прощаются со мной тепло, жмут руку и тут же забывают – это жизнь транзитной хаты, здесь нет ни друзей, ни попутчиков.
Забываю и я.
Зэк всегда думает о том, что впереди. Вчерашний день прожит, и, если он не привел тебя в карцер, ШИЗО или медчасть, – прожит хорошо. Завожу одну руку назад, во второй сумка, и иду за конвоиром.
В вагоне «столыпина» я начинаю чувствовать от одежды запах плова и специй.
Это ненадолго. Дым дешевых сигарет очень скоро забивает все.
Суки
Этап в Екатеринбург приходит под утро. В марте на Урале ночью холодно, это еще зима. На перроне прожекторы и длинные тени фигур в пятнистой форме; людей выгружают по одному и сажают на корточки, лицом к свету.
Справа и слева недобрые собаки – их сумели научить ненавидеть человека.
Люди на корточках начинают дышать, это поначалу больно, холодный воздух режет легкие чистотой, его вокзальная вонь – ничто после столыпинского вагона, в котором люди едут из следственных изоляторов, где пробыли много месяцев, все по много месяцев, а у некоторых за спиной годы.
Люди устали. Этап – это пытка и глумление, это многие сутки «столыпина», где в хате, стандартном купе, полагается ехать двенадцати арестантам. Сейчас мы в зимней одежде, а еще у всех баулы, у некоторых неосмотрительных – не по одному. Негде сидеть, негде стоять.
На этапе нет ни ночи, ни дня, есть три выдачи кипятка и три вывода в туалет. В сутки.
Это транзитные тюрьмы, где спят по очереди по паре часов в сутки, и шмоны, шмоны, шмоны, к которым привыкаешь, достаешь все вещи из сумки, раздеваешься и одеваешься, не видя ничего вокруг.
И это усталость. Дикая, давящая к земле – пусть земля и холодная, но на нее можно лечь: организму нужно лечь, никому нельзя все время стоять и сидеть.
Я последний в ряду бээсников, нас всего несколько человек, мы сели на корточки и ждем, пока выгрузят остальных. Этап большой. Сзади меня садятся женщины, их везут в Тагил, как и нас.
– Бээсник, помоги, – шепчет одна, ей около пятидесяти, она глубоко и сухо кашляет. У нее два больших баула, это я вижу, косясь через плечо, и понимаю, что они тяжелые. Киваю.
Конвой дает команду, и группы арестантов ломкими шеренгами поднимаются с земли и идут к свету, туда, где фары наших автозаков.
Я беру сумку женщины, и слева начинает лаять собака, они все лают одинаково зло, но эта лает на меня, и рядом с ней низко рычит коренастый вертух.
– Оставь! – Это он мне.
Молчу, и мы идем, он остается сзади и начинает вместе с собакой лаять на кого-то другого.
Около автозаков нас резко останавливают, женщины так же позади, я ставлю баул и пробую улыбнуться.
– Суки, – говорю я тихо, но она слышит.
– От души, – говорит она мне и добавляет: – Это не суки. Сук ты сегодня увидишь.
Видно, что ей все не внове. Я пока не понимаю, о чем она, но верю.
Когда всех бээсников собирают вместе, оказывается, что нас два десятка. Пермь, Кемерово – регионы разные. И Москва. Это важно. Москву в зоне ждут, с московскими едут деньги. Они все при деньгах, москвичи, в этом в зоне уверены.
Мы погружаемся в автозак, мы ехали в разных вагонах, поэтому начинаем разглядывать друг друга. Разные. Есть брендовые пуховики, это – Москва, БЭП, налоговая. Есть бедолаги, они в чем попало с чужого плеча, это обычно бывшие солдаты внутренних войск, они служили срочную и забыли о ней, но служба не забудет никого, и они теперь бээсники, потому что внутренние войска – МВД, хотят они того или нет.
Нас привозят в ИК-2 – она в центре Екатеринбурга, и там пересылка для тех, кто едет дальше в тагильские зоны. На прогулках сквозь зарешеченные потолки двориков мы видим верхние этажи домов, балконы, на которых иногда стоят люди, они курят и смотрят равнодушно на находящуюся под их окнами колонию – часть пейзажа, привычную и неинтересную.
Мы давно не видели свободных людей.
И да, мы встречаем настоящих сук и живем среди них неделю. А потом они будут рядом годы. Но здесь их – концентрат, и это хорошо, позже понимаешь, что хорошо, здесь уничтожают иллюзии, если они еще оставались, это не просто пересылка, это университет, и ты понимаешь, чего ждать в зоне.
Эти суки – арестанты, сидельцы, но они ходят свободно, некоторые в спортивных костюмах, у них ключи от камер, они появляются у нас, когда захотят, просят сигареты, разговаривают отрывисто и редко, они нас презирают. Мы тоже их презираем, сразу начали, иначе невозможно, они не вызывают других эмоций.
Им отдано то, что лень делать сотрудникам или гадко даже им, они принимают этапы, раздевают и снимают на видео арестантов, чтобы зафиксировать состояние по прибытии, водят их голых из камеры в душ по графику, голых, потому что смешно, им же скучно. Еще они бродят по коридорам и следят за камерами.
Иногда мы слышим, как с ними разговаривают сотрудники, и это тоже – отрывисто и резко, а иногда сотрудники их бьют, и это тоже слышно, звуки ударов глухие, вскрики тоже глухие, шуметь нельзя. Правильно, тварь должна дрожать, тогда она будет бояться тебя и кусать других тварей.
Это их плата за возможность жить чуть получше, чем другие, не ходить строем, кормиться тем, что отбирают у проезжающих этапом зэков, мыться в душе каждый день, а не раз в неделю и жить в небольших комнатках при администрации, а не в бараках. А еще за то, чтобы пытать арестантов, – их должен кто-то пытать, так устроена зона.
Затем, когда слава об их зверствах расходится, они зверствами же выслуживают, чтобы их не отправили в те самые бараки, где их ждут счета от зэков; ссучивание – процесс необратимый, и иногда им счета предъявляют, что жутко.
Все, что они делают, – нельзя, и их как бы нет, они это понимают, но гонят, гонят от себя эти мысли. И продолжают отбирать, угрожать, пытать, потому что только так можно заслужить право не возвращаться к людям. Право остаться суками, козлами, сытыми среди голодных. Право лизать сапог.
Их никогда не становится меньше. Они – расходный материал, и на место одного стоят в очереди двое. Иногда их матерей находят на воле, рассказывают все, и некоторые матери приходят на свидания и просят сыновей остановиться. Но они не могут. Дороги назад нет.
Секции дисциплины и порядка, добровольные помощники администрации – у них много имен. Но суть одна, это изверги, которых люди в погонах нанимают пытать и убивать.
Нужды в этом никакой нет, в зонах тяжело, смертельно тяжело и без сук. Но традиции ГУЛАГа живы, они скрепляют поколения и умрут, только когда умрет сам ГУЛАГ.
Мы проходим чистилище – ИК-2 Екатеринбурга – без потерь, у нас почти ничего не украли и совсем ничего не отняли, этап был большой, нами не занялись всерьез, бывшие сотрудники бывают опасными, они умеют писать жалобы, а иногда бьют в ответ. Это само по себе козлам не страшно: за ними администрация и спецназ, – но может выйти за пределы тюрьмы, что нехорошо, лишние проверки не нужны.
Эта школа, недельные курсы наблюдения за тем, во что может превратиться человек, – бесценны. Ты смотришь и видишь, чего тебе ждать в зоне, что человек слаб и дух его ничтожен, мутная сучья пленка на глазах нарастает вмиг, а удалить ее невозможно, где-то внутри догорает в человеке искра, что мама подарила ему при рождении, но светить она ему уже никогда не будет. Тюрьма высасывает души и плодит мерзость.
Потом они выходят на волю. Но поздно, всегда поздно, жить вольно они уже не могут. Сапог, чтобы лизать, и слабый, чтобы пытать. Вечный челночный бег суки.
Карантин
Из ИК-2 Екатеринбурга нас уводят к вечеру. Зэков набралось много, почти двадцать человек. Из Перми, Кемерова, с Сахалина. И Москвы. Важно, что есть среди нас москвичи и те, у кого приговоры по взяткам и мошенничеству. Значит, этап нужный, его ждут. Это мы узнаем позже, а пока просто собираемся.
Тагил близко, но расстояния ФСИН не важны, дорога в любом случае будет мучительной и долгой. Так и происходит.
Для начала нас три часа держат в автозаке. Потом мы двадцать минут едем, потом – слышно, что это вокзал, и стоим еще час. Затем нас ведут в «столыпин». Он стоит на дальних путях, нужно ждать состава, к которому вагон прицепят. Проходит еще около двух часов. В это время производится дежурный шмон. В туалет нельзя, всем уже не по себе, но возмущаться – шанс приехать с рапортом и сразу попасть в ШИЗО.
За окнами становится совсем по-ночному, шумит город, слышны звуки вокзала, и, если бы не теснота – а нас одиннадцать в хате, обычном зарешеченном поездном купе со стальными полками, – можно было бы лечь, забыться и представить, будто ты едешь не в никуда, а во вполне определенное место где-то на юге и тебя ждет солнце, тебя ждут две недели отпуска, но поезд трогается, и мысли останавливаются.
Тагил – это перрон, прожектора и собаки. Все зло, избыточно зло, нам не нужны окрики и ругань вертухаев, мы идем сами, все устали, и у всех одно желание – доехать до зоны, выпить горячего чая, умыться и уснуть.
Первое желание сбывается быстро. Через час нас уже вводят в карантин ИК-13. Это одноэтажный барак, недавно отремонтированный и с наглухо закрытой локалкой[15]15
Локалка (локальная зона) – территория вокруг барака, огороженная забором от остальных зон колонии.
[Закрыть]. Мы привыкли в СИЗО, что все арестанты равны. И еще, что сукой быть стыдно. Дневальные карантина – зэки, которым не стыдно быть суками. Они выставляют это напоказ.
Нас раздевают, отбирают одежду, оставляют лишь нижнее белье, коротко стригут, почти налысо, и отправляют в душ. Все это делается с подчеркнутым презрением.
Это неожиданно, потому что такого от другого арестанта не ждешь. А надо. Теперь надо.
Ни чая, ни кипятка. Вода из крана – и спать. И это хорошо, если думать отстраненно. Не время расслабляться.
Следующие дни определят, кем ты будешь в зоне.
Утро начинается с выдачи одежды и обуви. Робы и обувь выдаются на глаз. Это делается сознательно, пряник сразу должен начать просить. Получить обувь по размеру, подогнать штаны, добыть нитки, иглу, ножницы. Все нужно просить, и за все придется платить.
Алексей, старший дневальный карантина, начинает вызывать к себе пряников, прощупывать их. Запросы от оперов просты – выявить платежеспособных. Администрация в этом не участвует. Это должны делать зэки.
Зона устроена просто, структура отлаживалась десятилетиями. На каждом объекте – отряд, медчасть, ШИЗО, храм, школа, ПТУ, столовая, свинарник, штаб, посылочная, клуб, цеха промзоны, есть дневальные из зэков. На каждом есть старший дневальный, завхоз, как его называют все. Его задача – держать объект в порядке. Ремонт, строительство – все его проблемы. Администрация получает на это финансирование и отчитывается, но зона ремонтируется и строится за счет зэков. Завхоз должен найти средства.
Поэтому завхозы, получившие добро от администрации, приходят к Алексею, и он вызывает к себе перспективных.
Двое из тех, кто ходил к Алексею, устраиваются дневальными ШИЗО. Двое – в медчасть. Остальные остаются под присмотром. Шансы, что среди нас есть те, кто «поучаствует в нуждах» зоны, сохраняются. Еще через день двоих раскручивают на работу в «нарядке» – это отдел труда и занятости осужденных, зэк не может там работать, там персональные данные и ведение компьютерных баз, но и трудоустроенных зэков официально в колонии всего двести, а работает в пять раз больше. Пусть они и не устроены официально, пусть они рабы, но хозяин должен знать, где раб и сколько он сделал.
Еще зоне нужны «отделенные» – те, кто моет отхожие места, курилки и занимается мусором. Поэтому Алексей устраивает провокации, просит помыть помимо общих помещений, что не опасно для мужика, еще и туалет. Никто из нас не соглашается, хотя он и уговаривает, и пытается угрожать.
Этот запрос от какого-то завхоза у Алексея остался невыполненным. Он не расстроился. Скоро приедут новые пряники.
Так устроен карантин. Название нелепое, ничего от медицины в нем нет, душ один раз по приезде – единственная полезная процедура. Это первичный фильтр, отсев и сортировка; здесь завхозы подбирают себе жертв, помощников и, перед освобождением, замены; опера – у них свой интерес – начинают присматривать за новыми арестантами; промзона ищет тех, кто что-то может делать руками; а сор – юристы, экономисты и прочие бесполезные в зоне люди, если не нашли себе места, готовятся к распределению в отряды по усмотрению начальства.
На четвертый день проходит распределение, и зона всасывает в себя наш этап. Следом уже прибывает другой.
Карантин не стоит пустым. Зона требует новые тела, ей нужны новые души. За наши она уже принялась. Но ей мало. Ей всегда будет мало.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































