Текст книги "Страж и Советник. Роман-свидетель"
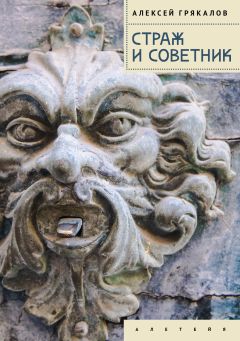
Автор книги: Алексей Грякалов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
14. Встреча-экфразис
А предатели есть только там, где родились, не приходят из других мест.
Тут произрастают… удобрены и окучены, ждут расцвета и плодоношения.
Проверка памяти? – на этот раз человек-из-под лампы не скрывал лицо. Был уже почти вечер. Теперь на собеседование меня вызвали одного. Даже возле расписания экзаменов летней сессии не было ни одного страждущего, будто все навсегда все сдали. И я вспомнил, как в самом начале университетской жизни глупо сказал, что после окончанья утоплю все конспекты в Неве, чтобы тогда – после всех узнанных слов, начать как-то совсем по-другому жить.
– Как Единорог? Как Дева-краса? Охотники-коллабы? – Спросил по-свойски моими словами. – Что нового накопал?
– Полк СС «Варяг» полковника Семенова, казачья группа Туркула! Когда включили в общую группу войск казачий кавалерийский корпус и создали Казачий стан, под командой Власова оказалось почти тридцать тысяч войск. Власов получил личное поздравление Гиммлера! Я фотографии видел… голландцы, бельгийцы, французские легионеры, испанцы, финские добровольцы, албанские, итальянские легионеры СС! Но не украинцы, не наши. У хохлов… соматика крестьянская, рабочая! Таких почти детских тел у наших не было. И все добровольцы в европейских белых подштанниках!
– А еще?
– Все предатели одинаковы. Страх смерти, голод в плену, конечно! Но много таких, кем движет что-то другое. Какая-то природа… для чего Единорог прильнул к Деве? Знает же, нападут из засады! Да ведь Дева появилась в иконографии гораздо позже, чем Единорог! И хочет только его одного! Девственность вообще мало что значит в жизни, мешает воспроизводству. И Единорог хочет чего-то… запредельного! Какой-то, не знаю, свободы! И власть ловит таких!
– Клиент террора? Вам дали в спецхране американский журнал. «The Next European War Will Start In The Ukraine».
– Я немецкий изучаю. Карта приложена, я посмотрел!
– Можете воспроизвести? – Он меня от меня самого препроводил в категоричность императива, от всеобщего кантовского требования – в память безымянную.
– Красное и черное… две половины. Зеленый клин через линию разделения – UKRAIN. На красной половине RUSSIA – Stalin, на черной GERMANY – Hitler. РOLAND коричневая, со стороны Baltik Sea вкрапление черное со свастикой EAST PRUSSIA. Оранжевая ITALI, черное место в Германии, где была AUSTRIA, LATVIA уже в красном цвете. И по желтой CZECHOSLOVAKIA прямо в Украину немцы в касках шеренгами – винтовки с примкнутыми штыками на плечах, у направляющего в первой шеренге клинок в руке – черные стрелки прямо из носков сапог… вышка ретрансляции, тётка-западенка с бадьей вареников встречает. И две черные змеи по бокам – из CZECHOSLOVAKIA через цвета сырого мяса HUNGARY, по желтой RUMANIA южная змея прямо в ODESSA, чтоб дальше на KHARKOV. А северная змея через РOLAND на KIEV. Полоса наших укреплений навстречу… солдаты – кто с биноклем, кто к стрельбе изготовлен. А Гитлер и Сталин смотрят, что будет.
– И что?
– Ждут все! Дания, Швеция, Голландия… Польша.
– А Украина?
– Там ничего не сказано… карта американская!
– В карты играете.
– В Заполярье играл один раз… проиграл.
– А кто шел в предатели?
– Кто в плену, когда невмоготу терпеть… кто из раскулаченных! Но есть такие, что будто бы ждали и всегда случая ждут. И власть их подберет!
– Все равно, какая власть?
– Нет, конечно.
– Идите! Если надо будет, свяжемся! – Он уже будто приказывал мне.
Больше меня не вызывали.
Но четверо из тех, кого приглашали из выпускников факультета стали сотрудниками спецслужб, двое дослужились до генералов. А один только до подполковника, но его вызывал лично к себе председатель Комитета Андропов, когда выяснилось, что внучка Брежнева стала подружкой его секретного сотрудника. Про четвертого я ничего тогда не знал.
А он про меня что-то знал.
Наверное, тот, кто спрашивал, поражен был моим умением запоминать – я иногда начинал говорить, будто передо мной страница. Решил, может, что я живущий сразу в двух мирах шизофреник. Может, я разочаровал его моим интересом к встрече Единорога и Девы.
Тогда о биополитике еще никто не говорил. Но у истоков, как я прочитал в столетней книге, требующей воскрешения всех прежде живущих, как раз было про это.
– А все-таки… какие проблемы? – Непонятно спросил меня в конце разговора.
– Единорога убили… Деву лишили девственности.
И нет проблем.
Легко приличное вроде бы барахло с меня сдирал почти без труда. А когда лицо на миг высветилось, я понял, что он похож на Полковника с вокзала. И оба одним лицом хотели увидеть то, куда я пускать не хотел. Одним лицом будто бы мной самим смотрели сейчас как раз туда и будто бы против воли я сам их туда вел. И странно было чувствовать удержание без прикосновения – Домовой зашлепал босыми лапами в свой укромный угол, дыхание его осталось и давило тяжестью.
Никто меня вроде бы не привлекал, но я сам будто бы увлечен туда, где совлекались одежды. Может, такой… потенциальный коллаб?
А хотел стать свидетелем.
И расстались: я в библиотеку, а тот, кто смотрел из тени, – с отчетом к начальству. Мы существовали в каких-то параллельных мирах, но я кого-то другого – тебя – постоянно чувствовал смутным переживанием, ставшим таким привычным, что оно будто бы вовсе не имело обличья. Словно бы означало край: не ходи туда, не думай, не говори. Анекдот рассказать можешь, но тут же и анекдот про того, кто рассказывал анекдоты: «А чем вы от меня отличаетесь? – Ничем!».
И показывал книжечку-знак.
– А что же вы… небезопасно так шутите?
– Да это просто юмор.
– Не просто юмор. Это образ мыслей! Учтите… учтите.
– Я учту!
Позиция, как тогда говорили, опасно сближается с Фрейдом с той только разницей, что бессознательное поддается контролю. Почему в либеральных обществах психоанализ принят, а в тоталитарных жестко преследуем? – по следам, по следу. Достоевский, писал Фрейд, мог быть освободителем человечества, а стал его тюремщиком! Загнал либидо в тюрьму православной веры. Бессознательному нет места в революции… взбесился HOMO ERECTUS? Нет места в реалистическом творчестве – где сексуальность и агрессивность в картинах Шишкина? Дубы… вожделеющие самцы? А картины, что несли к стене Петропавловской крепости, нездоровое высветили: что в нутре, кроме нутра?
Недопустимое нельзя допускать.
Поздний Фрейд написал работу «Почему война?»
«Warum der Krieg?» – Переспросит Президент.
По-русски и по-немецки люди агрессивны и всегда будут воевать. И от удержания, которое будет всегда, можно избавиться только жестким толчком и болевым приемом. Бросковую технику дзюдо дополнить ударной техникой каратэ-до – путь един.
Левиафан-зверина – все видит, себе не враг. Дракон охраняет – Левиафан и Дракон заодно. И хорошо быть в этом потоке силы! Но что дальше, когда нутро не удержать?
Самому стать силой – держать в повиновении дурную чужую силу. Но так можно самому начать служить удержанию, хотя удержание больше всего нетерпимо.
Больше не вызывали.
Но будто кто-то постоянно присматривал за мной: в библиотеке города Курска тетка-заведующая, сначала почти злобно твердившая, что нужно читать труды Ленина, когда я попросил Библию, на следующий день сама вынесла старинное издание из фондов бывшей духовной семинарии. На военных сборах, куда время от времени я попадал, меня перевели в группу аналитиков; там я встретил бывшего сокурсника, он тупо громил буржуазную пропаганду, но встрече обрадовался. И когда генералу-сокурснику я задал вопрос о возможности службы сотрудника одной спецслужбы в другой – присматривают друг за другом, он посоветовал мне не говорить глупости.
И при встрече поднял стакан: «Пацаны, за нас»!
15. Каратэ-додзё в Ковенском переулке
Внутри встречи с Нагой на берегу что-то родилось и непрерывно теперь взывало к себе, но никогда не давалось в руки.
А если бы я тогда обнял ее горячее тело? Она близка к таинственным первым дням – архаическое, теперь я знал, не означает давно прошедшее и воскрешаемое только в словах, оно говорит о возвращении к родникам.
Но даже и мысли тогда не было обнять Нагую. И такими словами тогда не думал – думает Единорог, когда мудрую могучую голову приклоняет к девственной груди? Даже не различить в близи нежные розовые навершия на груди. Песчинки в родниках играют, каждая со своей собственной тенью и с тенями тех, кто рядом, пульсирует родник… дышит родничок на голове у младенца. Все гонятся за первозданностью, только вряд ли кто догонит. Циклоп-дубина призвал циклопов – толпились перед пещерой: «Кто Тебя настигает? – Меня не силой, а хитростью побеждает коварный Никто!».
Хитрость ворует силу у силы.
Непрожитость только и гонит вперед, пульсирует и держит. Вот жилочка голубая бьется в горячей наготе.
И если понять хитрость, можно понять многое, почти все. И любовь мерцающая, показавшись на миг, обратится в непобедимую силу – нет соглядатаев, нет соперников, нет времени, никогда не настанут слабость и старость. Все когда-то это чувствовали, хоть и не знали слов, но утратили, навсегда потеряли. И Единорог-резидент, не растворяясь до конца в субстанции агентуры, чувствовал, что будто бы виноват перед всеми. Навсегда утеряли люботу – хранить можно только тому, кто не просто знает, как инженер или счетовод, а знает самое главное о всепроникающей силе – на себя самого смотрел будто сверху, умаляясь, почти пропадая в траве, сливаясь покрасневшими за день плечами с прибрежным песком. Будто клеветал на себя, ведь никто не оговаривал, не винил – обвинял, чтоб чувствовать виноватым.
Дзюдо – техника бросковая, а техника каратэ-до ударная.
Дзюдо – для всех, каратэ – для избранных, айкидо – для посвященных. Но айкидо тогда будто бы вовсе не существовало, может, простая выдумка. Как раз в каратэ много студентов из Университета. Чуждая идеология, поклоны неведомому духу камидзо, поклоны сэнсэю.
Левиафан советский долго будет терпеть чужое японское вторжение?
И мы встретились – в додзё в Ковенском переулке. Совсем рядом единственный в Ленинграде открытый католический храм, там маленький орган звучал великими в прошлом и настоящем распевами. Редкие католики на скамьях – за ними тоже кто-то присматривал.
Каратэ – для избранных.
Левиафан обретал могучих опричников, которые служили силе ради самой силы. Она будто могла существовать сама по себе – как данность, природа, несводимость ни к чему. Ни одна ориентировка не могла бы ее описать: откуда такие искусные описания лица и личности в русских романах? – из полицейских документов, когда не было фотографий.
Будущий Президент – ты – был таким, как все, но отстранен, хотя рядом не опасен. Легенды и тайны кружились вокруг каратэ – горшок с цветком лопался от направленного удара на расстоянии трех метров, когда шаолиньский монах наносит удар. Никто в полутайном додзё не думал тогда, что буддист никогда не ударит в жилище цветка ради того, чтоб на это смотрели.
Маленький цветок лежит в пыли…
Это самое известное короткое стихотворение написал Рабиндранат Тагор. И поединок – дзю-кумитэ – должен быть точным и коротким. Как говорили древние: война любит победу. Тут сходились индийские и китайские истории, самурайский кодекс, стремление к тайной силе, зеленый чай без сахара, тайна додзё-каратэ.
А болтуну, что не сохранил тайну, лишнее уже удалили: вдруг в розовой воде раковины заплавал болтливый язык. Когда убрали обрубок, на том самом месте несводимой краской вдруг высветилось слово: язык. Каратэки при встречах кланялись друг другу: вдруг посреди толпы на выходе из ближайшего к Ковенскому переулку метро, невиданно для улицы Восстания, склонялись головы.
После пропущенного удара поклон означал признание.
Каратэ делало почти неуязвимым – до эпохи стрелков было еще очень далеко. В зале стояли известные персонажи – Миша-актер и Серж-секретарь горкома комсомола. Артист бросил пить, а комсомольского секретаря застрелили, когда он стал директором банка. Бывший балетный солист, что не мог жить, когда перестал летать в танце, стоял среди халдеев из ресторана «Баку», рядом фарцовщики, ювелиры и студенты.
И будущий Президент стоял среди всех, но я его совершенно не помню. Мы никогда не спарринговали друг с другом.
А занимались, сами того не зная, почти одним тем же делом.
Я своей темой о Единороге и Деве – любви, силе и предательстве, а он почти незаметно стоял среди всех и видел всех. Но я странно чувствовал, что он не такой, как все. Будто смотрел из некоей скрытости – не совсем из той, откуда светила в лицо лампа, но тоже не дающейся взгляду, внушающей сразу недоверие и доверие.
А меня больше никуда не приглашали на разговор, и я наивно решил, что забыли.
В отделе специального хранения Публички – спецхран будто тешился над самим названием Публички и всеми, у кого не было доступа, я заказывал иностранные издания и даже книги белоэмигрантов. В книге протоирея Василия Зеньковского было написано, что Ленин – не философ. Когда в провинциальном институте я повторю слова, сразу вызовут в партком на первый этаж: поставят вопрос, но потом после неведомого мне разговора сразу затихнут. Секретарь-фронтовик будет поглядывать на меня с интересом и почтительным презрением.
А я тренировал память, думая, что меня снова позовет на разговор человек из тени. Все записи нужно было каждый раз показывать суровой сотруднице спецхрана – я старался запомнить. Но все запомнить было нельзя: повествование о Единороге и Деве казалось слабой легендой происходящего, хотя оттуда – из первых встреч и первых обманов, где совсем рядом, согласно библейскому донесению, Каин убил брата Авеля, как раз струилось неизбывность любови, предательства и смерти. И обрушивалось такое неведомое, что могучий Единорог и любящая в его лице всех на свете любовников Дева, казались не началом, а отблеском, почти карнавалом, любовной легендой. А фаллические острия копий охотников из группы захвата казались просто непомерно выросшими перьями для письма.
Ведь Левиафан своими строчками давал вздохнуть каждому – могучим удержанием выправлял, бессознательное отсекал или превращал в героическое. Человек существо не столько говорящее, сколько говоримое, не столько творящее, сколько творимое? Бессознательное, согласно французу Лакану, это речь другого?
Ничего подобного.
Строились магистрали, космонавты летали и возвращались. А когда не возвращались, это будто было объяснимо и понятно: Левиафан знал, что возможно невозвращение, но герои всегда будут жить. А невозвращенцы, что оставались за кордоном… взлетали на сценах, танцевали на льду, нравились меньшинствам и самой королеве, говорили по голосам Европы или Америки, это непонятные люди.
Предатели? – только себя любящие персонажи, их не может быть много, поглотит рано или поздно чужой Левиафан-зверь, что погонит пришлых насельников к краю.
Пребывать на границе, на контрольно-следовой полосе – видеть все, отслеживать злоумышленников, что гайки отвинчивают на рельсах. И я при всем непонимании дел будущего Президента чувствовал рядом какую-то чуждость и опасность, что будто отслаивалась от его фигуры и молчания каждый раз почти незаметно, каждый раз неповторимо. И никогда не вступал в единоборство, будто боялся открывать такое, что не видно, невидимо, тайно. А он из укромного места мог действовать наверняка.
Ипон!
Это удар, который засчитан смертельным.
Я чувствовал, что Ты – уже не Он, и Ты будто бы презирал все, что может исходить от меня. Единорог, Дева, охотники! – пренебрегал, не верил, что то, чем я занимаюсь, достойно внимания. Это не имеет силы, только лишь допустимо как пот после тренировки, когда кимоно-каратэга становится тяжелее на две тысячи граммов. Ты будто бы совсем забывал себя самого – так я теперь думаю, а тогда не думал. Домовой с его единственным приемом удержания – мог его провести из любого положения, из каждой минуты ночи или дня. Но ведь это фантазм, вымысел… ночной страх, что рассеется при дневном свете! Да и страх удержания почти пропал, ночной топтун реже стал приходить. И нагая возлюбленная, что стояла на горячем песке, Дева – Ты даже стал так ее называть после моего рассказа о Единороге и Девственнице, – будто бы растворялась среди новых встреч.
Я будто бы знал, кем Ты будешь.
Ты появлялся в додзё редко, потом стал тренироваться вдвоем с сэнсеем. Говорили, что его включили в группу захвата, и будто бы он при захватах стал бить людей.
Дурной силе все равно где быть и кого бить. А этого делать нельзя, рано или поздно будешь наказан за злую силу.
Ты опасен, встреча опасна. И с каждым годом опасность встречи с Тобой нарастает. Но люди, думал Ты, закрылись, скрываются, обманывают… чуть не сказал – грешат. Тогда о грехе совсем не думал.
Левиафан не признает греха. Ведь грех – это результат дурно понятой свободы?
Люди недовольны, они всегда скрывают. И хотят скрыться сами. А есть места, где они сами по себе в правдивой естественной наготе? Вот рассекают сейчас вместе с Тобой пространство на поезде в Москву, закрылись и закутались.
Ждут неведомого им самим суда, когда предстанут совсем нагими?
Ты о том подумал совсем для себя странно, что, возможно, ангелы существуют. И вот Нагая на берегу – миг длится вечность, а вечность скукожилась пупырышками бледной кожи – к вечеру плечи и шея болезненно покраснеют. Все видно – Ты закрыл глаза, солнце било прямо, при этом еще и не давало слышать, почти не давало дышать.
Вот Нагая прямо перед тобой… ничего не видно.
Простое природное тело, как вьюнок или трава-молочай: если сорвать, на стебле сразу выступит белая капля. Такая капля плеснулась, когда молодая женщина грудью кормила младенца в поезде. И когда сорвется с девичьей природы, не дождется Единорога, изменит себе… выступят капли молозива на сосочках.
Желтые пятна останутся на рубахе – что видишь?
Напялили маски – в дурацком хороводе вслед друг дружечке. И преуспевают, конечно, мужчины. И надо бы маску снять перед сном, да завтра опять в заботы. И прикипела маска! Надо помогать, чтоб маски снимали, ведь в масках они изменят собственной ангельской наготе – самим себе, какими были в рождении. Ты уже знал про сингалетическую фотографию, словесный портрет, великая русская литература внимательна к лицам. У спецслужб научилась, иначе как определить существо, когда нет фотографии. Толстой написал, что глаза у Катюши Масловой были как черная смородина после дождя – легко вычислить героиню, сверкнет всегда узнаваемая. Бертильонаж вселенский – измерят череп, длину рук и ног. Где ласково касаемые словами ручки и ножки, плечики покатые, ушко эльфа с розовой мочкой? – измерят пальцы рук, уши, снимут в анфас и профиль, определят сутулость, снимут отпечатки пальцев, особенно важны отпечатки пальцев для представительниц самой древней профессии, ведь волосы скрывали уши и шею. Нет больше маски, спрятаться невозможно, а раз так, не надо скрывать и скрываться.
Почему бытие есть, а небытия нет? – Эмпедокла университетского дознавателю в помощь.
Потому, что измерено и определено.
И загадка старого Партизана-юрода, что оберегал родники.
– Что будет такое: не было и не будет, а если будет, то нас не будет! Никто еще не разгадал.
– Как-как?
– Не было и не будет, а если будет, то нас не будет!
– Не знаю.
– Слушай сюда! – команду Полковника с вокзала, пришептывая, воспроизвел. Именем юродского резидента! Приблизил губы, табачок-самосад по ноздрям, по глазам. – Это то самое!
Знаешь, что лоно первоженщины Лилит было с зубами, чтоб любовь изгнанным из рая медом не показалась? Чтоб не заменила утраченный рай!
Юрод не прав. Но сказать теперь некому.
А тогда всмотрелся в глаза старого Партизана – в них будто бы какая-то нагая радость скрываемого от всех тайного ума.
Структуру сетчатки сканировать надо особой оптикой – искусственный глаз смотрит в живой. Биометрия требует, чтоб человек приложил ладонь. А там, где уже замелькали клоны, требуется учесть запах гениталий, чтоб не перепутались телами и плотью. Электронные микрочипы вмонтированы в запястье, биометрия ищет новых стратегий считывания, компьютерные даймоны не знают усталости, в архивах генной наследственности намечены потенциальные преступники.
Теперь все дело за силой.
И ясно, вглядываясь во весь проброс переживаний от встречи на берегу с Нагой до нынешнего движенья в Москву, даже угадывая что-то намекающее из будущего, думал, что сила и любовь все вынесут и спасут. Не знал, какая именно сила, только чувствовал ее вокруг всеприсутствующей. И эту силу никто не любил, жили лучше и лучше, а недовольных, Президент знал, становилось больше и больше. Вот показываются, призывают на встречу, но отдаляются и не хотят быть в плену. И уже ангел-наблюдатель предупреждал с высоты – ближних будто бы совсем не осталось. И надо всех заметить-измерить, идентифицировать – ангел расширил тезаурус. Знал новые слова, значит, не отставал от жизни.
Останутся голые, во что будут одеты?
Ведь почти нет природно-невинной наготы детства, когда младенцы одеты в свет.
Маски прежние останутся и еще добавятся новые – вспоминал фигуры женщин, когда смотрел издалека. Плавали в теплой воде, плескались, сами будто были брызгами полдня, но если бы подошел ближе к нагому купанью, появились бы лица, показались плечи, послышались неповторимые голоса. Каждая по-своему закричала на бесстыдника – своим приближеньем подверстывал под один образ.
Áнима-девственница – расслышал сейчас от меня.
Смешивал всех, растворял, каждая по-своему плыла, дышала в объятиях, которые случатся нынешней ночью. Даже у тех, у кого никого рядом, свои имена и призывы, сказанные без слов. А генетический код всех уравнял, понимал, что так действует власть.
Но без власти вообще ничего бы не было.
Только одна Нагая не утрачивала лица, оно светило – ясно помнил, не потерялась, напротив, все возможное и даже то, что он еще не мог представить, во мгновенье приобретала, когда вслед смотрел. То показала, что всегда было и будет. И тогда все, кого он определит и подверстает, будут счастливы. Избавит от насильников, от страшной работы, от безличия и безымянности. Ведь исчисление странно сметает стремление к счастью. Их больше не поймают, не закрепостят – они сами себя отпустят, будто уже при жизни пребывают в вечном раю. Множество разных жизней может быть прожито, не станет вечного объездчика-коммуниста Дмитра-глухого с плетью в руке. Уравненные в одном могут играть – проживать разные жизни в пределах любовности. Пусть машина силы заглядывает в сетчатку глаза, измеряет форму ушей, фиксирует отпечатки пальцев, узнает группу крови, искусственный глаз пусть проникает в лоно.
Теперь каждая и каждый станет самим собой.
И он со всеми.
Никого никогда никто не забудет, все будет в памяти машины. Молотилка дней – один раз видел брошенную на степном току, маховики без ременных шкивов, решета выдраны, колеса вросли в грунт, – бесшумно теребит снопы дней. Шкив невидимый протянут бесконечно от вала-раздатка к колесу барабана.
Так легче направить каждого. И никому не должен.
Вот Нагая в солнечном свете стоит на берегу рядом, одета в невидимый свет. В свет одета невидимый. А только она и видна – видима сквозь все дни.
И кто откроет глаза?
Меняется оптика – паноптикум веселит, в нем даже неважно, кто смотрит. То Я твоими глазами, то Ты моими. То Я для Тебя почти чужой Он, можно смотреть как на говорящую лягушонку, то Ты для меня существо от всех отделенное. Иногда я сам для себя и даже в эту минуту Он.
Мужчины в старом правописании – они, а женщины – оне.
А все насельники Левиафана.
Вдруг подумал о каком-то странном божественном – его можно признать, но никому нельзя о нем говорить. Даже Домовой больше не имел знака дыхания – ни теплым вздохом, ни ледяным не открывался. Но искажаемое и дробящееся в осколках божественное странно ведомо и почти знакомо всем – осколки, каждый по-разному, что-то схватывали и держали. И на главных площадях инквизиторского Левиафана уже дико совершалось что-то подобное, будто всем открывалась нагая вечность в казенной одежке и каменном колпаке.
Президент шел посреди четырех ближайших охранников, когда-то шел мимо часовых с карабинами – подчинялись только разводящему и порядку: пост, сон, бодрствование, даже тут обнажалось что-то невозможное для житейского понимания, почти недопустимое. И оно, наоборот, хотело быть живым. И в самых для видения наготы неподходящих местах открылась какая-то неясная правда и правота. Будто бы открывались глаза, как у перволюдей, наготу видно не потому, что одежки не было. Будто некая безгрешность – никому не поверил бы, если бы не увидел чистую наготу на берегу реки. У нее тогда еще не было греховного тела, она, наверное, останется такой даже после родов. Ведь нет ничего благодатнее для взгляда, чем мать с младенцем. Понял четыре года назад в Израиле – на Святой земле, когда различил из затемненного окна машины фигуру женщины с осликом и ребенком. Двигались по гребню горы, он тогда никому об увиденном не сказал. Ни времени не знали, ни голода, ни жары. Может, только осленок страдал, ему женщина дала попить из зеленой военной фляжки.
Младенца прикладывала к груди.
А нагота буйствующей телесности теперь пыреем прет изо всех отверстий, появится бесславное тело – его можно душить и третировать, можно лелеять и холить. Пырей природный срубать тяпкой, бросать в кучу, чтоб подсох, и можно бросить в огонь.
Самое страшное для тела удержание в неподвижности – против этого бунт, этим можно управлять и править. Вот что новому желанно Левиафану: заставить сидеть – принудить к сидению, загнать в погреб или подвал, обездвижить, вроде бы ничего не делать – не насиловать – пусть щиплет бледную траву в кампании со всеми насельниками сегодняшнего Ноева ковчежца. Всех видно – изобрели противоядие самому библейскому змию, больше не жалит потомков Адама в пяту, а потомок не поражает в шипящую голову. Сидят потомки на своих местах, змеи укрылись в норах, слонов приручили, почти всех верблюдов и жеребцов выхолостили, котов и псов кастрировали.
Амурских тигров Президент лично взял под охрану.
А Единорог могучий пусть всех хранит и змéя злобного гонит от берегов озера с живой водой. И успокоятся все, расслабятся и умиротворятся: пусть сидят тихо по берегам. Но от вездесущего левиафанского зрака надо приставить призраков к каждому взгляду. А если наготу открыть, не станет никому видима – ее замечать перестанут. Ведь нагота рвется к движению, хочет ласки, чтоб боль прошла, потом снова легко явилась в соединении с лаской. Видимое, открытое, подпрыгивающее тело на коленях у морячка, нагая дурная телесность, так тело сбилось с панталыка – словцо напугавшего Домовым гостя-хохла, что приходит гнать на свое место душивший хтоник.
Нагая телесность была перед всем – потом оделась божественным светом.
Даже не знал тогда, что видит, но смотрел.
Ведь любовь тела не замечает – человечишко в создании без одежды. Отсутствие одежды и говорило о том, чтоб мог одеться в одеянье любовной славы. И теперь понял – вдвоем на берегу были юный до всех Адам и юная до всех рожавших и сама еще не рожавшая Ева.
Понял, почему она целых тридцать три вдоха и выдоха стояла нагой – это единственная ее борьба. Она держала, не удерживала – все возможные жесты и движения были в таком держании, все проявления наготы. И превозмогла то, чего будущий Президент больше всего не терпел всю жизнь.
Невыносимость безоглядного принуждения – накидывал на других, принуждал, легко останавливал потерявшего самообладание человека, тыкавшего рогаткой пальцев людям в глаза. А теперь знал, что так удерживает сам себя. И вся сила оборачивалась бессилием, сидением: насилия стало еще больше, а я заслан, что его ослабить? Он каждого усаживал на место – держал, обездвиживал, все неподчиненное прогонял – на болота, на болота, на глухие места.
Фрейда – хранителя демонов тоже прогнал, чтоб утоп в собственной взбитой трясине. Нужно, значит, только то, что соразмерно, замыслено, что повторяется, – добровольное принуждение – всем же так спокойней. Инквизитор, о котором есть подробная ориентировка, прав был. Он сейчас прав еще больше, чем раньше. Но дело даже не в нем – его тоже нужно поспрашивать – лампу из тени в его инквизиторские гляделки.
Хоть сила за ним есть, возможна перевербовка. Ведь хочет быть невидимым, а самому прозревать всех. Тела ему не нужны, любови неведомы, не существует невидимой наготы.
Террор – это вирус.
Теперь даже не нужно готовить боевиков – тем хватит своей работы. Их жизнь – война. А почему такая жизнь-работа хуже, чем любая другая?
Гибнут другие люди? – это чужие, чуждые, неподобные. Отходы есть в любом производстве.
Сам можешь погибнуть? – никто не живет вечно.
Что же держит?
Только Нагая с берега речки не предала до сих пор. Не остывал ни в каком дне горячий песок, странно существовал даже под инеем и снегами, не терял жара, не выцветал донник-буркун желтый и белый, медоносы не переставали выделять нектар, шмели хлопотали, краснел краснотал, белели голые женщины белыми телами – руки загорелые до локтей по-девчоночьи вынырнут из воды.
И иногда вдруг к месту и, наверное, не к месту обращался к ней, давно в нагом жесте пропавшей.
Спрашивал: «Держишь меня?».
И она всегда отвечала, будто уклоняясь, что держит, как может. Значит, силы ее не безграничны – родник заиливается, влага горячая истаивает, закрываются губы, притихают и стареют глаза.
Она держит кого-то другого. Но не скрывала наготы в одеянии света, чтоб он не забыл. Не хотела, чтоб заскорузло пребыл в одеянии шкуры-власти, шкиры – снова слово мовы.
И чтоб сила была любовной.
Соединялась любовь с силой, непреклонна райская нагота.
А он теперь людей делал машинами, сам почти стал молотилкой. Нагая на берегу не хотела облачения ни во что – светилась, будто была в какой-то неведомой благодати. И любовно держала в ней. Но Президент снова возвращался к какой-то не совсем праведной голой природе, где жестокое насилие власти, господства, злая эротика. Он утрачивал то, что было всегда: когда сорваны одеяния благодати, сразу бешеным лисом дико встопорщился пропущенный лемехом словесный огрех.
Будто сняли одежду света, тоже стал в удержании голым.
Но чтоб не увидели, одет теперь в жестокое одеяние властной силы.
И при всей силе вырождается в говорящую, командующую, повелевающую, но все-таки конечную плоть – все больше и больше предстает в зримой для многих наготе, хотя от взглядов отделяет стена с зубцами. Нуждался в какой-то почти неведомой благодати, даже прибегал к ней – у него был духовник, но окружающие все больше и больше видели его наготу. Первородная нагота, конечно, скрывалась одеждами – терпеть не мог распущенный скособоченный галстук, бездарно скроенные постройки на космодроме – всю скособоченную предметность, а она все больше окружала и схватывала. Нечистое, прóклятое, взрывающее… ошметки плоти при взрыве, тело убитого, стреляли недавно совсем на мосту рядом с Кремлем – открыты нагие знаки безобразия. Это повседневно-вселенское зло появлялось только в определенные дни и в определенных местах, но чувствовал за ним присутствие другого вселенского зла. Оно заголилось, бормотало посмертным достоевским бобком. Обнажалось, лезло в глаза, бесконечным казалось… гностический остаток, который никогда никуда не уходит. Надо было его тайно уничтожать, а от всех просто живущих скрывать, чтоб они могли спокойно существовать.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































