Текст книги "Страж и Советник. Роман-свидетель"
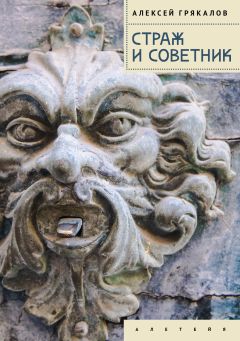
Автор книги: Алексей Грякалов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Они, говорил о внутренних врагах яростно, антисоветчину будут гнать, а мы терпеть?
Кино показал антисоветское, кадры без единого слова. Сперва купола и кресты на храмах – Москва благородная, голуби белые на площади —
Мы не голуби, мы не белые,
А мы ангелы – хранители… —
– через минуту – буйствующие в очередях приезжие, дают в конце летнего месяца детские беличьи шубки. Номера на запястьях, кто-то, лица не видно, упал, руку тянет, очередь бьется телами – буйствующая плоть. И снова наплывают купола благородного разлива – на православных храмах купол-чаша вбирает силу небесной тверди. И так раз за разом, чтоб каждому стало понятно.
Что было – что стало.
Антисоветчину будут гнать, а мы терпеть и молчать? – через год он стал генералом и любимцем Председателя. Рано умер, на встречах сокурсников мы его вспоминаем как хорошего парня.
Но вот гром отдалился, зеленые сливы почти не пригибают верхние ветки.
Юные ласточки трепещут крыльями, как бабочки, чуть замедлив взмахи, падают и снова, наверное, в мгновенном птичьем восторге взмывают. Никогда я не жил в таком удалении и отстранении, окликали меня по своим разным просьбам, если бы не это, никто, я думал, не вспомнит. В военном билете значилось – уволен в запас, я в ладу с изображением человека на картине моего друга Валерика Апиняна. Она называлась «Спящий» – человек на постели из переплетений цветовых линий, непробудно, казалось, спал. Но все видел и слышал – морщины на лбу, почти как рассечки времени – прозеванный гений русской литературы Сигизмунд Кржижановский изобрел словесный фантом-времярез. Спящий все видел из-под закрытых век, слышал одним повернутым к зрителю ухом и замечал каждого из картинной немоты сна.
А самое страшное нападение как раз тогда, когда его не ждешь.
Спящий с картины кивнул, не открывая глаз.
– Согласен? – Сенатор ждал, пока я замолчу.
– Не сума-тюрьма… кутерьма!
И уже через десять дней кортеж по Кутузовскому проспекту.
– Что Розанов любил? – Спросил Президент.
– Перебирал монеты! Единственное действо, где остались порядок и память. Еще игра на бильярде, катятся шары одинаково хоть ночью, хоть днем!
– Um Halb zehn Uhhr? «Бильярд в половине десятого»… Отец пол Европы построил, а сын пол Европы взорвал? Генрих Бёлль?
Президент был начитан лучше, чем я думал.
– А как жил? – Президент не забывал про свои вопросы.
– За занавесочкой, да с молитовкой! Мол, не радуйтесь, попики! Слова мои не против Христа! Надо молодым три первых ночки дать во флигельке рядом с храмом! Любовь чтоб при свечечках! Не могу, говорил, жить в стране, где нет больше царевен.
– Есть, наверное, смысл – при свечах?– Президент не терпел непонятного.
– Левиафан дикое укрощает силой! А Розанов любовью!
– Я помню, как ждал письма. – Вдруг сказал он.
– Я и сейчас жду.
– Чего именно?
– Не знаю…
Он жестко смотрел на меня.
А говорить, знает любой доцент, можно двумя способами: открывать файлы или открывать шлюзы.
Но шлюзы не открывались под жестким взглядом.
И надо сейчас посметь улыбнуться.
– Розанов говорил о письме! Всех ко всем. Придумал Кадм, сын финикийского царя. Трудное дело! – Туго раздвигались створы первого шлюза. – Требовалось внимательное наблюдение за движеньями языка, нёба, губ и дыхания. Чтоб каждой букве найти звук. Простая наружка! – Хотел я сказать, не сказал. – Но главное дать имена. Создать, ведь их нет в природе. Без речи нет памяти! – Томас Гоббс из открытой папки левиафанил моими словами. – Без способности речи не было бы государства, не было бы договоров, не было бы мира. Была бы сплошная война! Похожи люди на львов, медведей и волков.
– А на драконов?
– Не знаю.
– У меня скоро поездка в Китай. Со мной поедешь?
– К драконам?
Президент не любит, когда спрашивают.
И надо мне продолжать.
Первым творцом речи был Бог, который научил Адама, как поименовать тварей. Адаму надо прибавлять имена, чтоб использовать созданных! Соединять имена, чтоб быть понятым. И со временем столько слов накопилось, сколько нужно было Адаму. Хотя и не столько, сколько необходимо оратору или философу. В самом деле: из Священного писания нельзя вывести прямо или косвенно, что Адам знал названия всех фигур, чисел, мер, цветов, звуков и представлений. Еще меньше оснований считать, что он знал слова общее, утвердительное, отрицательное, желательное бытие, сущность, неопределенность и другие ничего не выражающие слова схоластов. Но весь язык, приобретенный и обогащенный Адамом и его потомством, был снова утрачен, когда строили Вавилонскую башню, Бог покарал каждого за мятеж забвением прежнего языка.
– А Советский Союз?
– Простите?
– Вавилонская башня?
Гоббс из открытого шлюза ничего не знал про советский народ – новую общность. И ничего не знал про соборность, силу, тербаты, террор. А слишком доверяющие книгам люди проводят время в порхании, не обращаясь к истокам.
– А в чем исток? – Президент прерывал на самом, казалось бы, ясном месте.
– Жизнь бесконечна… человек конечен. Исток философии, исток музыки! Письмо любовно по своей природе.
– А что дает любовь?
– Любовь дает бессмертие! – Открылась папка с диалогом Платона «Пир».
– А после демократии всегда приходит Тиран? – Президент знал не только этот диалог.
– Ад есть?
– Каждый носит его в себе.
– Жить без любви можно?
– Можно… безлюбовный ад!
– И что такое любовь? —
– То, наверное, чего больше нет?
И в его взгляде ни любопытства, ни желания понять, ни интереса ко мне. Он жил в каком-то странном прободении времени. И сейчас во мне отыскивал то, что видел и знал: Гоббс привел Левиафана и Бегемота, визжали свиньи с горящей щетиной, дико ревели от их визга боевые слоны, топтали своих и чужих, либералы на площадях революционной подделки напрягли голоса, глухо ворчали потревоженные губернские и уездные города, на площадях взвивались призывы, иногда постреливали. Открытие охоты на человека было не так, как в сезон на уток, целились в каждом дне, падали двуногие селезни и утицы, скулили полицейские псы, дымились стволы, пыж тлел на позеленевшей после дождя свежей отаве. Зерно согревалось в буртах, подорожала в очередной раз солярка, два новых полка истребителей пятого поколения встали на боевое дежурство.
Я так успел подумать – Президент был совсем рядом, так иногда кто-то великий бывает рядом в снах.
Но детали и жесты не складывались в слова.
И любовь, о которой я сказал, перемежая папки и шлюзы, осталась в строчках, иногда на целых страницах, но уже почти никогда во всей книге от начала и до конца. Только голый в пупырышках от ветра живот чудесной женщины, будто став органом без тела, мелкими шажками пробегал по Конногвардейскому бульвару, чтоб занять свое место на выставке в Манеже. Эта всепроникающая неопределенность повсюду вползала, как новый страх-террор, в это забвенье истока ныряли сотни странных непредсказуемых персонажей. Они верили оторвавшимся от истоков словам; – этих людей, говорил Гоббс, можно уподобить птицам, влетевшим через дымовую трубу и видящим себя запертыми в комнате; они порхают, привлекаемые обманчивым светом оконного стекла, не хватает ума сообразить, каким путем они влетели.
А мы сейчас по свободному от всех прочих машин проспекту – бронированный дизель глухо ревел в шестьсот лошадей.
И в паузе, когда я уже не знал, что сказать, окруженный казачий корпус ринулся в двухсотметровый коридор, с обеих сторон разрываемый пулеметами. Гниют в болотах седла, ржавеют стремена, к весне забелеют на возвышенных местах безглазые конские черепа. Маршал Ворошилов уехал из места боев неделю назад; – ему побоялись сказать, что голодная и почти без боеприпасов армия пропадает в болотах. Ударная армия ждала помощи, уже почти ни во что не веря. И недавний спаситель Москвы генерал Власов бредет в сторону Мясного бора – одно стекло из очков выпало, видит сразу две тропы: – одну ясную, другую плывущую; разные рукава шинели – один свой, другой с чужого оплывающего плеча. Даже тело походной женщины рядом в разных обличьях почти теперь ненужной обузой.
Кто доверяет словам?
Только в правильном употреблении имен и слов лежит первая польза речи, а в неправильном употреблении или отсутствии определения кроется первое злоупотребление, от которого все ложные и бессмысленные учения. И люди, черпающие знания не из собственных размышлений, а из книг, доверяясь авторитету, настолько ниже необразованных людей, насколько люди, обладающие истинным познанием, выше их.
Президент все знал, что я хотел сказать.
Машины впереди нас остановились.
Президент будет в своих делах.
А Советника отвезут в библиотеку Думы.
Мой телефон звякнул.
– В следующий раз выключайте! – Сказал мне человек из охраны.
– Слушаюсь!
Декарт, Ницше и Хайдеггер служили в армии. Русский философ-эмигрант Федор Степун написал книгу «Записки прапорщика-артиллериста» и про окрестности мысли: по-русски думают не так, как по-немецки или по-французски, – все дело в ландшафте.
Кто ни дня не стоял в строю, тот не переживал состояния силы. Но такой силе на смену уныние и тоска. Что я здесь делаю словно бы по чужой воле?
И кто-то во мне сейчас после неукротимой поездки вдруг снова вспомнил о железной мощи. Представлял себя в головной машине танковой дивизии, рвущей дороги, сносящей на пути все, корежащей рельсы. И человек в командирском танке, равнодушно глядя вперед сквозь триплекс, понимал, что именно этого ждал всю жизнь.
В машине, когда везли в библиотеку, я взглянул на телефон.
Пришли хорошие деньги.
У кого совсем-совсем вдруг не станет, обращайтесь по очереди – у меня личный кремлевский гонорар.
Можно даже не возвращать.
4. Вот солнце
Жизнь живого существа определяют три силы: пища, враги и паразиты.
И не прав академик Шмальгаузен только в отношении к людям – человек определяет себя в потенции – единственное существо, чья жизнь болезненно и неуязвимо привязана к счастью. Но и счастье неопределимо – приблизиться можно только апофатически.
Счастье – это когда нет несчастья.
Даже в натюрморте мертвые вещи заново оживут. Нужно остаться при самом простом факте, сказал же средний брат Карамазов, что ничего не понимает и понимать не желает. Ведь если бы захотел понимать, тотчас бы изменил факту, а он хотел оставаться при факте.
Бормотанье мое не удивляло девушку из библиотеки. Только в старых библиотекаршах есть тихое внимание и мудрость. А тут улыбалась ясная молодая особа, в читальном зале с утра я был один.
Она принесла кофе.
– Вам без сахара? Dolce vita?
– Греет собственный ворот.
Уже за шиворот взяли.
Скажу при встрече Президенту слова про жизнь, что написал академик Шмальгаузен.
Пища, враги, паразиты – и счастье.
О чем он в следующий раз спросит?
Каждый старается угадать слова царя.
Но могу понять только через себя. Куда растет? – ему самому ни слова. Если бы он был равен только себе, невозможно было бы даже то сообщество, которое его окружает. Без подданных царь никому ничего не способен сообщать, не мог бы даже безлично приказывать. Речи Президента не могут быть только его собственными речами.
Множество персонажей окружает Президента, в нем могут насмерть пропасть.
Там словно бы не совсем привычные люди: на периферии – беженцы, мигранты, гастарбайтеры… какие-то словесные маргиналы. А в центре – сенаторы, министры, олигархи, партийные лидеры. Вываливались из короба, проникали сквозь ограждения, перетекали друг в друга, будто ни у кого из них не было своего места.
И я с ними совсем перестану видеть натурально нагую жизнь, из какого потенциала мои собственные слова? В местах между Пушкиным и Набоковым я был с Девой и Единорогом, переглядывался с Розановым, а тут производство-говорение, зрелище, зерна рушат в крупу и за превращенье в мучицу каждый получает награду – из него что-то лепят и выпекают. Тут формуют, смешивают и в общий огонь. И не докопаться до первоистока – наготу нельзя понять, только увидеть, прикоснуться и захотеть потрогать и поцеловать.
Но прикосновение страшит больше всего.
И лучше всех видящий больше всех уязвим.
А что мне Президент может сделать? Первый гонорар я уже получил.
Смерти я теперь не боюсь, только не хочется в боль. И не повторять же слова, что не надо бояться того, с чем никогда нет встречи: пока человек жив, смерти нет. А когда придет смерть, человека уже не будет. И не потому не боюсь, что думаю встретить там тех, кого любил больше всех на свете. Они меня не покидают и здесь. Жаль тех, кто останется, жалко слез – их жизнь станет печальней.
Но вот совсем не к словам вспомнились все случаи, когда за мной кто-то будто следил и присматривал, даже вел каким-то неведомым мне замыслом. Будто для чего-то готовил и выжидал момента, чтоб спустить с поводка. Хороший гончий пес до старости остается в охоте.
И не могу уклониться, придавлен удержанием.
Сейчас передо мной документы о постмодернистском терроре, где взрывают существование. Особенно опасен виртуальный террор.
Каков новейший прогноз?
Террористами могут стать обыкновеннейшие простейшие люди, почти неразумные инфузории. Даже не замечающие, могут ли делиться на половинки, часто вовсе утратившие пол, существа без своей воли, хотя будто бы только своей волей живут. Растерявшиеся, стремящиеся стать известными хоть на миг. Первых изгнали из рая в жизнь, а этих – из жизни на экран-монитор.
Они думают, там всегда будут вечно жить.
Не становись хулиганом! О, не становись хулиганом, миленький! – из прежней жизни взывает Розанов. Да кто его теперь слушает?
И самый новейший террор: надо сперва лишить силы, смертно огорчить, опечалить, загнать в подвал, ввести в уныние. Чтоб ни поцелуй смотрителевой Дунечки не порадовал, ни песня, ни власть, ни вино. Правда, нет такой грустной собачки, которая не виляла бы хвостом. Пусть виляет, только не лает. Не гавкает, рот не открывает. Не стережет добро, дома не знает, дичает среди пустыни.
Сделать бессильным – вот самый эффективный террористический жест.
Принесла сотрудница бумаги о реализации мер по профилактике отказов от новорожденных детей и сопровождению беременных женщин, находящихся в трудных жизненных ситуациях.
Вот одна молится на коленях в храме, смиренномудрая и терпеливая.
Розанов сбоку в мои строчки заглянул по-птичьи – молящейся уже нет.
Тут про общество спектакля в отечественных изводах – только визг свиней с подожженной щетиной мог обратить в бегство боевых слонов. Теперь ни свиней, ни боев на слонах – силу набрали зрелища, Риму впору завидовать. Там – «Хлеба и зрелищ», тут – зрелищ, удовольствий и вырваться из любого удержания.
Можно узреть невидимого, что скрыт тенью, – кто меня послал, чтоб я заказанно завизжал? Почти по-гегелевски, власть дает право. Пока господствовал Наполеон на полях Европы, был в своем праве, а когда его победили, в право вступили противники. Но всякая система есть самонадеянность – даже тайные замыслы нынешних вороватых театралов в конце концов видны. И зрелищный аппарат, как воплощение невидимой власти, готов обосновать что угодно.
Актерство, писал Розанов, страшно.
Но наблюдать за тем, как делается человек, нужно страх преодолевая. Преодолевая смущение и целый вой скорбящих чувств, преодолевая желание разбить фигуру: я выходцев с того света не люблю, привидений не уважаю, фарсов в моей жизни личной и собственной не потерплю. Как же вы можете издеваться надо мною, издеваясь прежде над собою: ибо если вы – средневековый воин, танцор, андрогин, режиссер-демон, то кто же я? – Розанов искал ответ.
Я тот, кого Домовой придавил.
А тысячи, что в театре никогда не были, кто они?
Смута.
Светопреставление.
Тайна здесь и сейчас замигала из-под обыкновенного зрелища переодевающегося актера. А как Президента переодевает власть? Сущность человека в том, что делается человек. Ах, черт возьми, черт возьми! – Розанов редко поминал нечистую силу, но тут махнул.
Делать человека смеет только Бог. Кто же ты, чертова маска? К человеку все пристает, будто к дичку– подвою. Розанов говорил о мистическом страхе перед охотным переодеванием – выглядывает страшное неопределенное.
Играть жизнь, играть человека. Страшно! Отвратительно!
Фу, обезьяна: если ты не можешь быть человеком, – лучше умри!
Актер – пустое место без содержания, исходное вместилище человеческого. Недаром старушки крестятся, встречаясь с актером. Маска, а не лицо. Актер потому так охотно переодевается, что метафизически он вовсе никак не одет. Он голый. Но это – тайна, неизвестная и ему самому.
Кого я играю?
Президент – актер лучший из лучших?
И кто невидимый кукловод?
Юная библиотекарша странно смотрит: видно, что я голый?
Но если одна голая прошла по Конногвардейскому бульвару в наряде из рисунков на животе, почему бы в наряде из чужих слов не пройтись голым по библиотеке? Актер хватает чужие одежды, они к нему льнут. Тут страшное дело. Актера никто не знает, он себя не знает. Он хочет кого-нибудь играть. Ему нужно играть, без этого он задыхается, как пустое место без содержания; как платье, которое ни на кого не надето.
Актер метафизически никак не одет.
Лица нет.
Президенту надо быть президентом, иначе он не сможет жить?
Хотят, чтоб силы не было, одна непреходящая немощь. Время есть тем, что оно постоянно не есть? Есть тем, что оно непрерывно проходит? Убрать, устранить человека власти, заактерить, по-свински визгом довести до страха, до паники, до смятения и поражения, – Розанов вглядывается в бумаги у меня на столе. Страшная видимость, когда человека вовсе нет. Тут великая тайна возможности актера – это тоже в какой-то малой и редкой дроби вложил же Бог в человека при создании его.
Числитель и знаменатель – числитель-актер растет, а человек-знаменатель скукожился. Но почему и отчего страсть к переодеванию? Да потому, кивает Розанов, что в человеческой массе есть дыра, не заполненная ничем. Даже бессловесные имеют собственный вид, актер его не имеет – метафизическое существо и собственного вида никакого не имею.
Меньше вида – больше гения? У актера искусством отнята душа.
Кого я предназначен сыграть?
У политика тоже может быть отнята душа. Актер, можно сказать, скрытая опасность в каждом. И создано актерство нарочно, чтобы предупреждать. Актер представляет контур возможного в человеке: актер не индивидуализирован. Чего доброго, предупреждал Розанов, рукоплескать станут, когда гроб выносят. Потенция, потенция! В какую игру с моей помощью кто-то хочет вовлечь Президента? И зачем в его вселенские игры втягивают с чужих строчек меня?
Розанов судил из точки: откуда все слова? Да когда человек поймет, что жизнь вокруг бесконечна, а он сам конечен. Тогда сразу про Бога и про любовь. И молодящийся спикер в рубашке с короткими рукавами приглашал молодежь в Думу учиться правильно править. А вот несколько раз повторенное постановление о неприкосновенности членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы – как насчет вечности?
Распространяется неприкосновенность хоть в малой степени на меня – ведь всегда свидетелей устраняют?
Я открыл заранее приготовленные строчки для разговора.
Западничество – горькое начало русской истории.
Опасно немцам сближаться с русскими, ведь русская утробушка немедленно переваривает их и обращает в русскую кровь, в русское мясо, в русскую душу.
Внешнее – политическое, а внутреннее – религиозное.
Нравственная правда или национальный эрос: опыт войны.
Ружья и моральный закон.
Логика мысли и жизни – вообще удел немногих.
Нумизматика есть немножко древнее жертвоприношение – последнее оставшееся нам.
Мессианизм – опасен.
Мы довели историю свою до мглы, до ночи. Но – перелом. К свету, к рассвету! К великим утверждениям. К великим «да» в истории, на место целый век господствующим «нет».
Звезды не пожалеют – мать пожалеет.
Солнце в окна библиотеки светило холодно по-осеннему – в Москве всегда ярче, чем в Петербурге. И то, что Розанов написал, к житейским осеням во всех местностях известно. Но Розанов, словно бы возражая Августину о том, что существует лишь настоящее – время противоречит самому себе, его нигде нет, будущее становится прошедшим, не переходя через настоящее, нежившее, не живя, отживает, – из своего времени Розанов пригоршнями жадно хватал мое теперешнее библиотечное время, хлестал березовым банным веником, – до бани большой охотник.
Время всегда только было и всегда только будет?
Однако же оно есть, существует – библиотекарша в девичьей цветущей поре, я по-розановски любовно льнул к ней в своем осенеющем времени. Во времени, которое или еще только готовится стать или уже стремительно проходит, – в непостижимости пребывает все, вне его ничто не может пребывать. И Розанов снова: загадка времени вообще сложна, а в ситуации кризиса временнóго измерения кажется неразрешимой – предстает именно как апокалипсис.
Библиотекарша поглядывала на телефон, скоро время свиданий. А мне на свидание не с кем.
Как иметь дело с тем, что стремительно пролетит?
Что скажу, когда Президент смотрит в лицо? Ведь встреча в этом стремительном – апокалиптическом – исчезновении. Нет силы для разговора, а слова без силы немного значат.
И Розанов с неутешающим усмирением: погибнет или не погибнет человечество – это ничего не изменяет в вопросе о существовании некоей странной целесообразности. Ни человеческое счастье, ни человеческие бедствия не придадут бытию целесообразности, если в нем нет ее, не отнимут ее, если она в нем есть. Целесообразность в мире факт внешний для человека, не подчиненный его воле: признавать это или отрицать есть дело исключительно познания. Да не согласится человечество обмануть себя из малодушия – признать то, чего нет, чтобы сохранить за собою жизнь! А если в тяжелую минуту предсмертного томления оно сделает это, не вынесет долго обмана: тайное сознание, что нет того, ради чего живет оно, заставит людей по одному, не высказываясь, покидать жизнь.
Вот откуда рекруты-террористы, что сами себя призовут.
Никто не догадывается о том, как тесно многие отвлеченные вопросы связаны не только с важными интересами человеческой жизни, но с самим существованием этой жизни. Никому не представляется, что то или другое разрешение вопроса о целесообразности в мире может или исполнить человеческую жизнь высочайшей радости, или довести человека до отчаяния и принудить его оставить жизнь.
Новая форма террора? – не самолеты, не машины, не специально обученные существа. Неисчислимые террористы – это существа, что отчаялись жить.
А среди них персонажи, что не видят ни в чем смысла.
Неискоренимые голой жизни несчастные отчаюги.
– Пора уходить? – Спросил у грустной девы-библиотекарши. – Ей никто не позвонил. – Нет ничего страшней безответности?
– Мы должны до последнего посетителя!
– Женщина помнит трех мужчин: первый, последний и один?
И последний читатель я.
А Розанов приближался почти к камланию: отчаяние уже глухо чувствуется в живущих поколениях, хотя его источник ясно не осознается. Вот почему легкомысленное решение вопроса о целесообразности есть не только глупость, но и великое преступление. Те, которые играют этим вопросом, не чувствуют важного значения – отрицая целесообразность, продолжают жить, кружиться среди бессмысленного для них же самих мира и трудиться ни для чего по их же желанию.
То, что чувствуют и что делают теперь единичные люди, – говорю об отчаянии и смерти – то со временем могут почувствовать поколения и народы.
Довлеет дневи злоба его?
Будто сама жизнь бытийствует и трепещет. После Сократа и Достоевского была третья, может быть, сильнейшая из таких попыток в истории? Освобождение от самой истории, что давит Лениным или Сталиным, когда история стала отдельною от Евангелия.
Московский ветер рванулся в окна, стали проветривать зал.
Слишком много соображаем, нужно жить непосредственнее. Даже в войну не бросали новорожденных, не нужно столько теорий, – читаю о помощи брошенным деткам.
Теория, тут Розанов будто сам против себя, – это всегда мука и путаница.
Из теории не вытащишь ногу – не там светит солнце. Разве нет истины прямо в глазе нашем, в слухе нашем, в сегодняшнем нерве нашем, а не в тех остатках исторических нервов, которые мы носим в себе, как мочалку, всю почерневшую, всю злобную, полную отмщений не за наши времена и не за наших людей. Поменьше истории, и жить будет радостнее.
Розанов пошел домой по Казачьему переулку, меня сейчас повезут по московской. А если потом захочу выйти из гостиницы, должен дежурной сказать о целесообразном по-розановски маршруте.
Избавиться надо от чувства виновности.
И в первую очередь от идолов и призраков объяснения – совершить, если угодно, серию редукций, – я в библиотеке. Какова ситуация? – повеселевшая девочка-библиотекарша притихла перед экраном, пришло письмецо.
Но не отстает Розанов: вот чванились над всеми народами, никого не любили, хотя некоторым и льстили, но всех втайне души презирали, как не остроумных, не психологичных, не углубленных, без дара пророчества и прочих знаменитых даров Достоевского и Толстого. Где же такая остроумная комедия, как у Грибоедова, у кого такой же дар смеха, как у Гоголя в его «Душеньках». Не замечали, до чего обе пьесы грубы и бесчеловечны. Именно – бесчеловечны. Это – не красота души человеческой, это – позор души человеческой. Сказать ли, что народ, который мог вынести две эти пьесы, просто – не мог не умереть, не мог уже долго жить, и особенно – не мог благословенно жить. Это – именно погреб, мерзлый погреб. Это – ад. Ад – презрения, хохота, неуважения. Кто умеет так посмеяться над человеком, в том нет именно солнышка, в сущности – нет истории.
Совсем близкие московские колокола донесли звон до открытых окон.
– О чем хохочем, бесчеловечный тиран?
– Как тиран, я – православный, я крещен.
Ужасы, ужасы, ужасы. Но как все справедливо. Око за око.
Мы все вытыкали глаз другому, другим. Пока так ужасно не обезглазели.
Рядом с древними колоколами, страшно и неприятно было такое слышать, вовсе не к месту, не к вечеру, не к лицу. Поименованные ужасы в углу пустой библиотеки.
Да ведь если конец сущего представить себе как конец света в той форме, как он существует ныне, – звезды падут с неба, небосвод рухнет (или рассыплется, как листы книги), все сгорит, будет создано новое небо и новая земля как обитель блаженных и ад для грешников, то такой судный день, конечно, не может стать последним, ибо за ним последуют другие дни. Сама идея конца всего сущего ведет свое происхождение от размышлений не о физической, а о моральной стороне дела, – трансцендентальный Кант с душевным Розановым заодно.
Напали вдвоем на последнего посетителя.
И дева-библиотекарша смотрит: пора на свиданьице. Для молодой женщины я случайный планидник, гадатель, мужичок повиальный. Ведь только в консерватории роман молодой дамы и взрослого музыканта необходим – иначе, кто введет в музыку? Но от частых встреч-повторений родник горячий вытек, скукоживается плоть женская, вслед увянет мужская, – не встретиться в жарком соитии. И вера возненавидена, и кровь прольется. Истина рассасывается; какой-то почти неощутимый ползущий неостановимо сологубовский фантом-червяк проникает в нутро бедной девочки от злых чужих слов.
Даже вера выбледневает, как майская трава под кинутой на лужок каменюкой.
На войне неверующих нет?
Удивительно Розанов вывел, что в то время как в Ветхом Завете был Иов, в христианском мире не появлялся такой бунтарь веры никогда, были одни прохвосты. Каким-то образом были только люди вовсе не верующие, были люди в высшей степени недостойные, а потому отрицающие Христа.
Но чтоб человек с достоинством, не вольтерианец, не атеист либеральный отрицал Христа, чтобы он, так сказать, жаловался Христу на Христа, как Иов – Богу на Бога, то этого никогда не было. И как-то это странным образом – невообразимо.
Боже, отчего? Одна из тайн мира и христианской истории.
Но где эта история? И что я скажу? Для чего позвали и за что платят? Я лишь простой и отдаленный от тайн власти персонаж строки.
Но и тут удар Розанова: ведь, как ни страшно сказать, вся наша великолепная литература ужасно недостаточна и неглубока. Она великолепно изображает, но то, что она изображает, – отнюдь не великолепно и едва стоит этого мастерского чекана. ХVIII – это все помощь правительству, сатиры, оды – всё; Фонвизин, Кантемир, Сумароков, Ломоносов, – все и всё.
Да, хорошо…
Но что же, однако, тут универсального?
Все какой-то анекдот, приключение, бывающее и случающееся, – черт знает почему и для чего. Все это просто ненужно и неинтересно иначе как в качестве иногда прелестного сюжета для рассказа. Мастерство рассказа есть и остается: есть литература. Да, но как чтение? В сущности, все – сладкие вымыслы.
Неужели и сегодня русская история еще почти не начиналась?
И литература вся празднословие, почти вся.
Наверное, Розанов знал, что напишут и скажут о нем. Так ведь не люблю Розанова! – со следующий страницы газеты сообщает модный московский литератор Бычков. А кто его спрашивает? И осмотрительно: ведь мог бы, любя, пострадать. Розанов предупреждал: кто будет хвалить, высуну длань из гроба и дам по щеке. Вся наша русская философия – философия выпоротого человека? Столичному литератору меньше всего нравится считать себя выпоротым, пусть терпят провинциалы. Но есть же русская стихия – беспорывная природа Восточно-Европейской равнины. Вздох… Бог не может не отозваться на вздох. Произносится имя Бога, да только неизвестно когда.
Только не пишите ничего, не старайтесь: жизнь упустите, а написанное окажется глупость или не нужно.
Так, стало быть, не надо писать? Но тогда уже вслед Розанову:
– Зачем печатаете?
– Деньги дают.
Ни денег, ни славы, даже притих страх и трепет. И себя бы жалеть, но ведь не надо нисходить к слабостям.
Постоянно леплю из чужих слов собственного двойника.
От лучинки к лучинке.
– Анечка-библиотекарша, не выключай люстру в сто лучин! Пока горит, прочитаем еще на рубль.
– Сейчас, сейчас!
Отозвалась библиотекарша на призыв – закончилось проветриванье в библиотеке.
Звякнул телефон – на карту перечислена еще одна сумма. Я раньше столько получал за полгода службы.
Не видать ни зги – ни свечки, ни кочерги.
Розанов полагал себя выше людей, которые окружают. Он, если рядом никого не оказывалось, определял на роль двойника самого себя. Вроде не подражал никому, да ведь в мире, где есть откровение, всегда уже только подражание. И прежде всего, когда с ужасом отвергает всякую мысль о подражании.
А Президент кому подражает?
Розанов подтянул времена к точке-свечечке. Стремление прехождения: прошлого уже нет, а будущее не наступило. И нужно особое всматриванье… вслушиванье, обоняние-нюх. Сводить к свечечке все времена. Как будто бы есть какая-то особая надпротиворечивая логика – такой ход даст возможность проникать в тайны существования.









































