Текст книги "Цусима"
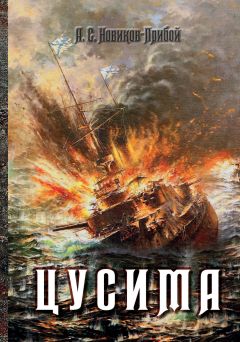
Автор книги: Алексей Новиков-Прибой
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 60 (всего у книги 64 страниц)
Эпилог
Восемь с половиной месяцев мы пробыли в плену и наконец дождались того счастливого дня, когда оставили кумамотские лагери. Мы были перевезены по железной дороге в портовый город Нагасаки, где уже поджидал нас пароход Добровольного флота «Владимир», пришвартованный к стенке. Наш эшелон сразу же разместился в его просторных, специально приспособленных для перевозки войск трюмах. Но пароход простоял в порту еще несколько дней, принимая живой груз до установленной нормы. Пассажирами были главным образом матросы и десятка два морских и сухопутных офицеров.
Россию мы оставили 2 октября 1904 года, а возвращались на родину в конце января 1906 года.
Царское правительство, чтобы задобрить нас, выдало нам во время нашей стоянки в Нагасаки береговое жалованье и морское довольствие за девять месяцев. Время, проведенное в плену, нам сочли за плавание. Каждый из нас располагал значительной суммой денег. На пароходе получили дубленые полушубки, валенки и папахи. Если не считать кормежки, это был последний и окончательный расчет с казной. Мы впервые почувствовали себя более или менее свободными людьми.
Город Нагасаки расположился на берегу длинной и широкой бухты, живописно изрезанной причудливыми фиордами и окруженной горными хребтами. У входа в нее, защищая от морских ветров, ощетинился пиниями крутоярый остров Катабоко. К городу примыкали громадные постройки домов и судостроительных верфей. Бухта шумела человеческими голосами, лязгала работающими лебедками, дымила многочисленными трубами коммерческих кораблей. Между крупными океанскими пароходами, стоявшими под флагами разных наций, проворно шныряли маленькие японские лодки – фуне. Каждая из них блестела крытой лакированной каюткой, каждая щеголяла приставным носом и была похожа на водоплавающую птицу с вытянутой шеей.
Против города, на северо-западной стороне Нагасакской бухты, среди скалистых взгорий, заросла зеленью деревня Иноса, хорошо известная русскому флоту. За много лет до войны русское правительство сняло здесь в аренду участок земли, на котором были устроены шлюпочный сарай, поделочные мастерские, госпиталь. Над этими постройками господствовало морское собрание, обслуживаемое любезной экономкой Амацу-сан. В нем были бильярдная и богатая библиотека, внутренние стены ее украшались портретами адмиралов и офицеров. На одном из холмов возвышалось двухэтажное здание под названием «Гостиница «Нева». В западном конце селения расположено кладбище для русских моряков. Офицеры называли Иноса русской деревней. Кто из них не мечтал попасть в нее! Там происходили азартные игры в карты и бесшабашные кутежи, там можно было жениться на молоденькой японке. Эти браки заключались по договору на тот период времени, пока корабль стоял в Нагасаки. Многие из наших офицеров оставили здесь свое потомство. Все это, конечно, давало японцам исключительный материал для изучения нашей организации военно-морского дела и нравов тех, с кем им предстояло в будущем воевать.
От каменной пристани, ступени которой спускались прямо в воду, город начинался европейскими гостиницами и ресторанами. Здесь, на широких улицах, наряду с японцами, наряженными в национальные костюмы – кимоно, встречались англичане, немцы, французы, русские, китайцы, негры. Слышался разноязычный говор. А дальше, за европейским кварталом, плотно прижались друг к другу японские домики, деревянные, легкие, не больше как в два этажа, причем верхний этаж приспособлен для жилья, нижний – для торговли. Передние стены магазинов на день раздвинуты, и можно, не читая вывесок, видеть, чем в них торгуют: черепаховыми изделиями, узорчатыми веерами, изящным японским фарфором, разноцветными шелками. Создавалось такое впечатление, как будто гуляешь не по узким улицам, а в павильоне и рассматриваешь выставку японской кустарной и фабричной продукции. Некоторые дома и храмы разбежались по горным склонам и зеленеющим холмам, придавая городу декоративный вид.

В японском плену
Рестораны, чайные домики и вертепы звенели японской или европейской музыкой. На ее волнующие звуки, возбуждаясь обманчивой радостью, шли иностранные моряки, прибывшие сюда из-за далеких морей и океанов, загорелые, обвеянные ветрами всех географических широт. Особенно разгулялись на радости некоторые русские, как офицеры, так равно и нижние чины, только что переставшие быть пленниками. Их можно было узнать издали: они орали песни, ругались и без всякой надобности, словно наступила для них Масленая неделя, разъезжали на рикшах.
Меня удивляли японцы. Я не встречал опечаленных и угрюмых лиц ни у мужчин, ни у женщин. Казалось, что они всегда жизнерадостны, словно всем им живется отлично и все они довольны и государственным строем, и самими собою, и своим социальным положением. На самом же деле японское население живет в большой бедности, но искусно скрывает это. Точно так же ошибочно было бы предположить, судя по их чрезмерной вежливости и любезности, выработанной веками, что они представляют собою самый мирный народ на свете.
Я с жадностью всматривался в разнобойную жизнь города, а мои мысли всецело были заняты одной японкой, той, что осталась в Кумамота.
Находясь в лагерях для пленных, я сдружился с японским переводчиком. Он великолепно говорил по-русски и очень любил нашу литературу. Мы иногда часами разговаривали о произведениях русских классиков и современных писателей. Это и сблизило нас. Он стал меня приглашать в город Кумамота к себе на квартиру. У него была сестра Иосие, девушка двадцати лет, маленькая, статная, с матово-нежным лицом и загадочным взглядом чёрных лучистых глаз. Любовь не считается ни с расовым различием, ни с войной, она развивается по своим собственным законам. Иосие, встречаясь со мной, сначала настораживалась, как птица при виде приближающегося охотника, но после нескольких свиданий у нас началось взаимное тяготение друг к другу. Я разговаривал с нею при помощи ее брата. А когда выяснилось, что она немного говорит по-английски, взялся и я за изучение этого языка. Первые слова и фразы, усвоенные мною, были, конечно, приветственные и, конечно, о любви. Но иногда, разгораясь и желая выразить свои чувства полнее, я говорил ей по-русски:
– О милая Иосие! На Севере, за полярным кругом, длится ночь три месяца. И когда человек после такого продолжительного времени увидит на несколько минут только золотой кусочек солнца, он приходит в невероятный восторг. Но с каждым днем небесное светило поднимается все выше, излучается все ярче. Такое же впечатление пережил и я, встретив тебя на своем жизненном пути.
Я подбирал для нее самые поэтические слова, какие только знал. Она, конечно, не понимала их смысла. Она только улыбалась маленьким ртом с пухлыми губами, блестя белизной мелких и немного кривых зубов. И призывно мерцали ее черные глаза, наискось подтянутые к вискам. Не понимал и я ее, когда она, откинув назад черноволосую голову с пышной прической, что-то быстро начинала говорить. Японцы не имеют в своем языке буквы «л» и заменяют ее буквой «р». Поэтому и Иосие, произнося мое имя «Алеша», говорила «Ареша». Но это почему-то особенно мило звучало в ее устах.
Брат Иосие не препятствовал нашей любви. А когда я ему сообщил, что хочу жениться на его сестре, он согласился и на это. Может быть, тут сыграло роль то обстоятельство, что она была сиротой. В Россию мне, как политическому преступнику, нельзя было возвращаться. При помощи эмигранта-народовольца доктора Русселя, приехавшего в Японию специально для того, чтобы снабжать пленных революционной литературой, я хотел вместе с Иосие уехать в Америку. Я знал, что в Японии мне придется бедствовать. А там, по ту сторону Великого океана, в стране Нового Света, я с такой милой подругой лучше устрою свою жизнь. Я основательно изучу английский язык, поступлю матросом на коммерческий корабль и буду наезжать в Россию как американский гражданин. И мне снова будет доступна родина для политической работы. Так рисовалось будущее, а молодость, опьяненная иллюзией счастья, не рассуждает о преградах, пока не ударится лбом о каменную стену.
Поздней осенью из России пришло в Японию известие об амнистии политическим преступникам. Это повернуло мою судьбу в другую сторону: я мог вернуться на родину. После долгих колебаний я решил расстаться с Иосие.
В последний день перед отъездом я пришёл к ней проститься. Она встретила меня сияющей улыбкой и показалась мне особенно привлекательной в синем шелковом кимоно, с широким узорчатым бантом на спине. Я заранее запасся фразами из японского и английского самоучителей и с трудом объяснил ей, что уезжаю в Россию, а так как там революция, то не могу ее взять с собою. Вздрогнули ее узкие плечи, она взмахнула широкими рукавами кимоно, словно хотела вспорхнуть, но осталась на месте. На черные блестящие глаза, как занавески, опустились веки с бахромой густых ресниц, скрывая в узких щелях навернувшиеся слезы. Вдруг она повернулась ко мне и, заговорив что-то по-японски, быть может, проклиная нашу первую встречу, смотрела на меня то умоляюще, то с ненавистью. Потом бросилась ко мне на шею.
– Ареша! – прозвучал ее гортанный голос, обжигая сердце.
Маленькая и легкая, она была сильна своей фигурой, улыбкой, лучистыми глазами и всем своим обликом. Она опутала мою волю, как лианы дерево. Наше прощание превратилось в невыносимую муку. Уходя от нее, я словно оборвал живую ткань в своей груди.
Теперь я находился от Иосие далеко, на шумных улицах Нагасаки, а в моем сознании все еще звучала не допетая до конца песня любви.
Неожиданно к нам на пароход «Владимир» заявился инженер Васильев. Он поселился в каюте. Мы часто встречались с ним: то мы приходили к нему, то он спускался к нам в трюм. С жадностью мы слушали, когда он рассказывал о том, что за последнее время происходит в России.
Однажды вечером мы засиделись у него в каюте. Речь зашла об адмиралах. Он виделся с Рожественским.
– Ну, как поживает герой Цусимского боя? – спросил боцман Воеводин, раскрасневшись от выпитого чая.
Васильев оживленно заговорил:
– Вылечился от ранений, но остался все таким же суровым, каким был раньше. И вот что удивительно: он убежден, что во время Цусимского боя нас подстерегала и английская эскадра, будто бы стоявшая у Вейхайвея. Ей было дано задание – быть наготове и в случае нашей победы над японцами напасть на нас в море.
– Неужели это могло быть? – удивился я, вопросительно глядя в лицо рассказчика.
– Такая глупость простительна гальюнщику, а не адмиралу, – иронически улыбаясь, ответил Васильев[48]48
Более полугода спустя после боя эту дикую мысль Рожественский не постеснялся выразить даже в печати, возражая на статьи Кладо:
«…адмирал союзного японцам английского флота, сосредоточивший свои силы у Вейхайвея, в ожидании приказа истребить русский флот, если бы эта конечная цель Англии оказалась не под силу японцам».
(«Из письма в редакцию», газета «Новое время» от 21 декабря 1905 г., № 10693.)
[Закрыть].
Он пододвинул к нам печенье и продолжал:
– Между прочим, у меня с ним вышло столкновение. До адмирала дошел слух, что я читаю перед офицерами разоблачающие доклады о Цусиме. Через своих штабных чинов он хотел было переманить меня на свою сторону и приголубить, но это ему не удалось. Я не явился к нему. Адмирал затаил против меня злобу. А когда один из офицеров донес ему, что я знаком с доктором Русселем и получаю от него революционную литературу, Рожественский вызвал меня к себе уже официально. Я пришел к нему в штатском платье. Мой независимый вид сразу вызвал в нем приступ раздражения. Он даже не мог говорить. Только пригрозил мне крепостью, если я вернусь в Петербург.
– Очевидно, Рожественский думает выйти сухим даже из такой глубокой воды, как Японское море, – вставил я.
– Вот именно, – засмеялся Васильев. – Меня-то он не испугал, но многие из морских офицеров все еще побаиваются его. Для запугивания их очень остроумный маневр придумал приверженец адмирала капитан второго ранга Семенов. Он усиленно распространял слух среди пленных офицеров, что Рожественский опять будет начальником Главного морского штаба. Все это делалось для того, чтобы никто не посмел разоблачать действия командующего эскадрой…
Из дальнейшей беседы с Васильевым выяснилось, что если бы 2-я эскадра достигла Владивостока, то Рожественский отказался бы командовать ею, считая себя больным. Об этом он задолго до Цусимского сражения сообщил телеграммой в морское министерство. На его место был назначен вице-адмирал Бирилев. Это был очередной ставленник царского трона. Он должен был продолжать дело Рожественского и со славой добыть победу империи на Востоке. С такой установкой он 12 мая покидал столицу. Весь державный Петербург собрался на вокзале и с большой помпезностью провожал Бирилева со штабом на Дальний Восток. Из Петербурга и Кронштадта на Знаменскую площадь и на платформу вокзала стеклась масса моряков, адмиралов, капитанов, молодых офицеров. Тут же присутствовали великосветские и морские дамы. Бирилев был бодр и энергичен на вид, он оживленно прощался с нарядной сановной публикой, исступленно ему кричавшей: «Ура!» Дамы подносили адмиралу роскошные букеты цветов, некоторые из них его благословляли иконами. На глазах провожавших выступали патриотические слезы умиления. Всеобщие пожелания победы хором неслись вслед поезду, отходящему в дальнюю дорогу за славой. В то время, когда мы переживали страшную катастрофу при острове Цусима, новый командующий вместе со своим штабом мчался во Владивосток. В салон-вагоне адмирал мечтал, как перед Золотым Рогом на горизонте появятся победоносные корабли вверенных ему морских сил. Он прикидывал в уме, сколько из тридцати восьми вымпелов 2-й эскадры останется в его распоряжении. Бирилеву мерещилось, как он, вступив в командование 2-й эскадрой, будет громить японцев на море, а это даст возможность и нашим сухопутным войскам перейти в наступление. И сколько новых орденов прибавится к той обширной коллекции, какую он уже имел на своей груди! Может быть, в его мечтах уже сверкала и золотая сабля, какую подарит ему царь за блестящую победу. Слава о нем как о гениальном флотоводце прогремит на весь мир. Но каково же было его разочарование, когда вместо эскадры прибыли во Владивосток только три судна: миноносцы «Грозный» и «Бравый» и ничего не стоящий в боевом отношении, переделанный из бывшей яхты наместника Алексеева крейсер 2-го ранга «Алмаз». Бирилеву пришлось срочно возвратиться на экспрессе в Петербург.
Васильев в заключение добавил:
– Вы все знаете, как слаба была наша эскадра в своей материальной части. Ответственность за это должен был нести вместе с другими воротилами и Бирилев. Но его не отдали под суд. Мало того, этот морской жук ухитрился пролезть в морские министры. Так могло случиться только в условиях русской действительности.
Перед самым отходом «Владимира» инженер Васильев через вестового вызвал меня к себе в каюту. Когда я пришел к нему, он спешно укладывал свои вещи в чемодан. Я спросил:
– В чем дело, Владимир Полиевктович? Куда вы так торопитесь?
– Положение изменилось. Придется мне расстаться с вами. Дело в том, что офицеры получают прогонные деньги здесь, в Нагасаках. Каждому из нас предоставлено право возвращаться на родину самостоятельно. Многие выбрали себе водный маршрут – Индийским океаном. Воспользовался и я этим случаем. Я прямо из Японии пароходом махну через Тихий океан в Северную Америку. Потом пересеку Атлантику. Таким образом завершится мой путь вокруг земного шара.
– Подвезло вам! – воскликнул я.
Васильев, передавая мне клочок бумаги, исписанный его твердым почерком, сказал:
– Вот вам адрес моего отца. Передайте его надежным товарищам и от них возьмите для меня адреса. Пишите. Мы не должны терять друг друга из виду. А теперь идите и соберите в трюме товарищей. Я только получу расчет и сейчас же спущусь к вам.
– Есть.
Все было сделано, как наказал Васильев. Мы собрались на одной из палуб носового трюма. Из орловской команды были кочегар Бакланов, машинный квартирмейстер Громов, машинист Цунаев, трюмный старшина Осип Федоров, фельдфебель Мурзин, боцман Воеводин, гальванеры Штарев, Голубев, Алференко и много других. Инженер Васильев сообщил нам последние новости о России, почерпнутые им из английских газет. Потом на основании фактов начал рисовать перед нами картину событий, происходивших на родине. Все это очень волновало нас. Я смотрел на него и удивлялся, как все на нем было великолепно прилажено: и темно-синий костюм, и белый накрахмаленный воротничок с черным галстуком, повязанным бантиком, и начищенные до блеска желтые ботинки. Такой же аккуратностью он отличался во всех своих мыслях и поступках. Каждая его фраза была четкая и ясная, словно он читал ее по книге. Заговорив о Цусимском сражении, он главным образом старался вскрыть причины нашего поражения. Эти причины давно были мне известны. Подытоженные и закрепленные в памяти, они стояли перед глазами, словно напечатанные жирным шрифтом на бумаге.
Наша эскадра была почти в два раза слабее японского флота. Но не в этом только была основная причина ее гибели. Из русской военно-морской истории можно было бы привести бесчисленные примеры того, когда технически слабые и малочисленные отряды русских моряков все-таки наносили поражение противнику. Но я ограничусь лишь одним малоизвестным случаем, характеризующим русских моряков. 23 июня 1773 года в морском бою у Балаклавы два русских корабля «Корона» и «Таганрог», вооруженные тридцатью двумя пушками, наголову разбили турецкий флот, состоявший из двух больших кораблей по пятьсот две пушки в каждом и двух шебек с пятьюдесятью пушками. Русскими командовал опытный голландец – капитан 1-го ранга Иоган Генрих ван Кинсберген. Восторгаясь храбростью русских моряков, он оставил в своих мемуарах знаменательную запись: «С такими молодцами я бы самого дьявола выгнал из ада».
При Цусиме было немало отважных и опытных командиров, но их ценная инициатива никак не была использована, хуже того – она была связана бездарным командованием. И вообще наша эскадра была совершенно не подготовлена к серьезному бою. И только безумное правительство могло послать ее в такой дальний путь навстречу сильнейшему врагу.
Организация службы у нас никуда не годилась.
Мы не умели маневрировать и лишь кружились во время боя на одном месте, как очумелые, давая возможность противнику безнаказанно нас расстреливать.
Не говоря уже о том, что наша эскадра состояла из разнотипных судов, представлявших собою смесь музейных редкостей, мы новейшие и быстроходные корабли поставили в одну колонну со старыми тихоходными и тем самым уменьшили их скорость до девяти узлов.
Перегруженные, наши броненосцы настолько ушли бронированными частями в воду, что перестали быть броненосцами, а неубранные с них шлюпки и дерево, деревянная отделка кают и мебель служили пищей для пожаров, причинивших нам много бедствий.
Взятые с собою ненужные транспорты только стесняли движение боевых судов.
У японцев в каждой башне, в каждом каземате имелся дальномер, а у нас их только было по два на корабль. И вся наша артиллерия с плохо воспламеняющимися трубками, с неразрывающимися снарядами, с неверными таблицами, с негодными башнями, с плохо оборудованными и неосвоенными оптическими прицелами, с необученными комендорами была совершенно безвредна для противника[49]49
Почему наши снаряды не разрывались? После Цусимского боя этот вопрос многих интересовал, и все были убеждены, что главное зло заключалось в снарядных трубках. Эту версию усиленно проводило морское министерство. На самом же деле причина была другая. Вот какое объяснение дал по этому поводу знаток военно-морского дела, наш знаменитый академик. А. Н. Крылов:
«Кому-то из артиллерийского начальства пришло в голову, что для снарядов 2-й эскадры необходимо повысить процент влажности пироксилина. Этот инициатор исходил из тех соображений, что эскадра много времени проведет в тропиках, проверять снаряды будет некогда, и могут появиться на кораблях самовозгорания пироксилина. Нормальная влажность пироксилина в снарядах считалась десять-двенадцать процентов. Для снарядов же 2-й эскадры установили тридцать процентов. Установили и снабдили такими снарядами эскадру. Что же получилось? Если какой-нибудь из них изредка попадал в цель, то при ударе взрывались пироксилиновые шашки запального стакана снарядной трубки, но пироксилин, помещавшийся в самом снаряде, не взрывался из-за своей тридцатипроцентной влажности. Все это выяснилось в 1906 году при обстреле с эскадренного броненосца «Слава» взбунтовавшейся крепости Свеаборг. Броненосец «Слава», достраиваясь, не успел попасть в состав 2-й эскадры, но был снабжен снарядами, изготовленными для этой эскадры. При обстреле со «Славы» крепости на броненосце не видели взрывов своих снарядов. Когда крепость все же была взята и артиллеристы съехали на берег, то они нашли свои снаряды в крепости почти совершенно целыми. Только некоторые из них были без дна, а другие слегка развороченными. Об этом тогда было приказано молчать».
[Закрыть].
Спайка между верхами и низами наладилась кое-как лишь перед самым боем, вызванная общей опасностью, а до этого весь организм эскадры разъедался острой классовой ненавистью, которую точно не замечало начальство.
Для прорыва во Владивосток ни в коем случае нельзя было идти Корейским проливом, где у японцев были расположены главные базы для морских сил.
Эскадра, приближаясь к острову Цусима, не предпринимала никаких разведок и совершенно игнорировала противника, словно мы шли на парад.
Не только командиры судов, но и младшие флагманы, контр-адмиралы не были заранее осведомлены о стратегической и тактической обстановке предстоящего боя. Никто из начальников не знал, какие оперативные планы были разработаны командующим эскадрой Рожественским, а многие даже сомневались, имелись ли вообще у него какие-либо планы. Это был исключительный случай в истории морских войн[50]50
В следственной комиссии контр-адмирал Небогатов показал:
«Никакого плана боя или указаний относительно ведения его не было; вообще, какие намерения имел Рожественский – это было для меня неизвестно».
(«Действия флота», документы, книга 3-я, выпуск IV, стр. 50.)
Из показаний контр-адмирала Энквиста:
«О предстоящих военных операциях во время нашего перехода вопрос не возбуждался: как я, так и мои командиры не были посвящены в планы командующего. Мнения нашего также не спрашивалось… Я совершенно не знал, куда мы направляемся и с каким расчетом».
(Там же, стр. 62.)
Из показаний флаг-капитана штаба командующего эскадрой, капитана 1-го ранга Клапье-де-Колонга:
«Я был занят механической работой – проводить в жизнь все приказания и распоряжения адмирала, а их было так много, что я не имел возможности задумываться над планами, если бы таковые и были».
(Там же, стр. 79.)
А вот что сам Рожественский показал:
«Собрания же флагманов для обсуждения детально разработанного плана сражения не было, потому что не было и самой разработки».
(Там же, стр. 16.)
[Закрыть].
Выяснилось еще и то, что в продолжение пяти с половиной часов дневного боя, когда решалась участь сторон, никто из адмиралов эскадрой не командовал. Ею руководили случайные офицеры, оставшиеся неизвестными, а иногда и матросы. Такую нелепую эскадру могла бы разбить любая страна, выставив против нее равную силу.
Достаточно было одной из перечисленных причин, чтобы привести 2-ю эскадру к поражению. Все же вместе взятые, они привели ее к полному разгрому. Многим матросам все это стало известно сейчас же после сражения. Но теперь от инженера Васильева мы узнали о новых фактах. Больше всего он удивил нас сравнительной таблицей артиллерийского огня:
– Вот какое число выстрелов делала та и другая сторона в одну минуту: русская эскадра – сто тридцать четыре, японская эскадра – триста шестьдесят. Выбрасывала металла в одну минуту русская эскадра двадцать тысяч фунтов, японская эскадра – пятьдесят три тысячи фунтов. Что же касается взрывчатого вещества, каким начинялись снаряды, то разница получается почти невероятная. Русский двенадцатидюймовый снаряд заключал в себе пятнадцать фунтов пироксилина, японский такой же снаряд – сто пять фунтов шимозы. Русская эскадра выбрасывала взрывчатого вещества в одну минуту пятьсот фунтов, японская – семь тысяч пятьсот фунтов. Но и это, товарищи, не все. Сама шимоза как взрывчатое вещество значительно сильнее пироксилина.
Васильев окинул своих слушателей взглядом, как бы проверяя, какое впечатление произвели на них сообщенные данные, и продолжал:
– Какие же, товарищи, мы должны сделать из этого выводы? Россия с ее феодальными порядками, с ее глубочайшими язвами деспотического строя не выдержала экзамена на поле брани. Она слишком для этого одряхлела. Капиталистическая Япония, обновленная реформами, сбила военную заносчивость с наших адмиралов и генералов. Кто виноват в нашем поражении? Виновата вся государственная система. Ведь Цусима для нас оказалась не только в Корейском проливе. Нет, ее в достаточной степени испытали и на сухопутных фронтах. Может быть, не так ярко, но Цусима проявлялась и на железных дорогах, и на заводах, и в кораблестроении, и в области просвещения, и во всей нашей придавленной и бестолковой жизни. Но пусть Япония не очень бряцает оружием. Она победила не трудовой народ, а его разложившееся и всем опостылевшее правительство. Второй такой победы она не дождется, если у власти станут представители другого класса. А пока что Япония сыграла нам только на руку. Она открыла глаза на действительность даже самым малограмотным людям. Наше счастье в том, что солдаты повернули свои штыки и ружья в обратную сторону – против тех, кто послал их на бессмысленную смерть. Война закончилась революцией. Нас, переживших Цусиму, ничем больше не устрашишь…
Загудел пароход, давая знать, что готов к отходу.
Васильев не мог больше говорить и, взяв от меня адреса товарищей, полез по трапу, сопровождаемый аплодисментами сотен людей. Спустя несколько минут он с чемоданом в руке вышел из своей каюты на верхнюю палубу. Едва он успел сойти на стенку гавани, как начали отдавать швартовы.
Пароход «Владимир» вышел в открытое море и взял курс на Владивосток. Крепчал северный ветер, вспенивая, как молодую брагу, волны. Серыми бесформенными стаями неслись на юг облака.
Я в одиночестве долго стоял на юте. Несмотря на стужу, мне не хотелось уходить вниз. В последний раз я смотрел на удаляющиеся возвышенности Нагасаки. Быть может, никогда уже больше мне не придется побывать в этой стране вечной зелени, цветущих хризантем, танцующих гейш, в стране настолько же улыбчивой, насколько и загадочной.
Угасал день. Берега Японии теряли свои очертания, сливаясь с дымчатым небосклоном. Далеко позади нас заботливо вспыхивал проблесковый маяк.
Прозябший, я спустился в твиндек, в шум человеческих голосов. Разговаривали о семьях и любовницах, о войне и революции. Весело наигрывала гармошка, звуки которой сопровождались чьим-то залихватским посвистом. Несколько человек пели частушки.
Поодаль от певцов и гармониста обособленно сгрудилась большая группа матросов. Они тесно навалились друг на друга и старались ближе придвинуться к флотскому унтер-офицеру. Опираясь на костыль, он что-то рассказывал им, а слушатели, вытягивая шеи, казалось, ловили каждое его слово. Некоторые из них кому-то угрожали.
Я подошел к этой группе. Теперь мне хорошо был виден говоривший, высокий горбоносый человек лет двадцати семи, с деревяшкой вместо левой ноги. Огромное тело его было тощее и жилистое, но в нем чувствовались крупные и крепкие кости. Вся его фигура ходуном ходила, то порываясь вперед, как бы наступая на слушателей, то откидываясь назад. Он был сильно возбужден. Большие серые глаза его в густых ресницах были воспалены, и они, оглядывая людей, катались, как блестящие шары. Звучно и резко, как удары колотушки, чеканил он свою речь:
– Вот как все обернулось наоборот. Заклятые враги стали на защиту русских адмиралов и офицеров. Живо стакнулись…
Кто-то перебил его:
– А что у тебя с ногой? Снарядом, что ли, оторвало?
– Да нет, только осколком сильно кость повредило. Из-за ноги я попал к вам на «Владимир». Нас, больных, вместе с порт-артурцами раньше всех начали возвращать из плена. Посадили на пароход «Воронеж». А тут и произошла заварушка с адмиралом Рожественским, чтобы его черт подрал с головы до пяток. И началось то, о чем я вам рассказывал. А я еще больше заболел, и меня направили в русский морской госпиталь, что находится в Нагасаках. Полноги отхватили. Здесь еще двое с «Воронежа» едут со мною. Они тоже в госпитале со мною были.
Инвалид меня очень заинтересовал, и я в тот же вечер встретился с ним наедине. Он назвался строевым квартирмейстером Кузнецовым. С большим вниманием я выслушал его исповедь о том, как он стал революционером. До войны и в самом начале ее Кузнецов был исполнительным и надежным унтер-офицером. На него не действовали ни речи агитаторов, ни запрещенная литература, распространяемая среди матросов подпольщиками. Его сделали революционером адмиралы и генералы, приводившие наши войска и флот только к поражениям. А он, как патриот родины, страдая от неудач на войне, пришел к убеждению, что высшее командование не сумело направить героизм русских матросов и солдат к победам. Это до крайности его возмущало. Негодуя на верхушку, он постепенно дошел до ярой ненависти против всего царского режима.
К нам приблизились двое его товарищей, которые вместе с ним задержались в госпитале и теперь ехали на «Владимире». Я перевел разговор на другую тему и с нетерпением начал всех троих расспрашивать об удивительном событии на пароходе «Воронеж». То, что они рассказали, впоследствии подтвердили мне и некоторые революционно настроенные офицеры. Из бесед с этими офицерами я выяснил и другие факты, какие не могли быть известны матросам. В общем, очевидцы восстановили передо мною события на «Воронеже» со всеми подробностями.
После ратификации мирного договора между Россией и Японией адмиралу Рожественскому и всем пленным командирам кораблей было дано через французского консула разрешение из Петербурга: «возвращаться по способности». Они могли, не дожидаясь русских судов, выехать немедленно на любом иностранном пароходе кружным путем через Европу. Но, боясь всесветного позора и корреспондентов иностранных газет, адмирал отказался воспользоваться этим разрешением. Он ждал до тех пор, пока в Токио не приехала для приема пленных комиссия, возглавляемая генерал-майором Даниловым. Эта комиссия проследовала через город Киото, где находились Рожественский и чины его штаба, и не только не заехала, но даже никак не адресовалась к ним – ни по почте, ни по телеграфу. Адмирал был возмущен таким пренебрежением и сильно нервничал. И все же пришлось ему обратиться к Данилову с просьбой отправить его во Владивосток с первым русским пароходом. Просьба была уважена. Рожественский со своим штабом, адмирал Вирен с флаг-офицером и один из сухопутных генералов сели на прибывший в Кобе пароход Добровольного флота «Воронеж». На этом же пароходе возвращались из плена человек пятьдесят офицеров и около двух с половиной тысяч нижних чинов. Тут были матросы и солдаты. 3 ноября «Воронеж» вышел из Кобе. В трюмах парохода было тесно и душно. Люди поднимались на верхнюю палубу и располагались на ней от носа до кормы. Даже довольно свежий норд-ост не мог их разогнать. Здесь дышалось легко, а главное – радостно было сознавать, что кончилось длительное томление плена. Казалось, что первое время у всех было только одно желание – скорее попасть в русский порт. Из огромнейшей трубы вываливались клубы черного дыма, под кормою напряженно вращались гребные винты, сокращая расстояние до родной земли.
Адмирал Рожественский чувствовал себя бодро. Его раны, полученные в Цусимском бою, заживали, спаленная борода отросла. Обласканный в плену телеграммой царя, он возвращался в Россию с надеждой, что ему опять предоставят высокий пост начальника Главного морского штаба.
В штатском пальто и шелковой шапочке, какую носят профессора, он вышел погулять на полуют. Но здесь и началось то, о чем говорил квартирмейстер Кузнецов. Раньше, до Цусимы, матросы и солдаты при виде адмирала моментально вскочили бы и, вытянувшись в струнку, замерли бы на месте. А теперь одни небрежно стояли, другие сидели в разных позах, некоторые, раскинувшись, просто валялись на палубе. Ни один из них не отдал ему чести и не проявил никаких признаков боязни, точно это был такой же нижний чин, как и все остальные.
Рожественский сразу потерял хорошее настроение, вскипел и, потрясая кулаками, заорал:
– Убрать отсюда этот грязный сброд! Сейчас же, немедленно! Чтобы ни одной скотины не было здесь…
И, не дожидаясь судового начальства, он сам бросился на тех, кто сидел или лежал на палубе, и стал их расталкивать пинками. Адмирал проделал это с такой верой в свое могущество, как будто не было в его жизни ни «гулльского инцидента», ни Цусимы, ни позорной сдачи в плен врагу без единого выстрела. По-видимому, несмотря на революцию и полный свой провал как командующего, он сознавал себя все тем же властным начальником, каким был раньше. Для матросов и солдат это было совершенно неожиданно и, может быть, поэтому подействовало на них ошеломляюще. Беспорядочной толпой они хлынули к носу, моментально очистив весь полуют. А когда на его крик появились судовые офицеры, он, глядя на них исподлобья, буркнул:
– Слюнтяи, а не начальники. Распустились с революцией.
И ушел к себе в каюту, которую уступил для него командир судна капитан 2-го ранга Шишмарев.
Возможно, что после этого случая Рожественский был доволен собой. Его власть, возымевшая такое действие на массы, еще не утратила своей силы. Но он не предполагал, что люди за время войны и плена изменились и что не каждый раз ему удастся достигнуть такого эффекта. В Порт-Артуре они узнали, с каким тупоумием, дрожа за свои жизни, управляло ими высшее командование. Адмирал Алексеев, генерал Стессель и другие царские ставленники не воевали, а только порочили славу русского оружия! Это по их вине пала крепость и погибли корабли. По их вине десятки тысяч товарищей, бесплодно сражаясь, остались на вечный покой на морском дне и в братских могилах. По их вине торжествует враг. Матросы и солдаты узнали все и про самого Рожественского. А за время пребывания в плену революционеры и нелегальная литература еще более пробудили их сознание.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































