Текст книги "Оно"
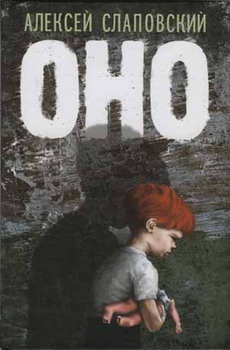
Автор книги: Алексей Слаповский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
15.
Вернулись, занялись продажей. Дело шло хорошо. На каждой паре джинсов наваривали минимум рублей сорок, на каждом диске – червонец. Диски, помнится, были польского литья и относительно дешевые, битловский «Белый альбом», двойной, шел всего за семьдесят рублей. Вспомним при этом, что стипендия в вузе была сорок рублей, зарплаты молодых специалистов начинались со ста двадцати, а кто по выслуге и должности получал около двухсот, считалось – кум королю.
Торговлю вел преимущественно Сотин – он ничего не боялся, рассчитывая, что в случае чего папаша выручит (тот очень удачно лечил именно в это время сына начальника областного УВД от наркомании; наркоман – тогда звучало очень экзотично). Но и Валько бралось – когда точно знало, кто клиент не из университета и вряд ли может его узнать. У него получалось не хуже, чем у Сотина, даже, возможно, и получше: Сотин слишком уж веселился, слишком при этом напирал, это выглядело подозрительно, Валько же играло другую игру: дескать, продаю собственные, последние, сам бы носил, но страшно деньги нужны. Поэтому попытки торговаться вызывали у него испуг и муку, клиенту становилось его поневоле жалко. Сотин хвалил, хлопал по плечу:
– Ты прирожденный жулик, брат!
Валько быстро заметило, что получает удовольствие от увеличения количества денег. А удовольствие – это хорошо. Что и требовалось доказать.
Это было неплохое время. Если Валько и не обрело самого себя, то хотя бы нашло друга. То есть тем самым как бы и обрело себя – взяв его за пример, подражая ему.
И вот Валько обокрали.
Этого следовало ожидать: столько людей проходит, поди разбери, у кого особо цепкие глаза, кто слишком внимательно смотрит, откуда достают джинсы и диски, какие запоры на двери, как закрывается окно.
Через окно и залезли: с навеса над подъездом соседнего дома, по газовой трубе, хлипкую форточку выбили, дотянулись до шпингалетов окна, спокойно открыли. Унесли все, что нашли. Собственно, все и нашли, включая деньги. Деньги были Валько, а вещи – общие.
Валько обнаружило это вечером, вернувшись после занятий и общественных дел. Приняло случившееся очень легко, даже удивившись своему спокойствию. Конечно, не так уж карнавально легко, чтобы считать это просто новым развлечением и приключением, но – без трепета, поняв, насколько оно в действительности равнодушно к деньгам и вещам.
В квартире старухи телефона не было, Валько пошло звонить Сотину из автомата. Купило две бутылки вина (хорошо, что носило с собой некоторое количество денег, не все оставляло дома), небольшой торт, вернулось домой, заварило чай и ждало Сотина с улыбкой, готовясь вместе посмеяться над происшествием.
Однако Сотин не настроен был смеяться. Он бросился искать: может, не все сперли, может, что-то осталось? Кричал:
– Твою мать, думать надо было или нет? Я сколько раз говорил? Замок на двери – пальцем открыть можно! (Рылся в старухином комоде). Сидит – радуется! Чего ты радуешься? На мои деньги куплено, между прочим! (Залез под кровать). Твоих только четвертая часть, а то и меньше! Платить будешь, ты понял? Я серьезно говорю! (Сорвал с постели одеяло, перевернул матрац). Без шуточек! А не заплатишь – завтра твоя комсомольская пи...братия о тебе все узнает! Вылетишь на хрен за аморалку[11]11
Аморалкой назывались грехи, за которые действительно могли исключить не только из комсомола, но и из вуза: пьянство (если попадешься), фарцовка (опять же, если уличат), половая распущенность в особо циничной и откровенной форме; сейчас студентам легче, ни пьянство, ни коммерческая деятельность, ни сексуальные подвиги не преследуются, лишь бы человек учился (или – лишь бы платил за обучение).
[Закрыть], я серьезно говорю! Ты понял, нет? Из комсомола своего ...бучего и из университета вообще! (Открыл антресоль над дверью, кидал оттуда на пол всякий хлам). Слушай, а может, ты пошутил? А? Пошутил, да?
В глазах Сотина засветилась надежда. Жалкая и одновременно одухотворенная. Гораздо более одухотворенная, чем тогда, когда он говорил о Фрейде, Ницше и тайнах человеческой души.
Валько усмехнулся:
– Это всего лишь карнавал.
– Что карнавал? Пошутил, да? Признавайся, зараза!
– Да нет, не пошутил.
– Тогда так, – окончательно озлился Сотин. – Чтобы через неделю отдал мне деньги за вещи, понял? Я у отца взаймы взял, ты соображаешь или нет? Через неделю, максимум через две!
– Где я возьму?
– А меня не волнует! Ты виноват? Виноват. Поэтому меня не волнует, понял?
– Дерьмо ты, оказывается, – грустно сказало Валько.
– Само собой! – не отрицал Сотин. – А ты бы кто был в такой ситуации? Не дерьмо?
– Нет! – сказало Валько.
И не сдержалось, заплакало.
– Не надо! – закричал Сотин. – Все мы психастеники, я сейчас тоже рыдать начну – запросто! Через неделю чтобы были деньги, понял меня?
– Я попробую... Не знаю... За что ты так со мной? Я тебя другом считал!
– Считал он! И я тебя другом считал, а ты меня без штанов оставил! Это по-дружески, да?
Валько плакало – сладостно. Горько утратить друга, но как зато приятно испытывать то же, что испытывают нормальные люди при утрате друга. Да и не такой уж он друг, если вдуматься. Но, с другой стороны, лучше иметь такого друга, чем никакого: одному очень плохо в этом мире, очень.
Тут появился Салыкин – с девушкой, с гитарой, с вином. Увидел плачущего Валько, злого Сотина, начал расспрашивать.
– Не лезь не в свое дело! – огрызнулся Сотин.
– Обокрали меня, – всхлипывая, сказало Валько. – Вещи украли, деньги... Он требует вернуть... Заплатить за вещи...
– Сосем личико потерял, Саша! – сказат Салыкин, уже выпивший и добрый. – Валь, ты не отдавай ему ничего. Он мерзавец. Саш, ты мерзавец, как друг тебе говорю.
– Мерзавец, мерзавец, а деньги пусть только попробует не отдаст!
– А что ты сделаешь?
– А то!
Сотин отвернулся.
Валько пожаловалось, что Сотин грозит комсомолом и вычисткой из университета.
Салыкин помрачнел.
– Ты можешь это сделать? – спросил он Сотина.
– А пусть не нарывается! Пусть хотя бы половину отдаст, а еще половину через месяц – тогда не трону.
– Подержи, – протянул Салыкин гитару девушке, хотя мог просто ее поставить или положить (тоже не без карнавальных эффектов действовал). Встал перед Сотиным.
– Саша, ты меня знаешь. Могу ударить.
– Да пошел ты!
Сотин не стал дожидаться удара и убрался, на прощание крикнув:
– Я сказал – неделя! Иначе пеняй на себя, понял?
Салыкин утешил Валько:
– Не грусти. Он сволочь, конечно, но не до такой степени. Будет ныть, надоедать, но стучать не станет. Он вообще очень робкий. Поэтому и в психиатры пошел. Ну, как мальчик, который темноты боится и специально идет в темную комнату. Хорошо сказал? – спросил он девушку.
– Хорошо.
– А поцеловать за это?
Девушка посмотрела на Валько.
– При нем можно, он мой друг.
Девушка поцеловала Салыкина.
16.
Салыкин оказался прав: Сотин не осмелился преследовать Валько. И даже не ныл, не надоедал, не приходил вообще. Смирился, наверное. Или остыл. Может, даже и стыдно стало. Валько вскоре собрало некоторую сумму, позвонило Сотину, назначило встречу. Не у себя дома и не у него – на улице, в чужом пространстве. Чтобы подчеркнуть отчужденность теперешних отношений. Передало Сотину конверт с деньгами:
– Тут половина, больше не получишь. Потому что – общий убыток. Я и этого мог бы не отдавать. Отдаю знаешь за что? За удовольствие больше тебя никогда не видеть!
Валько предполагало, что это прозвучит эффектно, но Сотин даже не обратил внимания на его слова – сунул в конверт пальцы и, то и дело поглядывая по сторонам, считал деньги, деловито шевеля губами. Никакого карнавала, сосредоточенность. Валько стало противно, оно ушло, не дожидаясь конца подсчета.
Сотин исчез из его жизни (как потом оказалось – не навсегда), а Салыкин начал посещать регулярно. Часто – с девушками. Он любил девушек. Но любил и выпить. Любил также петь под гитару свои песни. И все эти увлечения были у него в постоянном противоречии: от природы довольно застенчивый, он, чтобы легче было общаться с девушкой, выпивал. Выпив же, начинал петь песни, но то и дело забывал слова, откладывал гитару, чтобы взяться за девушку, но хотелось еще выпить. Выпивал – и уже было не до девушки. Впрочем, текстов своих песен он не помнил и в трезвом виде. Когда признанный поэт филфака Болотцев читал со сцены на факультетском вечере длиннейшее стихотворение размером в поэму, Салыкин сказал с добродушной завистью: «Надо же, наизусть дует!» Он признавался, что для него слишком трудно сочетать пение и игру. «Аккорды помнить, да еще слова помнить – морока. Я не могу два дела одновременно делать, у меня, наверно, полушария не сбалансированы». Потом нашел выход: напечатал на пишущей машинке тексты, вклеил их в толстую тетрадь вроде конторской книги и начал петь с листа. С девушками же так: зная, что после двух стаканов вина или стакана водки ему будет не до них, он спешил их обольстить (и достиг, несмотря на застенчивость, большого мастерства в этом деле), а уж потом, освобожденный, мог с полным удовольствием пить и петь. Из этого Валько сделало вывод, что питье и пение Салыкину – для удовольствия, а девушки скорее для тщеславия. Ну, и просто – нужда.
Больше того, Валько увидело в нем – с понятным интересом – неосознанное стремление к бесполости. Либидо, говоря словом Сотина, которое он часто повторял, для Салыкина было докукой, недаром же он любил рассказывать байку, которую ему в свою очередь рассказывал его отец, актер драмтеатра, впоследствии чтец-декламатор при филармонии, потом диктор на областном радио, потом диктор же, но на радио заводском (и заодно редактор заводской газеты), и так все ниже и ниже, перейдя в результате к надомной деятельности: в новые времена стал давать начинающим бизнесменам и менеджерам среднего звена уроки ораторского искусства, хороших манер (то есть что-то вроде сценической речи и сценического движения: пригодилось актерское образование), обучал также началам стихосложения (чтобы сочинять вирши для корпоративных вечеринок) и т. п.; спрос на такое обучение оказался неожиданно велик, Александр Евгеньевич зарабатывал больше, чем когда-либо в жизни, правда, мешало то, что и раньше портило ему жизнь: запои; но тут на помощь пришла супруга Нина Зиновьевна, до последнего державшаяся в театре, хотя ей давно уже не давали серьезных ролей – что вы хотите: интриги, зависть, она подхватила бизнесменов и менеджеров, а заодно зазвала их жен и подруг, таким образом супруги Салыкины обеспечили себе небедную старость и свысока посматривали на бывших коллег, за копейки тешащих свою бездарность на сцене. Байку якобы рассказал друг детства Александра Евгеньевича, известный актер О. П. Табаков, которому в свою очередь рассказал тоже кто-то очень известный. Байка такая: будто бы к врачу пришел Л. О. Утесов, тот, который «Веселые ребята», с жалобой: наверное, чем-то заболел, потому что – сбои по мужской части. Врач обследовал, никакой болезни не нашел, все соответствует возрасту.
«А в чем же дело?»
«Возраст, батенька. Старость».
«Да? То есть, значит, всё?»
«Всё».
«Слава богу!»
Это «слава богу» Салыкин произносил артистично, с шумным выдохом и смехом. Он умел быть артистичным, сказалась наследственность, умел быть в центре компании, но – не любил: для этого нужен постоянный кураж, а куража Салыкину недоставало, по натуре он был человеком в себе. Однако боролся со своей натурой, вымышлял себя и стремился к себе вымышленному. Он ведь не только песенки сочинял, он сочинял всё – стихи, пьесы, рассказы, и это, как поняло Валько, было для него главным. Наедине с собой Салыкин жил подлинной жизнью, но результаты когда еще будут, если будут вообще, а Салыкин хотел славы сейчас, признания сейчас, любви сейчас, поэтому и тащился в компании с гитарой, поэтому обольщал и, как было уже сказано, умел это делать. Как-то Салыкин, крепко выпив, сокрушенно признался:
– Знаешь, Валь, я понял: все, что я делаю, я делаю ради баб. Нет, правда. Сочинил недавно романс. Романсец такой. Стилизацию для одной дуры. Рафине она. Ну, я ей романсец приготовил. Спою – и она моя. Сочинил. Надо к дуре идти, а я еще один сочинил. А потом на рассказец потянуло. И так далее. И я понял, как я буду жить. Буду сочинять ради славы и баб, что одно и то же. То есть, где слава, там и бабы. Но мне будет все время мало. Вот еще, вот еще, вот еще... То есть я буду сочинять ради баб, но баб все время буду откладывать. И когда уже все придет – слава и любые бабы, будет поздно. Я заранее хочу повеситься!
Лукавил Салыкин: баб он не откладывал. Он приводил их в Валько и просил его прогуляться час-другой. Управлялся быстро и к возвращению Валько был уже выпившим, и уже пел песни с листа разомлевшей барышне. Он часто оставался у Валько, спал тяжелым пьяным сном, просыпался разбитым, похмельным, глотал крепкий чай, курил, кашлял и говорил:
– Судя по синдрому, иду путем моего папаши: стану алкоголиком.
Так и вышло, Салыкин очень рано допился до запойной стадии, то есть уже неизлечимой, что его чуть не погубило (попал в реанимацию с сердечным приступом на фоне похмельного психоза), но в результате спасло: испугавшись, он раньше многих своих товарищей сошел с дистанции, лечился. Потом, правда, срывался, опять лечился, опять срывался... но это уже другая история. Однажды, лет через десять-двенадцать после начала их знакомства, Салыкин сказал Валько, будучи у него в гостях и с легкой печалью наблюдая, как Валько попивает коньяк (в ту пору все спиртное исчезло из магазинов, был только грузинский коньяк, дорогой и второсортный, стоял батареями на полках всех винных магазинов города), Салыкин сказал:
– Знал бы ты, как я любил быть пьяным. Вернее, слегка хваченным. Наследственность подвела. Другие вот могут, как ты, выпивать в свое удовольствие хоть каждый день, а я сразу завожусь, мне надо еще. Но когда начинал, еще умел останавливаться. Знаешь, какой день я вспоминаю, как один из самых счастливых? Ничего такого не было. Утро, иду в университет. Май, кажется, был. Солнышко, тепло. И так мне вдруг хорошо. И я не пошел на занятия, шатался по улицам. Бескорыстно. Девушкам улыбался – без всякой задней мысли. Ну, то есть, как обычно бывает: сам улыбаюсь, а сам думаю: гадина, такая красивая, а не моя. А тут смотрю и думаю – да живи ты без меня на здоровье, разрешаю и отпускаю. Понимаешь? Таким себя чувствовал чистым и свободным, как... Ну, не знаю, как. Не с чем сравнить. Значит, шатаюсь. Жду, когда винный отдел в «кишке» откроется. Открылся. Зашел. Там портвейн двух видов – за рубль семьдесят две и за рубль восемьдесят семь. Разница, вроде, пустяковая: пятнадцать копеек, а на самом деле – огромная. За рубль семьдесят две портвейн темнее, противнее, привкус какой-то, будто его в бочке из-под гнилой капусты хранили. А за рубль восемьдесят семь – он янтарного оттенка, чуть маслянистый, совсем чуть-чуть, не как ликер, не тянется, но такое, знаешь, ощущение ласковости в нем, льнет к языку сам собой, к языку, к горлу, к желудку. И так мне его захотелось, а денег всего рубль восемьдесят. И тут входит Маринка Кельдиш, помнишь Маринку Кельдиш?
– Конечно.
– Ну вот. И я ей так просто, так спокойно, хоть и знаю, что она давать не любит, говорю: дай, Марин, семь копеек. И она мне их дала. Хотела даже больше, я не взял. То есть она как-то очень бескорыстно дала, с улыбкой, с пониманием, а я бескорыстно взял. И позволил ей уйти, хоть и красавица. Взял портвейн, пошел на набережную, сел там, выпивал понемногу. Бутылку поднимешь, посмотришь сквозь нее на солнце – красота, все искрится, отопьешь, посидишь, подумаешь. И точно помню: я ни о чем конкретном не думал. Я просто наслаждался. Существованием. Бытием. Осознанием всего сущего. Ну, то есть, получал экзистенциальный кайф, – не удержался и выразился Салыкин. – И мне не хотелось в этот момент ни денег, ни славы, ни женщин, честное слово. Мне хотелось вечно сидеть вот так – и существовать. И наслаждаться. Что такое счастье, брат? Я тогда понял, то есть даже не тогда, а потом, когда вспоминал. Счастье – это ощущение своего полного соприкосновения с жизнью. Всеми зазубринками, шишечками, всеми выпуклостями и впуклостями, – улыбнулся Салыкин смешному слову. – Соприкосновение и ощущение единства. И радости. Причем ты ясно чувствуешь, что не только ты радуешься, что соприкоснулся с жизнью, но и она радуется, что соприкоснулась с тобой. Можешь не верить, но я даже чувствовал, как портвейну нравится, что я его пью. Портвейн же себя тоже по-разному ведет. Может и колом в горле встать, может с отвращением в тебя пропихиваться, если с похмелья, может торопиться, толкаться сам в себе – как очередь за тем же портвейном, – Салыкин опять улыбнулся, довольный, что умеет так складно говорить. – А может литься радостно, легко, свободно, как песня, только в горло, а не наоборот. Тогда счастье. Я, между прочим, и женщин только сейчас учусь любить. Раньше – самолюбие, просто охота и так далее. А сейчас именно для счастья. То есть чтобы почувствовать полное соприкосновение с жизнью – через женщину. При этом ты счастлив только в том случае, если счастлива она. Понимаешь? Если бы я умел, я бы жил пьяным. Я бы выпивал и трахался и больше ничего бы не делал. Понимаешь?
Про женщин Валько понимало теоретически, а про портвейн вполне практически. По счастью, болезненного пристрастия Валько в себе не обнаружило, выпивало в охотку и не испытывало непреодолимой тяги продолжить. Оно рано поняло, что другие люди, так называемые нормальные, пьют ради освобождения от пола. Нет, конечно, кого-то, напротив, начинает обуревать похоть, но это лишь в начале выпивки, это проходит, если как следует добавить. Добавляешь – и нет никаких других желаний, и полностью растворяешься в своем состоянии. Приходит свобода. При этом чем физиологичнее твои хмельные ощущения, тем они, получается, духовнее: одним мощным желанием ты отринул все прочие, всю земную суету и ея страсти. Настоящий пьяница добр, бескорыстен, ласково эгоистичен.
Таким образом Валько перенимало у других то, что не могло открыть самостоятельно: открывает тот, кого куда-то тянет, а его никуда не тянуло, хотя оно и находилось все время в поиске.
17.
Оно даже попробовало заняться литературой, как Салыкин.
Начало со стихов. С тайными смыслами и явными аллитерациями (само слово очень понравилось – «аллитерация»; Салыкин, добрая душа, не только этим термином похвастался, но и внятно объяснил, что такое).
Палевая пластмасса выпуклых паль
Пылится в плотной плоскости дня.
Это дым или дыль или доль или даль.
Я не знаю. Но это плеяет меня...
И т. д.
Исписав таким образом целую тетрадь, Валько дало ее на суд Салыкину. Тот прочел одно стихотворение, другое. С удивлением посмотрел на Валько.
– Или ты придуриваешься, или ты гений.
– Наверно, придуриваюсь, – улыбнулось Валько.
– Ты ведь стихов не знаешь, ты даже, например, Хлебникова не читал.
– Не читал.
– Сам придумал, получается?
– Сам.
– Хм. Если и придуриваешься – гениально придуриваешься. Что такое «пали»?
– Ну, тени, которые падают. Или не тени. То, что падает.
– А «плеяет»?
– Не знаю... Состояние...
– То есть ты не слова придумываешь, ты и состояния придумываешь, и предметы? И сам их называешь?
– Получается, так.
– Надо же...
Салыкин стал читать дальше. Одно прочел вслух:
Не гуль голубиный, не буль моей судьбы,
А веперь с востока выпер чуждый харк.
Но мне он родней, чем глыбистые лбы
Людей, что обезлюживают каждый мой шарк...
И т. д.
И сказал:
– Может, ты сам не понимаешь, что пишешь?
– Не всегда, – согласилось Валько.
– Тогда не знаю... Тут, ё, стараешься, жизнь кладешь, а он взял и... Даже как-то не верится. А может, ты списал откуда-нибудь?
– Нет.
– Даже странно. Нет, скорее всего, это выпендреж. Гением ты не можешь быть.
– Почему это?
– Потому что не бывает сразу двух гениев в одном городе.
– А кто еще?
– Скотина!
– А, ну да, – догадалось Валько. – Ладно, не бери в голову, давай выпьем.
Валько была очень приятна похвала Салыкина. Оно продолжило свои упражнения, ночи просиживало, испытывало подлинное вдохновение, было счастливо в эти моменты. Нашло, кстати, книги Хлебникова – все, что сумело достать. Прочло. Поразилось. Увидело безоглядную гениальность, безумие и – бесполость. Значит – можно? Значит, строят люди на этом жизнь?
Оно так увлеклось, что подумывало уже, не перебраться ли на филфак и там поучиться этому делу с толком. Салыкин горячо поддержал идею. Но Валько решило подождать все-таки до конца курса.
– Тебя нужно вывести в люди, – сказал однажды Салыкин. – Я-то и так обойдусь, а тебе надо. Есть тут литобъединение при газете «Заря молодежи», Подольский руководит, крупнейший поэт областного масштаба. Там как раз, я знаю, скоро первое заседание. Сходим, посмотрим?
Валько согласилось.
Литобъединение собиралось почему-то в помещении гарнизонного Дома офицеров – массивного здания постройки начала 20-го века, с колоннами, с высокими окнами. В так называемой Голубой гостиной (по цвету стен и штор) густо набилось самодеятельных литераторов. Валько с удивлением увидело среди них немало людей зрелого и даже пожилого возраста – ветераны пера и пишущей машинки, неисправимые или неизлечимые энтузиасты. Но была и зеленая молодежь, совсем школьники. Новички выделялись любопытствующими взглядами, большинство же были – свои, старожилы, они бурно здоровались, обнимались, радуясь видеть друг друга, как школьники после каникул. Явился Подольский, худой старик с повадками мэтра. Поприветствовав собравшихся, он произнес речь о той ответственности, которую взваливает на себя каждый, кто берется за перо независимо от того, публикуется он или нет. Подольский отметил, что талант отличается от бездарности наличием таланта, у бездарности же никакого таланта нет, а есть только имитация, что легко в пору всеобщей грамотности. Он тонко заметил, что не всякий, кто пишет лесенкой, Маяковский, и не всякий, кто пишет о природе, Есенин или Кольцов. Еще более тонко он подчеркнул, что плохие стихи писать легко, а хорошие трудно. Плохие отличаются от хороших тем, что они хуже. Ну, и дальше в том же духе. Салыкин иронически посматривал на Валько, потом, словно опасаясь, что Валько не разглядит его иронии, сказал ему на ухо: «Куда мы попали, это ужас!»
Меж тем Подольский, выразив удовлетворение, что видит многие знакомые лица, сказал, что рад появлению и новичков. Кто-то останется, кто-то уйдет, прояснится со временем. А пока – для знакомства – пусть каждый прочтет по стихотворению. Желательно, чтобы оно было характерным. Визитной карточкой, так сказать. По кругу.
Первыми в кругу оказались старожилы. Они читали уверенно, крепко, поощряемые улыбками и уважительной внимательностью товарищей. Потом вступили новички. Пятидесятилетняя дама в огромных очках протяжно декламировала:
И этих хризантем такое было буйство,
Что я не стала прятать их в стекло.
Я их не срезала, зато какое чувство,
Они во мне родят, кивая мне в окно!
(Как большинство самоделыциков, она была уверена, что рифма – это когда кончается на ту же букву).
Ее чтение было скомкано, потому что тихо, извинившись за опоздание, вошла девушка.
Высокая, яркая: волосы светлые и явно свои, потому что с легким рыжеватым оттенком, слишком естественным, так не красят, глаза зеленовато-голубые, да еще одета в алую кофту и алые брюки.
– У мертвого встанет! – тихо процедил Салыкин, привычно защищая себя ерничеством, а глаза у него стали тоскливые, будто он успел уже полюбить эту девушку, и ухаживал, и получил отказ. Другие тоже – кто простодушно обалдел (поэты-пролетарии), кто сделал вид, что ничего особенного не произошло (поэты-интеллектуалы), кто откровенно и подчеркнуто пялился и чуть не потирал руки (поэты-авангардисты), кто снисходительно усмехался (девушки-поэтессы), кто осудил взглядом за опоздание (дамы-поэтессы и пожилые любители)...
Девушка прошла на свободное место – и оно оказалось как раз там, где по очереди приходилось читать. Подольский объяснил ей это.
– Да нет, я не готова, – пожала плечами девушка.
– Но вы же пишете? – спросил Подольский.
– Что я там пишу. Ерунда, – махнула девушка рукой и рассмеялась.
– Вообще-то у нас объединение для пишущих, – строго сказал Подольский.
– Нет, я пишу. Но читать не люблю. Я лучше послушаю.
– Мы сегодня знакомимся. И каждый читает по стихотворению, – растолковал Подольский.
– Да? Интересно.
– Я рад, что вам интересно. Ну, читайте.
– Да не хочу я, с какой стати? – удивилась девушка. – Тоже мне – обязаловка.
Подольский сделал паузу. Видно было, что ему хочется выгнать нарушительницу распорядка. Но что-то мешает. Бог весть, кто она такая. Может, дочка какого-нибудь начальника. Очень уж богато одета. Подольский, конечно, либерал, он презирает чинопочитанье. Но не хочет неприятностей для своего любимого детища, литобъединения. Оно же – глоток воздуха для местных молодых талантов. Подольский нашел компромисс:
– Хорошо! – сухо сказал он девушке. И подчеркнуто приветливо обратился к сидящей за нею по очереди подростковой барышне, нетерпеливо моргающей маленькими глазками. Та резво начала, Подольский умиротворенно слушал. Он расставил точки над i: показал всем, что не поступился принципами, а просто проигнорировал блажь чужого человека.
После каждого выступления мэтр в нескольких словах оценивал.
– Растешь, молодец, – говорил он.
Или:
– Много чувства, но не хватает мастерства.
Или:
– Слишком мастеровито, чувства не хватает.
Он для каждого находил добрые слова, поэтому обстановка становилась все более задушевной.
Дошел черед до Валько.
Валько, прикрыв глаза, прочло:
Я, владелец гладкодонной ладьи
На высохшем озере и царь того царства,
Которого нет, я жду судьи
За то, что не сделал, за картонное коварство
Каверн в папье-маше. А мой ныр в бетон
Оставляет стыль на стыке сотен тонн...
И т. д.
Подольский, слушая, жевал губами и потрясывал старческой головой. Ему не нравилось. И он не стал этого скрывать (может, потому, что заметил на лице красноодетой блондинки одобрительный интерес).
– Извините, молодой человек: подражательно и вторично. Одни слова. Невозможно понять, что вас действительно волнует, что именно вы хотите сказать. Это знаете как называется? Версификаторство! Что вообще главное в поэзии? – задал он вопрос присутствующим. Они молчали, оставляя право на истину за Мастером. И он воспользовался этим правом и выдал истину: – Подлинность! (Все приятно изумились – за исключением нескольких саркастических особ (авангардисты, должно быть), сидящих особой группкой, Салыкин уже успел с ними несколько раз сочувственно переглянуться с выражением: «Ну и ну!») Подлинность! Это главное в поэзии, в искусстве вообще! Подлинность и неповторимость чувства, мысли, образа. И – свой голос, а не заемный. Я, думаете, не умею выдумывать оригинальных слов? Сколько угодно! Но надо следовать природе своего дарования. Я знаю, меня некоторые даже колхозником обзывают. (Старожилы опять изумились, на этот раз неприятно, и покачали головами: «Надо же, какие бывают гнусные завистники!») А я не боюсь! – зазвенел голос Подольского. – Да, я люблю русскую землю, русского крестьянина, русский хлеб! Это свято! А некоторых молодых почитаешь – что святого за душой? Ничего! Я не про вас, я вообще имею в виду. Тенденцию! Будьте подлинными – и вам простят и рифму неловкую, и оборот неточный. Лишь бы чувство было точное. Вот вы читали стихотворение, – указал он на даму, которая сочинила стишок о хризантемах, – извините, не знаю как вас...
– Ирина Владимировна, – зарделась дама.
– Да. Казалось бы, какая простота – лирическая героиня не тронула цветов. Но как по-своему сказано. Безыскусно, не без недостатков, но подлинно, понимаете меня? Впрочем, у вас все еще впереди, как и у всех. Пойдем дальше.
Но дальше не пошли – девушка в красном подала голос:
– Извините, я не знаю, тут у вас как? Всем высказываться можно? Или только вам? – обратилась она к Подольскому.
Вопрос застал Подольского врасплох.
– Я тут не начальник, – пробормотал он. – В поэзии все равны. Хотите – высказывайтесь.
– Я коротко. Мне кажется, этот юноша, – посмотрела она на Валько, – очень интересно пишет. Придумывает, да, но как-то интересно придумывает. А остальные подлинно, возможно. Но какая-то это подлинность не подлинная. Свой голос, я понимаю. Но он такой свой, каким должен быть свой. Я, наверно, не очень ясно говорю. То есть слушаешь – и ничему не удивляешься, понимаете? Как-то ожидаемо все. Я так себе и представляла – просто один в один. Даже грустно. А про хризантемы вообще... Я не сначала слышала, но... Ирина Владимировна, бросьте вы эту ерунду, вышивайте крестиком.
– Сама вышивай, – огрызнулась дама с неожиданной быстротой реакции. – Пришла расфуфыренная, как на танцы, и начала тут фасовать всех! Посиди послушай сначала, молода меня учить, ясно?
– А, – сказала девушка в красном, – ясно. В четвертую кассу не занимать. Извините. Молчу.
Она чуть помедлила, словно решая, уйти или нет. Улыбнулась каким-то своим мыслям. Осталась.
Салыкин начал читать. Он читал всем и никому, в пространство. Но Валько чувствовало, что на самом деле он читает девушке в красном. Как, впрочем, и все, кто читал после ее появления. И поэты, и поэтессы – ей читали. Вот она, сила пола и ориентировка на тех, кто безусловно доминирует. Салыкин читал, читая ей, и все это понимали. И Подольский это понимал. И злился. И злорадствовал, готовясь разгромить Салыкина, поскольку его стихи явно на это напрашивались.
Этот стишок Валько уже слышало в виде песни. Стишок такой:
Про рок
Похмельною тоской томим,
Я брел домой. И серафим
На перекрестке мне явился,
Почистился, поправил нимб,
Встряхнул крылами... Я взмолился,
Пав на колени перед ним:
"Помилуй, не тяни резину!
Я к операции готов –
Я глух, я слеп, как сто кротов,
Я нем, как рыба: рот разину –
Там пузыри заместо слов!"
Был ангел добр. К такой-то маме
Он не послал меня. Перстами,
Коснулся глаз моих. «Ништяк!» –
Я закричал, и оба века
Продрал. Все тот же полумрак.
Та ж улица. Фонарь. Аптека.
Он дернул за уши меня,
Крутил их, будто слесарь втулки.
Но – тишина. Лишь в переулке
Пел пьяный голос, жизнь кляня.
Растерянный, но не сдаваясь,
Схватился ангел за язык,
Коленом в грудь мне упираясь.
Враскачку рвет – вотще! Он сник.
Но вдруг воспрял – и вынул финку.
Я распахнул охотно грудь:
"Ударь меня! И не забудь
Мне угль водвинуть в серединку!"
Он разъярился. Он напал.
Ударил в грудь – и нож сломал,
И руку вывихнул. Стеная,
Сел на асфальт и зарыдал.
Я рядом сел. Сказал: "Стена я.
Замшелый камень. Слёз не лей:
протратишь вечность – дело к ночи.
А лучше, коль ты чудодей,
создай портвейн, а то нет мочи".
Он создал. «А теперь, брат, пей».
Он выпил. И отверзлись очи,
И слезы высохли. И нимб
Лихим он жестом скособочил
И повторил. И так мы с ним,
под кильку пряного соленья,
крича в пустую ночь: «Ура!»
во славу муз и вдохновенья,
перепились до упоенья.
И пели песни до утра.
Подольский гремел, рвал и метал. «Кощунство», «издевательство», «посягательство», «изощренное пустобрехство» – так он прикладывал Салыкина. А Салыкин, похоже, был только рад. Сидел себе и снисходительно улыбался. Дескать, ваша ругань мне даже приятна, было бы хуже, если бы хвалили. Девушка в красном тоже улыбалась. Остальные слушали Подольского не без удовольствия (утешает, когда другого хают), но при этом как-то выжидательно – словно речь Подольского теперь уже была не основной и окончательной. Валько понимало, чего они ждут – как прореагирует девушка в красном. И кто-то, возможно, даже ее поддержит. А кто-то яростно заспорит. Зрел конфликт.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































