Текст книги "Мальбом. Хоррор-цикл"
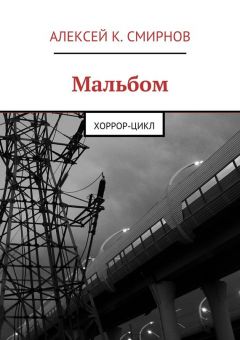
Автор книги: Алексей Смирнов
Жанр: Научная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
– В палатке замерзнем.
– Не замерзнем, сейчас тепло.
– А потом?
– Потом будет потом.
***
Потом, наставшее потом, оказалось такого свойства, что историю напечатали в яркой и толстой газете с огромным тиражом.
Страшненький человек, стороживший кладбище, рассказывал так:
– Все люди как люди, а эти ненормальные. Лысый так горевал, что в гроб полез. Еле оттащили.
По словами сторожа, подозрительные плакальщики разбили на погосте палатку, разожгли костерок, справили супчик.
– И я так понял, что расположились они основательно. Надолго. Им говоришь, но куда там, они не слышат. Посмотрят насквозь и питаются дальше. Хлебают себе из кастрюльки, вылавливают оттуда, чавкают – не по-людски так свинячить, среди могил-то.
Ночью сторож проснулся, разбуженный криками.
В криках звенело отчаяние.
И даже досада.
Голое, досадливое отчаяние, без примеси страха, гнева или особенной скорби.
Сторож побежал на крик и увидел группу товарищей: двое, разметав полы плащей, присели на корточки. Вцепившись, они держали за руку третьего. Его вторую руку по самое плечо затянуло в свежую песчаную насыпь. Двое перестали кричать и только сопели. Под их подошвами хрустели венки.
По описанию сторожа выходило, что третий был наполовину мертв.
– Я в этих делах разбираюсь, – уверял он диктофон. А диктофон шуршал – такая маленькая машинка, что ей еще рано было слушать страшные истории.
– Эти, что пока его держали, помёрли на треть.
Сторожу подлили в стакан.
– Потом обоих затянуло! – сторож ожил и привстал, нависая.
– Всех затянуло, – объяснил он через минуту.
Он подпер кулаком щеку и крепко задумался скорбною думой.
– Это все? – спросили у него.
– А как же, все, – ответил сторож.
На самом деле он рассказал не все, а почти все.
Когда разоренная насыпь затихла и перестала дышать, в песке проступила железная скоба. Она появлялась медленно, густея и ржавея – перекрученная, обтерханная.
И, полностью проявившись, какое-то время лежала.
Потом ее наподдали.
Мальчишки, ловившие на кладбище птиц, нашли эту скобу в траве. Один подобрал ее и долго носил в кармане. Он полюбил кладбище и все чаще приходил туда; сперва – поохотиться, потом уже просто так.
На это обратили внимание.
Но все обошлось, потому что в какой-то момент этот мальчик, сунув руку в карман, наткнулся на давно забытую ржавую железяку и вышвырнул ее в реку.
Это была важная река, она поила весь город; что до мальчика, то он поправился почти совершенно.
© апрель 2002
Композиция третья
Мне не нужна бандана
Детские страхи совсем не беспочвенны.
О, нет.
Я позволю себе утверждать, что они полезны, они выполняют важную работу. Страх подобен транспорту. Он допускает, он изгоняет. Я расскажу вам, как я скрывался. Вам наплевать, и мне до вас не докричаться, но я расскажу, покуда не потерял сознание.
Это была сущая мука. Я не знаю, как очутился в этом чертовом месте. Возможно, мое появление было вызвано топологическими заскоками – вернее, загибами, в которых происходили заскоки. Еще вернее: не «в которых», а «в которые». Не иначе, как я заскочил в такой загиб.
Надо мной подшутил некто сильный и глупый. В противном случае, откуда бы у меня взялись средства, позволившие мне слиться с толпой? Он пожалел меня? Он забавлялся мною?
В чем я уверен точно, так это в том, что я спал; я заснул в своем доме, не зная беды и опрометчиво видя в нем крепость, а пробудился на лавочке – ошеломленный, голодный и брошенный. Передо мной по бульвару расхаживали… короче говоря, мне стоило больших усилий не выдать себя и не закричать. Судя по их равнодушным физиономиям, я ничем не отличался от прохожих. Я был одет, как они, но в карманах моих было пусто, и – что говорить попусту, я сразу осознал грозившие мне голод и грустное прозябание. Это было совсем не похоже на похождения какого-нибудь художественного героя, который прочесывает незнакомую местность, заглядываясь на шпили и башенки; он бродит, глазея по сторонам, он пленяется витражами, огибает ратушу, цокает на собор, умиленно рассматривает сверкающих голубей. Он выписывает бесконечные восьмерки, огибая пруды, он подмигивает лебедям и бросает монетку в фонтан. Последнюю. Бросает, прохаживается, зевает и просыпается лишь с пробуждением желудочного сверла. Тогда до него доходит, что живому существу нужно жрать. И фабула начинает разворачиваться. Он нищ. Я не стал дожидаться сверлящего чувства. И без него было ясно, что мне придется как-то обеспечивать свое существование – при том условии, конечно, что я не сумею найти дорогу обратно.
Но что я умел? Какие ремесла, таланты, способности ценились в здешних краях?
К тому же, моя маскировка, хотя и была, на мой взгляд, совершенной, все-таки оставалась камуфляжем, и любой, к кому бы мне вздумалось обратиться за советом или помощью, мог присмотреться и распознать во мне монстра. Что я монстр, я знал доподлинно – достаточно было взглянуть на первую попавшуюся киноафишу. Да, именно таким я и был, как там нарисовано: дикое, зверское чудовище, жадное до крови трясущихся обывателей.
Не стану скрывать, что я и вправду хотел их крови. Я обозлился на всю эту публику, к которой не имел и не хотел иметь ни малейшего отношения. Мне, невзирая на мое неопределенное, но отчаянное положение, доставляло подлое удовольствие знать, что я, посетитель миров, явившийся из глубины тяжелых снов, могу сорвать с себя маску и кинуться рвать и крошить. Но мочь – не значит сделать.
Я слез с лавочки, где сидят, и заковылял к лавочке, где – едят? приобретают питание? в этом мне предстояло разобраться. Я пока не знал, что там сделаю. Сначала надо убедиться, надо разобраться и осмотреться. Будет день, но будет ли пища? Если пища все-таки будет, мне останется изыскать способ ее заполучить.
Внутри, возле самого входа, я замедлил шаг, привлеченный большим стеклянным ящиком. Он был полон игрушек, которые, в свою очередь, полнились ужасом, так как над ними парили хищные клешни. Клешни гудели, подыскивая жертву. Разноцветные уродцы молча ждали, когда те кого-нибудь выберут: иные лежали ничком, зарываясь в сатиновые штанишки и платьица своих соплеменников; другие бросали вызов небу, точнее – клещам, ибо другого неба не знали; они, бесконечно тряпошные, лежали навзничь, раскинув простроченные конечности и широко распахнув глаза. Ящик облепила стайка молодняка. Детвора толкалась; она пищала и тявкала, исступленно тыча в кнопку и орудуя сказочным рычагом, набалдашник которого поистерся от частого употребления.
Я понял, что не пропаду. Подойдя ближе, я осторожно заглянул внутрь и прищурился. Клешни чуть слышно лязгнули, захватывая фигурку. Через секунду они, как и следовало ждать, выпустили добычу, и маленький игрок пришел в неописуемое бешенство. Он пнул автомат и с силой толкнул рычаг, как будто рассчитывал пробить им прозрачную стену, которая стояла между ним и счастьем.
– Дайте-ка мне, – прошептал я, беря двух мальцов аккуратно и бережно, за темечко каждого; я взял их, будто приобнимая, но вместо этого деликатно развел и завладел рычагом.
Дома я слыл чемпионом по доставанию игрушек из разных жуликоватых автоматов – все эти устройства были нечисты на клешни. Я даже сумел сколотить небольшое состояние, продавая вытащенное, и теперь не видел, почему бы не смог повторить это дело в среде нового обитания.
– А вы умеете? – осведомились из-под моего локтя.
Я улыбнулся.
– Я был когда-то странной игрушкой деревянной, – пробормотал я сквозь зубы – сквозь настоящие, родные зубы, а не те, что красовались поверх них для всеобщего обозрения.
Меня не расслышали, а если даже расслышали, то не поняли.
Между тем я знал, сколько времени удерживать кнопку, не считая всякого-разного «петушиного слова».
– Ну-ка брось монетку, – попросил я у малыша, который вертелся и сопел, прилепившись к магическому ларцу. – У меня нет мелочи.
Я говорил небрежным, развязным тоном.
Внизу зашептали: моя просьба попирала каноны и нормы. Но вот они как-то договорились, и машина вздохнула. Автомат замигал дешевыми лампочками и тоже, как и я только что, начал что-то цедить, какую-то полупьяную песенку. Предполагалось, что она должна возбуждать азарт, однако ничего не возбуждала, потому что была похожа на бред опустившегося инвалида.
– Сейчас уронит, – дышали под локтем.
– Не каркай, малютка, – пропел я, искусно ведя к приемнику цветастый трофей. – За дело взялся везун. За штурвалом – фартовый парень.
Как ни странно, мы понимали друг друга. Мне оставалось только порадоваться заботливости моего ночного переносчика, который избавил меня от губительного языкового барьера.
Игрушка – страшный, аляповато разукрашенный карлик – упала в подставленную ладонь.
– Получай, – я передал карлика добродетельному мальцу, учредителю моего начального капитала.
– А мне? А мне достаньте! – посыпались просьбы.
– Гоните мелочь, – я нетерпеливо притопнул ногой.
Через час я собрал толпу.
Это не входило в мои планы.
Директор магазина, сошедший с небес посмотреть на фартового парня, готов был распустить меня на нитки. Я, к тому времени уже до дна опустошивший автомат, поспешил задобрить этого несчастного и предложил взять у меня игрушки назад за полцены. Видя, что в противном случае он останется вообще ни с чем, директор согласился, и так я разжился деньгами.
Вид местной пищи поверг меня в уныние. Я с трудом представлял, как буду есть эти продукты.
Хорошо, что я ничего не попробовал, потому что в лавке торговали, как выяснилось, вовсе не пищей. Это был магазин «Малыш» для новобрачных, в нем продавали, помимо всяческих заменителей и натуральных протезов, свадебный концентрат.
Я уже собрался купить большой пакет, и это мое действие непременно привело бы меня к разоблачению, но тут в торговый зал въехал свадебный поезд. Я инстинктивно взглянул на невесту и почувствовал тошноту. Мне ужасно захотелось домой.
Молодожены, не теряя времени, купили большую эмалированную кастрюлю, алхимический пакет – тот самый, с рассыпчатым гомункулом, который я присмотрел и едва не купил, сито и резиновые перчатки.
Свидетели, родители, гости и администрация магазина столпились вокруг новобрачных, желая поучаствовать в их молодом деле. Солидный здоровяк – отец невесты, судя по замашкам – отозвал директора в угол и начал препираться, поминая какие-то скидки.
Жених надорвал зубами пакет. Невеста присела, держа над кастрюлей сито. Жених высыпал концентрат, и сито дрогнуло, просеивая в кастрюлю красноватый песок. Жена трясла сито, а муж следил за посторонними вкраплениями и, как только видел инородное тело, вытаскивал и отправлял в рот, чтобы попробовать на зуб; вместе с примесью туда попадали крошки песка. Когда кастрюля заполнилась концентратом, невеста отложила сито и натянула перчатки. Свидетели поднесли бутыли с водой, нагнули и опростали в эмбриональную кучу, похожую на марсианский песок. Невеста принялась месить концентрат, как фарш или тесто. Она старалась вовсю, раствор светлел, и что-то сгущалось в глубинах мясной воды, потом со дна протянулись глиняные ручки и стали хватать маму за локти.
Потом, когда в кастрюле загромыхал, пытаясь выбраться, уже готовый младенец, к нему присмотрелись, и вдруг разразился страшный скандал. Из ругани и бессвязных воплей я понял, что малыш получился дефектным – что-то у него не то заросло, не то не прорезалось. Призвали директора; тот, все еще продолжая держать под мышками мои честно заработанные призы и оттого неестественно скованный, попытался свалить вину на молодожена и утверждал, будто сам видел, как тот жрал строительный материал; я попятился к выходу.
Меня дернули за одежду, я оглянулся и увидел недавнего шкета, ссудившего мне монет.
– Меня тоже не сразу сделали, у мамочки болели пальцы, – признался малец. Наверно, он заметил тупое выражение на моем лице, которое, впрочем, объяснялось не подлинными чувствами, но полной индифферентностью маски. – Она заразила меня микробами, и месила все больше левой рукой.
Тут я обратил внимание на то, что он и впрямь какой-то скособоченный-приплюснутый, будто желудь, на который невзначай наступили.
– Держи должок, – я полез за деньгами, лихорадочно думая, как бы его надуть.
– Не надо, – мотнул головой тот. – Они не настоящие.
– Как это – не настоящие? – я уставился на монеты, которые получил от директора.
– Это же сон, – сказал парнишка. – Вы мне снитесь. Я так мечтал вытянуть игрушку! Вот мне и приснилось, как их вытаскивают, но только не я, к сожалению.
Я начал догадываться, в чем дело.
– А ты не можешь проснуться?
– Зачем же мне просыпаться? Мне попадет. Я и так непослушный. Меня, как обычно, связали перед сном… залепили рот…
В нетерпении я стал пританцовывать.
– Пойдем к тебе, птенчик, – я украдкой оглянулся, чтобы убедиться в том, что нас никто не слышит и не видит. Свадебный поезд распался; вокруг кастрюли образовалось кольцо, и все визжали; я с облегчением понял, что им не до нас. – Пойдем, ты покажешь мне, где ты спишь. Пойдем в постельку, я сниму пластырь, я развяжу тебя.
Судя по глазкам, оловянным и послушным, паршивец действительно спал. Его движения приобрели сомнамбулическую окраску – мои, вероятно, тоже.
– У папули есть ножик, – сообщил он ни к селу, ни к городу. – Огромный, с желобком и зазубринами.
Я подталкивал его к выходу. Опозоренный автомат, потерявший всю свою балаганную притягательность, казался значительно меньшим, чем был.
Мы вышли; город плыл, кренились башни, прогибалась лента шоссе. Хлопали петухастые флаги, солнце смотрелось в луну. Мальчик повел меня через улицу, и мы остановились перед богатым зданием, каких я не знал прежде – ну, еще бы, сказал я себе, ведь я не дома, но скоро отправлюсь домой. Мы начали подниматься; мой провожатый поминутно оглядывался, а я тяжело ступал, бренча директорским серебром.
Секундой позже – я как-то не запомнил ни дверей, ни как мы вошли – мне предложили стул, и я сел, собираясь с мыслями. Оголец нырнул под одеяло. Я пошарил глазами по полу, там валялись обрывки бумаг и веревочные хвосты. На стене, в специально сшитом чехольчике, висели портновские ножницы. Стены и половицы были в разноцветных пятнах; треть комнаты занимал добрый комод.
– Вы кто, дядя? – парнишка, наконец, догадался задать очень важный вопрос.
Я поежился под оболочкой, почавкал естественным ртом.
– Сейчас ты узнаешь. Тебе нравятся страшные сны?
– Не очень, – он сел в постели. – Ты – страшный сон?
– Не без того, – я распахнул дверцы комода и шагнул внутрь. – Кошмары прячутся в шкафах, не правда ли?
Малый кивнул, прижимая к груди призового карлика.
Я присел на корточки, взялся за дверцы и сомкнул их перед собой.
– Смотри внимательно, – предупредил я специальным замогильным голосом. Какие-то тряпки мешали мне сидеть, пришлось их сдернуть.
– Я уже боюсь.
– Правильно делаешь. Я – монстр!
С этими словами я распахнул дверцы и вывалился обратно в комнату.
Мой гостеприимный хозяин нерешительно засмеялся:
– Какой же вы монстр! Вы самый обычный… Вы просто дурачитесь!
– И как же, по-твоему, выглядят монстры? – осведомился я с непритворным участием.
Тот пожал плечами.
– Как в кино. Такой… заросший… С ручищами… В татуировках. Волосы собраны в хвост, и на голове платок такой, злодейский.
– Бандана? – подсказал я.
– Да, она, – закивал малец.
– Мне не нужна бандана, – улыбнулся я, встал во весь рост и взялся за горло. Я нащупал молнию и потянул ее вниз, камуфляж разъехался, и я выпростал правую ногу.
Игрушка выпала из лапок, мерзкий детеныш вжался в подушку.
– Правда же, не нужна? – я сделал еще один шаг. Теперь я уже полностью избавился от костюма. Мне очень мешали шоры – такая штуковина у здешних на глазах. Долой шоры! Прочь шоры!
Я сорвал их и бросил в угол. Мой кругозор значительно расширился.
Поганец соскочил с кровати и, отчаянно визжа, бросился к двери.
– Папа! Баба! – орал он. – Бегите сюда! Скорее бегите сюда!
Я упер руки в боки, захохотал. Тот дергал дверь, его чешуйчатый хвост бился об пол.
– Мама! – разевала пасть эта каракатица. – На помощь! Здесь человек! Настоящий человек!…
Темная щель под дверью вспыхнула светом. Родители, шлепая лапами и колотя хвостами, спешили на помощь. Вокруг все шипело. И я, подхваченный волною страха, понесся домой. Я летел, из меня сыпались монеты; они улетали в пропасть и прыгали, достигнув дна, разменным эхом.
Довольный собой, я готовился к пробуждению. Мне удалось напугать их достаточно, чтобы оплатить себе обратный билет.
– Оклемался, – раздалось над ухом. – Доброе утро!
Говорили язвительно.
– Ну, что твои оффшоры? – продолжил голос, из которого вдруг улетучилось всякое, даже притворное, дружелюбие. – Вспомнил, урод? Оффшоры! Напишешь, или повторить?
Я был прикован наручниками к батарее. У меня был залеплен рот. Я мычал.
– Не скажешь! И не говори. Все равно они накрылись, твои оффшоры. Где остальное, придурок?
Говоривший сунул палец под платок и почесал немытый лоб.
Я замотал головой.
Ботинок остановился на пальцах моей левой, свободной руки.
– Где ты держишь бабки, лапа?
Они достали клещи. Эти клещи мне что-то напомнили. Очень большие, под главный приз. Я скосил глаза: рядом стояла большая кастрюля для супа, на полу лежал нож, чуть дальше – древние ножницы. Они обещали отрезать мне голову и сварить студень.
Денег у меня давно не было, но в это никто не верил. Комод разорили, пол заляпали красным. Моим, я вспомнил.
Я закрыл глаза, надеясь властью реальных событий перенестись обратно, к разбушевавшимся родителям мальчика.
Вам никогда не случалось проснуться от соринки, которая попала в глаз во сне? Не с каждым бывает. Редкое везение. Что за вздор я несу! Мелкий, пустячный вздор! Ибо наши… тут я перешел на более или менее высокопарный слог, потому что приблизился к сферам, где уместны торжественность и вычурность стиля; все жалкое, что я смог вообразить; все, что я мог представить.
© май 2002
Композиция четвертая
Сатурновы сани
Берг бежал, и холод гасил ему пламя, гудевшее в груди. Он был курильщик. Ледяные волны врывались в гортань и пылью рассыпались по сеточке веток, оседая в папиросных бронхах. Так тушат лесные пожары. Со стороны кажется, будто водная взвесь не вредит огню. Берг начал кашлять и сбавил скорость.
– Еще! Еще! – кричали сзади. Кричали требовательно и радостно; кричавший был глух к протестам и не терпел половинчатых удовольствий. Ему хотелось кататься до свиста в ушах, до рези в глазах, до обмороженных щек.
– Будет с тебя, – прохрипел Берг, не оборачиваясь.
Пахло морозным морем и холодным яблочным сидром.
– Еще!
Берг перехватил веревку, обмотал вокруг запястья и тяжело затрусил. Санки пели; Гоча визжал.
– Сказку придумывай! – несся счастливый голос. – Сейчас будешь рассказывать! Но! Но!
Берг шевелил губами, шепча бессмысленные слова, которые никак не хотели складываться в сказку. «Что-нибудь зимнее, – прыгали мысли. – Приличествующее случаю. Сезонное. Глубинное. С коллективным бессознательным».
Белое поле качалось. Встопорщенные деревья расступались.
Рука, лишившись груза, по инерции пошла вперед, готовясь к рукопожатию с невидимкой или тычку под дых. Взметнулась веревка, и санки, уже пустые, обогнали Берга. Он обернулся и увидел, что Гоча уткнулся лицом в сугроб и лупит варежками, сучит валенками, мотает шапкой – переполняясь восторгом.
Берг, радуясь передышке, наподдал санки.
– Давай, забирайся! – велел он строго. – Нечего валяться в снегу!
Гоча, скрывая лицо, хохотал. Берг шагнул вперед, подхватил его под пузо и плюхнул на сиденье.
– Сказку! – напомнил Гоча, ворочаясь на санках.
– Будет тебе сказка, – пробормотал Берг, снял шапку и вытер лоб. Повернувшись к санкам спиной, он откашлялся и начал громко рассказывать про чудного субъекта, который однажды пришел в хижину дровосека. Дело шло к полуночи, в зимнем лесу сверкал снег, и семейство готовилось ко сну. И младшенький из двенадцати, мальчик-с пальчик, моментально признал в пришедшем людоеда…
Берг запнулся, припоминая Проппа.
– Дальше! – приказали санки.
– Но гость сказал, что он вовсе не людоед, – послушно продолжил Берг. Он вышагивал, словно цапля, и снег скрипел, так что чудилось, будто цапля хрустит капустой – может быть, хрупает, а может быть, уминает. – Гость показал документы и объяснил, что он посвящает мальчиков в мужчины. Это называется инициация. Когда дети подрастают… их всех берут в лес, поглубже… в самую чащу. Там они переживают как бы умирание, понарошку. А потом как бы оживают и становятся взрослыми. Все сказки про это. И про Бабу Ягу, и про Конька-Горбунка, только там не лес и не печка, а котлы с молоком…
– Не отвлекайся! – донеслось из-за стены. – Я все равно не понимаю, мне не интересно! Я хочу про людоеда!
– Да, конечно, – согласился Берг. – Ты не замерз там?
– Ни капельки, – проворчал Гоча.
– Хорошо. Так вот, дровосек и его жена сначала слушали недоверчиво, но потом отец уступил. Что ж, сказал дровосек, раз все люди так делают, то никуда не денешься. Пора вам, дети, повзрослеть. Собери им, мать, завтраки с питьем и конфетами, раздай рюкзаки, и пусть идут. Порядок есть порядок.
– А мальчик-с пальчик?
– А что мальчик-с пальчик? Ему тоже пришлось идти. Людоед сказал, что в церемонии могут участвовать дети любого роста. Вышли они из избушки, мальчик-с пальчик сразу начал разбрасывать крошки, но людоед это заметил – на снегу-то, да при полной луне, и отобрал у него краюху. Мальчик-с пальчик возмутился, что это, дескать, не по сценарию…
– Не по чему?
– Не по правилам.
– Ага, – успокоились на санках. – Дальше!
– Дальше людоед привел их в чащу, рассадил на поляне в кружок и вынул нож. Сказка есть сказка, сказал он. Не слушайте сказок, дети. И первым он вытащил мальчика-с пальчик… – Убил?! – Нет, – Берг остановился, расстегнул пальто, поправил шарф, застегнулся обратно. – Эти дети потом стали совсем седые и разошлись, кто куда, не сказав друг другу ни слова. И ни один из них не вернулся домой, – с внезапной злостью закончил Берг. – И никто из них никому и никогда на рассказывал, что там произошло. А людоеда нашел на опушке дровосек, того почти занесло метелью, и в нем было двенадцать ран, от двенадцати ударов ножом.
С этими словами Берг повернулся к Гоче, и у него задрожали ноги. Вместо Гочи на санках сидел и скалился страшный карлик. Он был Гоча и не Гоча – таким тот стал бы, наверное, годам к девяноста. Зрачки, подернутые катарактой, морщинистое лицо, ввалившийся рот, радостная улыбка. Но одет он был в точности, как Гоча – та же шапка, та же шубка, варежки, валенки, шарф. Увидев, что его разоблачили, карлик беззвучно перевалился через бортик саней и бросился бежать. Он быстро оглядывался, взвизгивал и прыгал, как шахматный конь, переходя из сугроба в сугроб. В каждом из них он скрывался по плечи, но исхитрялся выпрыгнуть, чтобы снова воткнуться. Берг шевелил губами и безжизненно следил за этим блошиным скоком. Карлик перестал кривляться и больше не оборачивался. Он убегал. Берг осмотрелся по сторонам: наступали сумерки. Его обступили снежные бабы с бритыми черепами; вдали метелил древний лыжник, хотевший здоровья и долгой жизни. Пошел беззвучный снег, он оседал на плечах и воротнике Берга, но Берг пока стоял, не в силах стронуться с места. Пятерка чувств, образовавшая звезду, пришла в движение, и острия слились в скулящее колесо; жгучий металл качелей смешался со стуком пластиковых бутылок, которые щелкали и разбегались на ветру; замелькали скворечники, сделанные из молочных пакетов, автомобильная покрышка на мертвом суку, лед и чернозем.
Берг побежал по аллее. Шеренги фонарей не освещали, а только обозначали синюю тьму. Карлик был уже далеко; вдали подпрыгивало смутное пятнышко. Берг вдруг увидел, что тот спешит на свет, который начинал разгораться за купами седых тополей: там была летняя эстрада. Послышалась музыка; отрывистые выкрики звучали все громче и четче. Берг разобрал, что играет баян; на бегу он успел еще заметить большой фанерный плакат, которого прежде не замечал. «27 декабря, – прочитал он, задыхаясь, – 27 декабря общество „Знание“, детское отделение, возобновляет древние культурные традиции и открывает сезон праздником Сатурналий. В программе – веселый карнавал, Мистерия, работает массовик».
Берг, продолжая бежать, в уме машинально расставлял знаки препинания, которых в написанном, конечно, не было вовсе. «Ах, мошенник! – подумал он, пытаясь нарочито литературным словцом прикрыть свой глубокий ужас. – Карнавал! Он подобрал где-то маску, он вздумал меня напугать».
Далекий карлик, пока он сочинял всякую чушь, перемахнул через последний сугроб.
Между тем проступила луна и быстро налилась цветом, урезанная до месяца, который, благодаря печеночной желтизне, приобретал третье измерение; к нему летела не то ворона из басни, взалкавшая сыра, не то вообще не ворона, благо впотьмах не поймешь, а мифический орел, пожелавший печенки, разносчик вирусного гепатита. Аллея изменилась, стало светлее, по обе ее стороны высились фанерные сказочные герои в два человеческих роста, страшные и румяные; чуть дальше виднелся одинокий горнист и бюст героя в снежной шапке пирожком, вспомогательные элементы мистерии.
Перед эстрадой приплясывали ряженые. Берг не мог понять, откуда их понаехало, лимиты, с клювами и рогами, звездные прихлебатели. Они кудахтали и высоко подпрыгивали; пахло блинами и ельником, хотя парк был сплошь лиственный, сугубо городской. Берга, однако, не слишком заботили все эти дикие новшества; он чувствовал, что теперь не время в них разбираться, главное – настичь Гочу. Массовик сидел на эстраде, расставив кренделем короткие ножки и уложив на пузо баян. Не переставая играть, он монотонно, казенным голосом покрикивал в пригнувшийся микрофон:
– Юный бог, попрошу на сцену, пройдите к эстраде. Рождение бога, внимание, товарищи с детьми, хлопаем в ладоши на счет три. Новорожденный бог, мы вас ждем.
Карлик карабкался по ступеням.
Массовик повернул к нему лицо.
– Мы назовем тебя Минутка, – поощрительно пообещал он, думая приободрить карлика, которому тяжело давался подъем. Р
азноцветная толпа кружилась, безразличная к эстрадным событиям.
Берг выбежал, наконец, на площадку; его толкнули и глухо извинились из-под огромного вороньего клюва, он отшатнулся от неловкого шута. Очки упали и скрылись в снегу, Берг сунул руку поглубже – по локоть, по плечо. Он равнодушно отметил, что никак не ждал такой глубины, но вот подвернулась дужка, и он отпрянул, сел прямо там, где стоял на коленях и начал протирать стекла платком. Когда он вновь надел очки, то задняя стенка эстрадного углубления полыхала красным огнем. Массовик, наполовину развернувшийся к этому сиянию, провожал Гочу беспорядочным перебором клавиш, и меха помирали, как древние старики. Карлик, немного прихрамывая, ковылял на свет. Берг быстро вскочил и стал проталкиваться к ступеням. Он прежде не подозревал, что за эстрадой – точнее, под нею – скрывается какой-то проход. Они гуляли здесь едва ли не каждый день, и эстрада торчала, как память о времени коллективных забав. Она давно осыпалась, заросла всякой всячиной; на провалившейся крыше маячило тощее деревце, внутри было гадко. Стены стояли, исписанные бранно-спортивными лозунгами вперемежку с призывами помнить институт Анненербе.
«Котельная? – подумал Берг. – Кочегарка? Возможно… Зачем, однако, топить эстраду?»
То, что эстрада вообще ожила, его не тревожило.
Не сводя глаз с фигуры, которая готова была вот-вот спрыгнуть в красное, он разбивал и разводил подгулявшие пары. Те шумно дышали и отрывисто выкрикивали непонятные слова.
– Сатурн! Сатурн! – вот все, что сумел разобрать Берг.
Он вбежал на эстраду. Массовик не обратил на него внимания и сидел неподвижно. Казалось, что он устал или вдруг задумался о чем-то внезапном. Берг не захотел его трогать и поспешил вглубь сцены, где и вправду оказались ступеньки. Красное дрожало и прыгало, становилось жарко. Берг сдернул шапку, затолкал ее в карман и спустился метров на шесть. Внизу, под эстрадой, светился узкий ход, похожий на нору. Толстая дверца, обитая металлическим листом, была распахнута настежь.
– Гоча! – закричал Берг и нырнул в лаз.
Туннель изгибался то вправо, то влево. Берг быстро шел на звук удалявшихся шагов, слегка пригибая голову; на стенах играли отблески огня, хотя это было странно и непонятно, так как сам его источник находился, по всей видимости, еще очень далеко.
– Гоча! – позвал Берг еще раз, стараясь не прикасаться к стенам. Вдруг он сообразил, что потерял санки, на которые наплевать, но Бергу вдруг сделалось страшно досадно и тоскливо, будто этот факт перечеркивал всякие надежды на успех путешествия по туннелю.
«Я куплю ему новые», – подумал Берг. Он ускорил шаг, на ходу отдавая должное продуманности сатурналий. Подземелье, принявшее околдованного – теперь в этом не было никакого сомнения – Гочу, пожирание отпрысков, исчезновение семени в породившей его земле, то есть снова – туда, в глубины, в Аид, или где там водился Сатурн; не на небе, конечно, без колец и без лун, которые сгоряча наприписывали этому дряхлому демону, поедателю четвертого измерения. Берг выпростал запястье: стрелки стояли – так и есть, наверняка у них здесь спрятан магнит, но это неважно. Когда он отловит Гочу, тогда, и только тогда, он отправится в общество «Знание» и устроит там такую мистерию, что любой Сатурн удавится от зависти, и даже Юпитера с собой заберет со всем остальным Олимпом, пусть тот и в Греции, к чертям, пусть отправляется в то же пекло.
Берг распахнул пальто, распустил шарф.
И крикнул, не удержавшись:
– Есть здесь кто? Крик задохнулся, будто выдохнутый в подушку. Берг почувствовал, что у него заложило уши, и он принялся разевать рот, будто рыба. Хотя он больше склонялся сравнить себя с каким-нибудь раком, который уже, на лету алея, летит в котел. Как он ни спешил, Берг все же остановился, чтобы послушать, далеко ли Гоча: Гоча был далеко, его дробный топот еле отдавался от стен, потолка и пола – однако могло быть и так, что эта удаленность, если вспомнить о каверзах звука и скоропостижной глухоте, сплошной обман, и Гоча близко. Бергу вдруг показалось, что он не один, но дело было в вогнутых зеркалах, которые, как стало ему ясно, уже добрую сотню метров как выстилают стены туннеля. Опасаясь, что та же судьба уготована полу, Берг решил бежать осторожнее и тут же, стоило ему перейти на сдержанное, пробное скольжение, вкатился в кочегарку.
Маленькая жаркая комнатка гудела огнем, возле железной печки сидел скрюченный человек, очень тощий и высохший, в вязаной шапочкой. Он ворошил угли длинной кочергой, выбивая искрящихся духов. Человек был одет в красную шубу, которая была ему настолько велика, что в нее пришлось завернуться несколько раз, и столько же раз обмотаться широким кушаком. Красная шапка с белым помпоном сбилась на затылок. Блестящая синтетическая борода валялась, отстегнутая, на полу, среди окурков и древесной трухи.









































