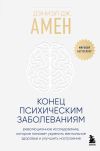Текст книги "Странные, страшные, плохие, хорошие. Стихи"

Автор книги: Алена Бражникова-Агаджикова
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Алена Бражникова-Агаджикова
Странные, страшные, плохие, хорошие. Стихи
© А. Бражникова-Агаджикова, текст, иллюстрации, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Предисловие от художника и писателя Павла Пепперштейна
Мы все живем в тайном ужасе (и этот ужас относится к тем разновидностям ужаса, которые навязывают нам особенную нервозность). И что это за ужас? Этот ужас связан с брызжущим представлением о том, что подлинной поэзии больше нет. Причем ее больше нет вовсе не потому, что ее больше некому порождать, а потому, что ее незачем порождать. Иначе говоря, иногда возникает ощущение, что немалое количество талантливых людей способны порождать великолепную поэзию, но… она больше не нужна. И все же среди этого множества великолепных и талантливых людей встречаются великолепнейшие, талантливейшие (и к их числу, безусловно, относится Алена Бражникова-Агаджикова!), которым удается пробить омертвевшую печаль наших не вполне веселых времен своим пылающим словом, своей пылающей болью. И после «западного» слова «боль» пусть прозвучит глубоко восточное слово «сострадание». Буддийское сострадание! На первый взгляд, великолепный поэт Алена Бражникова-Агаджикова кажется автором протестантским, но мое сердце шепчет мне: нет, это неправда! Она не протестантский автор, она автор буддийский. Она посвящает себя состраданию. Она действительно помогает страждущим и несчастным (помогает не только как деятельный организатор, но и как поэт, как словесник), а не просто теребит края ран, как любят делать протестантские авторы. Она – автор буддийский, потому что она не только лишь теребит раны, но исцеляет их… или хотя бы стремится к этому. Поэзия сострадательная есть то, что чаемо нами в самой глубине наших невысказанных стремлений. Сострадание гнездится в словах и между словами, оно дает знать о себе то нервной пульсацией, то загадочными летаргическими замираниями… с чем мне сравнить этот неожиданный ветерок подлинной поэзии, прилетающий из ниоткуда в тот миг, в тот период, когда этого ветерка уже и не ждешь? Сравнил бы я его с той детской травмой. Но здесь возражу компетентным психологам, которые полагают, что травма всегда зиждется на «серьезных» проблемах. Настоящая детская травма отнюдь не такова, она не знает различения на «серьезное» и «несерьезное». Взять хотя бы ту травму (и эту травму я возвел бы в исток несравненной поэзии Бражниковой-Агаджиковой), которая коренится в такой процедуре, как заправление одеяла в пододеяльник. Все мы испытали это! Или не все? Может быть, вовсе не все мы это испытали… но я точно испытал! Я помню (и никогда не забуду) то мучительнейшее состояние в спальной комнате летнего детского сада, когда каждому ребенку вменяют в обязанность (прежде чем прилечь ради дневного сна) собственноручно заправить одеяло в пододеяльник. И что, господа психологи, вы станете с пеной на губах утверждать, что нужна смерть родителей в автокатастрофе или их предельная холодность в отношении возрастающего чада, для того чтобы сформировалась, созрела, налилась животворящим и ядовитым соком многоцветная детская травма?
Брызните навзничь, детские психологи! Достаточно простого заправления одеяла в пододеяльник, для того чтобы сформировалась травма в тысячу раз более страшная, чем могут вообразить черные архангелы. Ведь одеяло не уминается в пододеяльник! Оно сопротивляется! Там требуется трясти за уголки. Там такие требуются изощрения, что ими на долгие годы становится беременно фарфоровое сознание не взрослого. Как хотелось бы вытрясти из памяти эти одеяла, эти пододеяльники, эти железные кровати, эти пружинные матрасы. Но не получится. Как называется эта невозможность вытрясти все вышеперечисленное? Это называется – подлинная поэзия. И именно эту поэзию (восхитительную, пьянящую, отвратительную, беспомощную, виртуозную) дарит нам Алена Бражникова-Агаджикова.
Предисловие от автора
Во мне всю жизнь соседствовали две вещи: обостренное чувство несправедливости и крайняя восприимчивость к метафизике. Днем я могла работать над материалами о людях, которые подвергаются насилию или сильно болеют и им нужна помощь, а ночью подолгу смотреть в потолок и ощущать распирающее солнечное сплетение чувство. Чувство, что все люди и события связаны даже не невидимой, а красной нитью; что тени от проезжающих машин на стене – это не просто тени, а портал в мир, который я не вижу, но чувствую. Это чувство началось с детства, и его изначальной формой была благодарность Богу за то, что он создал мир таким невероятным. Я могла сидеть на подоконнике, смотреть на вереницу огоньков фар машин и плакать от того, как все невыразимо и благодатно, как вкусно пахнет воздух весной и чистым бельем, которое сушат на балконе соседи.
С возрастом это чувство притупилось, вера в Бога сменилась на веру в то, чего мы еще не постигли, но что совершенно точно есть. А к тридцати годам неожиданно восприимчивость к метафизике снова возросла, как будто заработал уже покрытый пылью старый термометр.
Стихи в этом сборнике писались на протяжении шести лет. Картины писались специально для сборника. Я не знаю, откуда родились некоторые образы стихов – иногда я засыпала, и в голове начинало крутиться слово, одно и то же слово, я перебарывала сон, вставала и писала, рука вела сама. Или в голове вился образ, например, мигающая красная точка, с которой начался один из самых странных и важных для моего сердца стихов, стих про мусорный полигон. А сколько стихов я в итоге проспала… но не жалею, спать я очень люблю.
Большую благодарность я хочу обратить к ряду людей. Режиссерам кино, которые снова и снова дарят мне портал в другую реальность. В особенности Дэвиду Линчу: он познакомил меня с таким жанром, как магический реализм, вдохновил на автоматическое письмо и научил чуткому обращению со своими снами. Художникам, чьи работы остаются моими проводниками в мир цвета и чувств. Музыкантам, чья музыка всегда наполняет мой дом, в особенности Гейру Йенсенну. Моим друзьям и моей семье за базис всей моей жизни, тем, кто жив, и тем, кого уже нет в живых, но кто перебрался в иное пространство. А также всем, кто нашел время, чтобы познакомиться с моим наиболее честным и невыразимым способом осмыслять реальность – какой бы ирреальной она порой ни была, – с моими стихами.

Перейди по QR-коду и посмотри цветной вариант картины
1
мне снится, ты крестишься дважды
на водонапорную башню,
внизу семенят самолеты,
лежат в колыбелях пилоты
и пальцы большие сосут.
мне снится, ты стонешь во сне,
ногами сучишь, как котенок,
и нет под тобою пеленок
(но ты ведь уже не ребенок),
ты звездный пилот корабля.
мне снится, что в этой вселенной,
обтянутой кожей и тленной,
меня быть не может и нет.
тому, что есть я, светит свет
лучей колыбелей пилотов.
крест-накрест раскрою ладони,
пытаясь нащупать лицо.
ты стонешь и просишь проснуться,
ты видишь во сне мертвецов.

я очень стараюсь нагнуться,
рукой до тебя дотянуться,
а ты исчезаешь во мгле.
сосут свои соски пилоты.
нет в этом пространстве заботы,
заботиться не о ком больше.
мы, кажется, въехали в Польшу.
«открыть паспорта
на странице с визой»,
и я открываю глаза
2
– всем привет, я – взрослый ребенок
из дисфункциональной семьи. если можно,
я выскажусь. я много говорю об отце,
я превозносил своего отца. хотя так, как ко мне,
он не был жесток ни к кому. мы со спонсором
не можем решить, что выбрать мне высшей
силой: иногда приходим на мою могилу
и топчемся в нерешительности.
говорят, я воскрес. это правда.
воскрешение – больнее, чем смерть.
смерть – это быстро, а тут некуда деть лопатки,
всасывающие крылья обратно,
ни стоять, ни взлететь, ни сидеть.
метаморфоза длилась три дня.
отец меня отправил обратно.
я не был уверен, что хочу
видеть людей, меня убивших,
издевавшихся надо мной,
плюющих в меня.
другого мира я, впрочем, не знал.
отец прямо сказал —
надо.
молнии мечет, посохом бьет.
а я смотрю вниз, мне страшно,
и думаю —
сам-то он что не идет?
стало стыдно.
прости, я спускаюсь, папа.
падаю, делаю глубокий вдох,
кричу:
– поговорите с моим отцом!
он – это я, я – это он.
кричу:
– поговорите с моим отцом!
Толик, спонсор, приходит в ужас.
– ты ведь знаешь, что такое абьюз?
– я не знал, но теперь знаю.
осудить не могу – боюсь.
– в чем-то, знаешь, я сам виноват.
и теперь уж как вышло, так вышло.
у отца самого как таковой семьи не было, нам
трудно его понять. ну вот каково быть тем, кто
сам все создал? это, наверное, невыносимо
одиноко. я бы просто орал.
– разве на кресте ты не орал?
Толик раздражающе хороший спонсор. вечно
не в бровь, а в глаз.
– это было всего один раз и быстро закончилось
я знаю, что скажет Толик. его папа тоже
не сахар, алкоголик, плакал у семилетнего
Толика на коленках и просил называть маму
шлюхой. есть в нашей с ним истории коечто
общее. мой отец говорил, что люди
будут слушать меня, потому что я воскрес,
дескать, он сотворил мной чудо. люди
правда стали прислушиваться ко мне
и хотели быть ближе, но никто не хотел
слушать меня по-настоящему. я нес себя,
запертого во внутреннем саркофаге, где
продолжал гнить вместе со своими эмоциями
и желаниями. они разрастались вширь,
но саркофаг было не проткнуть, так что я ходил
и ходил по пустыне, волоча тяжелую ношу,
и рассказывал людям про крест. они падали
передо мной на колени, плакали, как толиков
папа, и рассказывали ужасные вещи.
– по крайней мере, – усмехнулся Толик, выдувая
дым, – у тебя были поклонники.
я посмотрел на его физиономию и впервые
в жизни засмеялся.
– никогда не думал об этом с такой стороны.
– а ты подумай. это друг тебе советует

3
я родился слепой невидимкой:
моя мама не познала мучений,
обрекающих на крик рожениц.
я легко выпорхнул из ее лона,
но, слепой, ударился о стекло роддома.
но, невидимый, я так долго летал,
прежде чем на груди примоститься
бесцветным калачиком,
и все же мне удалось. и даже Она
почувствовала мое присутствие.
ее тонкие теплые пальцы
проскальзывали сквозь то,
что могло бы быть теплым телом,
но я был – воздух,
бесплотный, колыхаемый ветром,
ветер также регулировал температуру моего
сердца.
ее живот был – как парус,
раздуваемый мной изнутри.
теперь он опал, но она не расстроилась,
куда бы она ни шла,
то придерживала калачик воздуха
на груди.
мне нравилось вздыматься
и опускаться.
вздыматься
и опускаться.
как нежно колыхалось то,
что могло быть моими кудрями,
от ее теплого дыхания.
когда она грустила, ее щеки холодели,
когда радовалась – ее грудь вздымалась
быстрее,
когда влюблялась – что-то в ее нутре
клокотало.
она всегда знала,
что я рядом.
до последнего вздоха
знала.
вместе с ним
я и был растворен
во времени,
в звездах,
в дожде,
в океане.
и снова —
во времени,
в звездах,
дожде,
океане.
и снова
4
поливай богульник,
он любит воду,
обновляй воду,
поливай богульник.
под новый год
какая-то умница
(или умник)
хорошо придумали,
а главное – вовремя.
хлопаю стоя,
стонем и хлопаем.
дела в приоритете:
не потерять себя,
не потерять себя,
себя не потерять.
но для начала
давай поедим
и починим кровать
5
я бы если могла
обняла тишину
а она бы меня
в ответ обняла
шепнула на ухо
без звуков слова
слова ни о чем
покоя слова
6
если вдруг ты умрешь,
я возьму острый нож
и отрежу себе
палец.
но дилемма получится сложной:
без тебя жить нельзя,
а без пальца,
выходит, что можно
7
на три этажа выше
панической атаки,
похмелья,
глаз, засыпанных песком,
надрывается ребенок.
пока не знает,
что ничейный.
узнает —
замолчит
8
налево – не Прага уже,
налево – неясное мне,
там светят огни на горе,
гора утыкается в месяц.
мы в доме живем деревянном
и с садом на заднем дворе,
сегодня послышалось мне,
что сверху игра на рояле.
но мне не послышалось,
вправду – играет владелица дома.
ты – голый напротив меня,
и все в тебе очень знакомо.
знакомые ребра и нос,
знакомый лобок и соски,
знакомые руки и брови,
а взгляд вот почти не знаком.
секс сексом, а это– серьезно.
серьезно и страшно смешно.
ты – голый, ногами схвативший,
звучит то рояль, то затишье,
и этот престранный момент
заказан для наших дыханий
под аккомпанемент.
– с ума б не сойти! —
хохочет в гробу
эрик сати.
старушка стучит по роялю.
надеюсь, что стоны твои
ей либо не очень слышны,
либо
хотя бы
радостны
9
мой личный кредит доверия —
мокрый серый снег, тающий,
как деревенское поверье
в двадцать первый век.
мои мысли бывают такими,
что их точно нельзя печатать,
а иначе должностные лица
посадят в клетку, как птицу.
мой внутренний стержень,
кажется,
размягчается от любви.
умри ты, ты умри, умри и ты,
а я превращу всех в кашицу.
моя усталость умножает силу.
проживу еще лет двадцать пять —
и замочу всех в сортире,
покажу всем кузькину мать.
моя боль – за себя и за бедных,
за слепоглухонемых детей,
мертвенно спящих птиц,
свисающих с труб медных.
мои стихи нескладные.
я будто ем слова головой,
а потом меня тошнит.
но когда протошнишься,
всегда становится легче,
это истина взрослых,
как одеяльник в пододеяло заправлять
10
сколько съесть мелатонина,
чтоб забыть про все тонины,
выпитые мной?
сколько безразличия
в рамочки приличия
нужно запихнуть?
снится сонный паралич:
на моей кровати
лошадь и Ильич.
ничего хорошего
не приходит с лошадью
в тусклом свете ночи.
я жую стекло, крича,
взорвалась, конечно,
лампа Ильича.
конь прозрачные осколки
пьет из черной лужи —
умирает тут же.
я осколки достаю,
пол заполнен кровью.

я – живу,
Ильич коня
искромсал любовью
11
ты-то, может, и извернешься,
погладишь санитарку по упругим косам,
примешь таблетки, закуришь в толчке,
но из себя изгнать дурку не так-то просто.
ну, представь. вот дома, в них огни,
где-то свет, где-то темень,
за спиною шаркает что-то
и дышит.
кажется – может, все же листья
провожают в последний путь?
но дыхание нарастает,
сила выдоха-вдоха крепнет,
шаги настигают осенние ботинки.
неоткуда, но хочется проснуться,
посмотреть, кто настойчиво намеревается
забрать у тебя что-то, хотя вроде пуст,
и ты решаешь обернуться.
зеленый куст с синим отливом
расшаркивается на ветру.
надоедают социальные игры,
я (ты/мы) бегу, отрываю ни в чем
не повинные веточки.
мой баллон наготове,
но из куста вылезает рука.
это моя рука.
вот родинка.
вот мама случайно ошпарила кипятком.
я сажусь напротив, я страшно напуган,
мне (который из кустов) нужна помощь.
и я опять его вытягиваю.
и я опять себя вытягиваю.
и я опять себя насилую.
и я опять себе доверяюсь.
и я опять предаю сам себя.
и я опять говорю, что диагноз – не я,
но по правде я в это не верю
/из цикла с Женей/
13
мне кажется я
того
мне кажется
я умираю
мне говорят
что за жуть
но ведь нет
никого
отвечаю
никого
никого
никого
кто бы знал
про тот свет
хоть чуть-чуть.

может съем я салат
и закрою глаза
навсегда.
есть могилы
кладбищенский мох
он молчит
а могилы подавно.
но мое ощущение
кричит
что все те, кто мертвы, —
мотыли.
что марина – мотыль
саша – тоже мотыль
паша – точно мотыль
мои бабушки, дедушки —
все мотыли.
крылья их так красивы
прозрачны
чисты
а тельца толстопузы.
если нет достоверного знания
что случается с теми кто умер
то мои представления
не без основания
могут быть
очень даже
верны

14
голуби жадно жрут
потому что холодно
другого голубя.
снег разлетается вбок
красиво.
зима в России
15
мой ум
всегда
стремится в дом
моя квартира
это он
моя любовь —
та тоже он
там чайных чашек
перезвон.
моя душа
которой нет
готовит на двоих обед
и все сердечные
сосуды —
посудомойка
для посуды.
все естество мое —
кровать.

ее не надо заправлять
у изголовья
ваза лилий.
и одеяло
в одеяльнике
само
так просто
без усилий.
я путешествовать могу
но быть кочевницей
мне чуждо.
в дороге
удивительного много
растут там камни на лугу.
сорву один-другой плитняк
расхорошившийся, как мак,
и потащу находки в дом
чтобы сказать тебе:
любовь!
смотри, что я нашла в дороге!
а ты
уставший ждать
скучавший
меня в охапку
на пороге —
и в кровать
16
у креста появился крест.
крест все тащит его вес,
закопать, да в густой лес.
хочет крест свой проклятый крест
распилить и тащить на развес.
чтоб торчал из земли этот крест,
чтоб уверен был тот, первый крест,
что подземный червяк его съест.
потому что один из крестов
был из камня,
второй – телесов.
потому что второй из крестов
был из мяса,
дождя и сверчков
17
я еду на аисте
и диазепаме
мокрые псинки
бегут под ногами
в одной руке руль
в другой булка хлеба
мой велик как небо
синюшный как небо
мне вновь десять лет
и нету расстройства
и нету расстройств
и нету расстройства
собачки мокрющие
цапают пятки
я их раскопала
на маминой грядке
мой аист велик
он многим важнее
чем все мои важные
супер-идеи
мой аист вперед
с собачками скачет
концепции злые
нам в спину судачат
мы всадники неба
мы пьем простоквашу
мы дети запыленных
малоэтажек
грибничьим дождем
нам все нипочем
не растем ни умрем
ни умрем не растем
18
похороните меня
под камнями,
трескучими ветками,
морскими солями.
мне-то без разницы
а природе – приятно
19
никакого фронта
никаких полей

в мое отсутствие
цветы полей
и кота покорми.
я не вернусь
потому что
нет никакого фронта
нет никаких полей.
и выстрелы невидимы
и солдаты не кричат
и на полях не рисуют
сердечки.
я не вернусь.
в моем сердце
ветряные мельницы
в твоем сердце
упал самолет
(Тимуру)
20
вознесенский переулок
мы идем в парк трогать уток
или звался он проспект
ты мой лучший человек
я твоя собачка герда
улыбаюсь я усердно
ты мой лучший человек
я одна а здесь ковчег
покормили гордых уток
целовались пол минутки
дома я сварила гречку
у тебя болела печень
перед сном тебя в обнимку
ты сопишь и я соплю
я не знала этой ночью
что я с трупом задремлю
ты проснулся утром рано
это было очень странно
встал качнулся и упал
тут и начался сериал
говорю а что случилось
ну-ка высуни язык
я звоню в ноль три ты понял
ляг лежи сдавила крик
подожди не надо скорой
говоришь слюну роняя
я тебе все расскажу
я не то чтоб обвиняю
но понятно и ежу
что я жить с тобой устал
и вообще устал я жить
я пытался все закончить
чтобы всех не изводить
перед сном я выпил пачку
дозу я не рассчитал
ты бы раз проснулась с трупом
согласись хорош финал
мне не то чтобы есть дело
до того как будешь жить
мое тело надоело
моим духом дорожить
слезы проступили на гердиных букашечьих
глазах. у некоторых собак бывают глаза, как
две маленьких черных пуговицы. у герды
были именно такие. что жеэто, получается —
я могла проснуться с холодным, может быть,
даже разбухшим и противно пахнущим
трупом? а что я ела бы? кого обнимала бы
перед сном? он об этом не подумал? почему
он об этом не подумал? почему не отполз, как
кошка, умирать в самый дальний угол? чтобы
я этого не видела? разве это любовь?
а что, осенило герду, если человек хотел
умереть именно рядом с ней. чтобы
последнее воспоминание было связано с ее
прерывистым храпом и теплом ее гладкой
шкурки. наверное, одному умирать тяжело.
герда заскулила и сиганула в окно. первый
этаж пятиэтажки. ей надо было подумать. под
раздачу попали маленькая птичка – герда
случайно придушила ее, играя – и соседский
кот, решивший посмеяться над гердиной
трагедией и оставшийся без кончика хвоста.
герде надо было подумать.
и она подумала.
жить без хозяина спокойнее, потому что
никто, кроме тебя самой, не норовит умереть.
герда сбежала.
хозяин прожил долгую, скучную жизнь,
рассказывая своим скучным друзьям
пронзительную историю о том, как его
любимая собака ни с того ни с сего
выпрыгнула из окна и оставила его одного.
в этой истории было много саможаления
и мало правды.
конец.
22
я ничто и никто
превращенная в склизкое тесто
я цепляюсь краями
помоги помоги
посиди посиди
вот же утро мы заспаны яндекс такси
я не чистила зубы невеста
ты лицо не умыл ты мой муж.
посиди посиди в склизком мире
из липкого теста
плохо с каждым людским существом
но с тобою не так омерзительно вместе
мне с тобой ничего.
расшибить об асфальт
кулаки и убогую рифму
чтобы каждое слово
подохло
чтобы в муках
сложилось в могилу.

я не стану ни ссать ни плевать
моя месть этим
бл..ским словам будет хуже
вместо теплой живительной лужи
на могиле словам
никогда
и никто
не проронит ни слова.
никому не скажу где покоится
сучья могила
и цветы приносить я не буду
просто сразу
слова схоронив
я участок
плиту
да и кладбище тоже
забуду
23
целостность – это
Ось Целая
по которой вращается
целая ось
зануда —
это нудистский
плоский
голый зад
страсти христовы —
это хризантемы
на страстном бульваре
в крови
ломовая лошадь —
это человек
которого оседлал
Ошо
прелюбодеяние —
это предлог
чтобы делать
любовь
сомнения —
это мнение сома
о собственном «я»
круговорот —
это ворота
в круглый рот
безумие —
это мумия
которая без ума
от своего наряда
очарование —
это
вор
роет ров
в тюрьме
24
десять тысяч счастливых дней
звучат угрожающе-подло.
обещания – атавизм,
его создателю перерезали горло,
по крайней мере,
очень на это надеюсь.
пушистый черный комок
подбежал ко мне доброутрить.
хозяйка – здесь!
хозяйка —
жива,
ура!
хозяйка – веди меня срочно есть!
однажды комок умрет,
протянув свои слабые лапки.
я пойду его хоронить в лес у дома,
там и найдут невидимку-закладку.
десять тысяч счастливых дней —
поганая мерзость,
десять тысяч счастливых дней
претендуют на некую редкость.
что ты помнишь, хозяйка, про счастье?
бутоньерку с лавандой? в обнимку слезы?
фату из фикспрайса? когда опровергли рак?
мое тотемное животное – собака,
которую избивали две тысячи девяносто
с копейками дней,
но она сохранила веру.
мне двадцать восемь.
стена из фанеры.
мне нужно следить за сном
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?