Текст книги "Марина Цветаева. По канату поэзии"
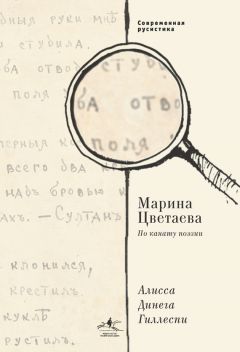
Автор книги: Алиса Динега Гиллеспи
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Ангельская муза: «Стихи к Блоку»
Стало общим местом считать, что Цветаева почитала Блока как поэта-демиурга. Ариадна Эфрон первая заметила, что чувства ее матери к Блоку приняли необычную форму квази-религиозного поклонения: «Блок в жизни Марины Цветаевой был единственным поэтом, которого она чтила не как собрата по “струнному рукомеслу”, а как божество от поэзии, и которому, как божеству, поклонялась»[65]65
Эфрон А. О Марине Цветаевой. С. 89.
[Закрыть]. Действительно, структурную основу «Стихов к Блоку» составляет апофеоз Блока как поэта-мученика, поэта-Христа и падшего ангела. Однако эти образы заимствованы из поэзии самого Блока, следовательно, их присутствия в цикле Цветаевой недостаточно для доказательства того, что она обожествляет своего поэтического адресата. Напротив, если рассмотреть всю совокупность смыслов, к которым она подверстывает эти ангельские образы, становится очевидно, что основная цель этого цикла – не курение фимиама Блоку, а личное поэтическое самоопределение в тени его возвышающейся, сияющей фигуры. Точнее, главной угрозой зарождающейся у Цветаевой уверенности в себе служит иконическое соединение в Блоке поэзии и жизни. В поэтике Блока она видит то трансцендирование тела (т. е. пола) и ту сублимацию эротического желания, к достижению которых стремится сама.
«Имя твое – птица в руке…» – стихотворение, открывающее блоковский цикл Цветаевой, представляет собой изысканную медитацию на звучание имени Блока и вызываемые им многочисленные ассоциации[66]66
Цикл «Стихи к Блоку» 1916 года состоит из восьми стихотворений, впервые напечатанных в сборнике Цветаевой «Стихи к Блоку» (Берлин, 1922), а затем в сборнике «Версты: Стихи. Вып. 1» (Москва, 1922). Я рассматриваю исключительно эти восемь лирических текстов, а не стихотворения, написанные в 1920–1921 гг. под шапкой того же посвящения. Критический анализ первого блоковского цикла можно найти в следующих работах: Sloane D. A. «Stixi k Bloku»: Cvetaeva’s Poetic Dialogue with Blok // New Studies in Russian Language and Literature. Columbus, Ohio: Slavica, 1986. P. 258–270; Озернова Н. В. «Стихи к Блоку» Марины Цветаевой // Русская речь. 1992. № 5. Сент. – окт. С. 20–24; Field A. A Poetic Epitaph: Marina Tsvetaeva’s Poems to Blok // Triquarterly. Spring 1965. P. 57–61; Поллак С. Славословия Марины Цветаевой: (Стихи к Блоку и Ахматовой) // Марина Цветаева: Труды 1-го международного симпозиума / Ed. Robin Kemball. Bern, Switzerland: Peter Lang, 1991. P. 179–191; две статьи Л. В. Зубовой: 1) Семантика художественного образа и звука в стихотворении М. Цветаевой из цикла «Стихи к Блоку» // Вестник Ленинградского университета. Серия истории, языка и литературы. 1980. № 2. С. 55–61; 2) Традиция стиля «плетение словес» у Марины Цветаевой: (Стихи к Блоку 1916–21 гг., Ахматовой 1916 г.) // Вестник Ленинградского университета. Серия «История. Язык. Литература». 1985. Вып. 9. № 2. С. 47–52; Голицына В. Н. М. Цветаева об Ал. Блоке (цикл «Стихи к Блоку») // Биография и творчество в русской культуре начала ХХ века. Блоковский сборник. Вып. IX. Уч. Записки Тартуского государственного университета. Вып. 857. Тарту, 1989. С. 100–102; Таубман Д. «Живя стихами…» Лирический дневник Марины Цветаевой. С. 110–115; Chvany C. V. Translating One Poem from a Cycle: Cvetaeva’s «Your Name is a Bird in My Hand» from «Poems to Blok» // New Studies in Russian Language and Literature. Columbus, Ohio: Slavica, 1986. P. 49–58; Hasty O. P. Tsvetaeva’s Onomastic Verse // Slavic Review. 1986 (Summer). Vol. 45. № 2. P. 245–256. Два последних исследования посвящены преимущественно первому стихотворению цикла.
[Закрыть]. В эти звуковые параллели Цветаева вплетает темы поэзии Блока и таким образом возводит его поэтический гений и весь его поэтический путь к первичному звуковому кокону, с самого начала его заключавшему и породившему: Б-Л-О-К-Ъ[67]67
Цветаева вполне всерьез верила, что судьба поэта может быть вычитана из его/ее имени; во множестве произведений она рассуждает о значениях, заложенных в именах других поэтов и в ее собственном (имя «Марина» она ассоциирует то с русским «море», то с латинским выражением «memento mori», с Мариной Мнишек и с пушкинской Мариулой). Увлекательной и богатой теме ономастической поэтики Цветаевой посвящены следующие исследования: Hasty. Tsvetaeva’s Onomastic Verse; Горбаневский М. В. «Мне имя – Марина…»: Заметки об именах собственных в поэзии М. Цветаевой // Русская речь. 1985. № 4. Июль – август. С. 56–64; Петросов К. Г. «Как я люблю имена и знамена…»: Имена поэтов в художественном мире Марины Цветаевой // Русская речь. 1992. № 5. Сентябрь – октябрь. С. 14–19; Forrester S. Not Quite in the Name of the Lord: A Biblical Subtext in Marina Cvetaeva’s Opus // Slavic and East European Journal. Summer 1996. Vol. 40. № 2. P. 278–296; Knapp L. Tsvetaeva’s Marine Mary Magdalene // Slavic and East European Journal. Winter 1999. Vol. 43. № 4. P. 597–620.
[Закрыть]:
Имя твое – птица в руке,
Имя твое – льдинка на языке,
Одно единственное движенье губ,
Имя твое – пять букв.
Привлекая внимание к написанию имени Блока, Цветаева фиксирует присутствие в его конце немого твердого знака – черты дореволюционной орфографии. Этот знак, который есть, но не слышен, подобно духу поэта – невидимой ауре видимой фигуры – превращается в этом контексте в знак невыразимого блоковского гения. Можно предположить, что твердый знак в имени Блока играет ту же роль, что имя Блока в стихотворении Цветаевой: имя Блок, нигде в стихотворении прямо не артикулируемое, просвечивает в многочисленных отзвуках и полу-рифмах и таким образом служит своего рода немым знаком, свидетельством того, что и она сама принадлежит к избранникам поэзии.
Бурная парономастическая игра с именем имеет своей целью также замаскировать семантические импликации самого имени, значение «блока» как преграды, блокады, непреодолимости. Несомненно, что эти семантические оттенки не ускользнули от Цветаевой с ее сильным чутьем на этимологию по созвучию – особенно если иметь в виду, что акустически-семантическое раскрытие имени Блока составляет основное содержание стихотворения. Можно сказать, что эти смысловые оттенки настойчиво присутствуют самим фактом своего отсутствия: само имя поэта Блока указывает на непреодолимое препятствие на пути Цветаевой к обретению собственного поэтического голоса, препятствие, которое она отказывается признавать и пытается преобразовать. Цветаева как бы играючи упражняет свое поэтическое остроумие и так заглушает угрозу, таящуюся для нее в имени Блока, извлекая из преломляющихся отголосков этого имени целый комплекс альтернативных образов и значений.
По первому впечатлению, образная система стихотворения «Имя твое…» представляет собой произвольную констелляцию разрозненных объектов, порожденных, с одной стороны, чисто звуковыми реминисценциями имени Блока – губ, букв, висок, курок, звонко, громкое, век, снег, глоток, глубок – и, с другой, образными реминисценциями поэзии Блока – птица, льдинка, снег, бубенец и т. д. Однако более внимательное чтение показывает, что образность стихотворения плотно сосредоточена вокруг одной темы – стоического перенесения боли. Более того, это боль одного характерного типа: птица, трепещущая в руке (и, вероятно, вонзающая коготки и бьющая клювом), кусочек льда на языке, тугой удар пойманного мяча о ладонь, серебряный бубенец во рту, камень, рассекающий поверхность пруда (так это ощущает пруд), удары лошадиных копыт (так это ощущает мостовая и слышит ухо), щелкающий в висок курок, поцелуй в снег, ледяной глоток, – все эти образы передают особый момент перехода, когда ощущение, которого ждешь как удовольствия, моментально усиливается и, переходя грань, превращается в неудобство, насилие или боль. Таким образом, перенесение боли для Цветаевой амбивалентно: это смакование удовольствия, которое еще длится, пока радость превращается в муку. Воздействие поэтического слова Блока на ее восприимчивый слух и чувства имплицитно соотносится с этим двойственным переживанием удовольствия в боли.
Интенсивность этого переживания превосходит обычное поэтическое воздействие. При еще более пристальном чтении текста становится ясно, что физическое ощущение, лежащее в основании каждого из образов стихотворения, составляет лишь вторичное воздействие в составе общего эффекта боли. Важнее то, что каждый из этих образов схватывает мгновение неостановимого движения в пространстве и времени: птица улетит, льдинка растает, мячик будет брошен, камень уйдет под воду, лошадь ускачет и ее не будет слышно, пуля не вернется в дуло пистолета, снег растает, ледяная вода будет выпита (а жажда возобновится). Имя Блока – как заместитель его поэзии – постоянно летит и ускользает: его нельзя ухватить, остановить, им невозможно овладеть. Однако именно попытка схватить, остановить, овладеть составляет тот импульс, который лежит в основании стихотворения и цикла в целом, – и это прекрасно осознает сама Цветаева: отсюда болезненная парадоксальность поэтических образов. «Стихи к Блоку» фиксируют поэтическую попытку прикоснуться к Блоку, поймать его, неуловимого и неприкасаемого, – и осознание бесполезности этой затеи. Страдальческий вскрик в последней строфе стихотворения («ах, нельзя!») основан на двойном значении слова нельзя, в сжатом виде выражая как трансгрессивный характер поэтической попытки «поймать» Блока, так и безнадежную неосуществимость этой попытки. Вот почему все первое стихотворение цикла пронизано неостановимой дрожью напряжения и крушения. Как ни старается Цветаева погрузить в перифразы тот «творческий блок», который создает на ее пути облик (имя) другого поэта, она продолжает сталкиваться с ним напрямую.
В стихотворении «Имя твое…» Цветаева желает Блока неприкрыто, бесстыдно, невозможно – не так, как поэт ждет появления музы, а как женщина жаждет возлюбленного. В сознании Цветаевой эротизм Блока метафоричен, абстрактен, трансцендентен, очистителен и эфирен, как полет вдохновения; ее же собственное желание – желание настоятельно физическое, оно неотступно, отчаянно, болезненно, зачаровано. Хотя это различие вполне может быть следствием несовпадения поэтик Цветаевой и Блока – мистицизм символизма и его сосредоточенность на потустороннем чужды Цветаевой с ее страстью к конкретным явлениям как исходной точке поэзии – она решает интерпретировать свое отличие от Блока исключительно как результат гендерного различия. Собственно, этот выбор вполне созвучен обычному для Цветаевой сближению сексуальности и гендера, привычке объяснять свои беззаконные страсти как естественное следствие своего «неправильного» пола. Таким образом, желание преодолеть пол здесь переосмысляется как стремление нейтрализовать эротическое желание к Блоку, свидетельствующее о ее женской природе:
Имя твое – ах, нельзя! —
Имя твое – поцелуй в глаза,
В нежную стужу недвижных век,
Имя твое – поцелуй в снег.
В соположении страстного поцелуя в снег и целомудренного поцелуя закрытых век умершего зашифрована вера Цветаевой в призвание поэзии сублимировать чувственную страсть. Здесь перед нами эротизм, парадоксальным образом лишенный эротического: она стремится использовать могучую силу эротизма в своей поэзии, одновременно нейтрализуя его чувственные человеческие смыслы. Ради этого в «Имя твое…» она замещает ощущения поцелуя в губы ощущением имени на языке, а сон рядом с реальным любовником – сном с поэтической мечтой: «С именем твоим – сон глубок»[68]68
Стихотворение Цветаевой 1920 года «Земное имя» (1: 548) – пространное рассуждение о неутолимой духовной тоске, которая подталкивает к замене телесного желания «земным именем» и является ее следствием.
[Закрыть].
«Сон», который навевает имя Блока, – это поэтический вымысел, который реальнее самой жизни. Здесь ключ к пониманию особой цветаевской разновидности поэтической сублимации, приводящей ее к хитроумной поэтической победе. Ведь для нее сублимация желания – это вовсе не сублимация в обычном смысле, но переосмысление реальностей: самим актом артикулирования недоступности возлюбленного (здесь – Блока) она, силой своего поэтического гения, всецело овладевает им и таким образом вовлекает его в сон, который объявляет их общим (ведь сон носит его имя). Проговорив в стихах «неуловимость» объекта, она окончательно его улавливает. На самом деле, в стихотворении присутствует не только очищенная сущность Блока, но и его голос: в форме заимствований из его поэзии. Данное Дэвидом Слоаном описание «Стихов к Блоку» как «диалога, осуществляемого одним единственным артикуляционным аппаратом»[69]69
Sloane D. A. «Stixi k Bloku». P. 261.
[Закрыть], подходит для описания того онтологического маневра, который совершает Цветаева в «Имя твое…» и в цикле в целом. Однако этот мнимый «диалог» остается беспримесно воображаемым. Как Блок доступен для Цветаевой лишь через полное признание его безнадежной недоступности, так и приблизиться к нему она может лишь в пределах волшебного пространства поэзии. Само упоение диалогом – следствие этой его невозможности.
То, что отношение Цветаевой к Блоку в «Имя твое…» имеет исключительно воображаемый характер, раскрывает его как архетипическое отношение поэта к музе – конечно, с очевидной переменой гендерных ролей[70]70
Прибегая к сходной аргументации Кэтрин Чепела убедительно показывает, что в «Стихах к Блоку» «полу-обожествляющее, полу-эротическое обращение <Цветаевой к Блоку> подражает отношению самого Блока к Прекрасной Даме. В этом цикле Цветаева превращает Блока в образ символистской музы» (Ciepiela C. The Same Solitude: Boris Pasternak and Marina Tsvetaeva. Ithaca, NY and London: Cornell University Press, 2006. P. 33).
[Закрыть]. Эта перемена имеет свои последствия. Если у Пушкина в стихотворении «Что в имени тебе моем?..» поэзия воплощается в собственном имени поэта, тогда как его муза безымянна и обозначена лишь местоимением, то у Цветаевой в рассматриваемом стихотворении, напротив, именно имя музы-мужчины придает поэтическую легитимность[71]71
Роман Якобсон анализирует систему местоимений в этом стихотворении в своей статье «Поэзия грамматики и грамматика поэзии» (Jacobson R. Selected Writings / Ed. Stephen Rudy, The Hague: Mouton Press, 1981. Vol. 3. P. 78–86). К месту здесь и проницательное наблюдение Моники Гринлиф, что это пушкинское стихотворение можно рассматривать, по существу, как «перечень <…> теорий языка как эпитафии, языка как фрагмента, интерсубъективной теории языка, – инструкцию своим прежним поклонникам и будущему читателю» (Гринлиф М. Пушкин и романтическая мода / Пер. М. А. Шерешевской и Л. Г. Семеновой. СПб.: Академический проект. 2006. С. 55–56).
[Закрыть]. Имя Блока – иероглиф, в котором заключен целый комплекс взаимоотношений, порождающих поэтическое вдохновение; это имя – вроде черного цилиндра, из которого Цветаева жестом фокусника вытягивает спутанный пучок разноцветных лент – составляющих ее поэзии: любовь, эротизм, желание, удовольствие, боль, неосуществимость, недоступность, невыразимость, трансценденция и т. д. Избирая Блока в качестве своей музы, она превращает жанр почтительного панегирического подношения в «неженскую» попытку самоутверждения и даже доминирования. Мне отнюдь не кажется, что эта стратегия дает основания говорить о мегаломании Цветаевой или о ее болезненном нарциссизме[72]72
Диагноз уязвленного нарциссизма служит ключевой концепцией в психоаналитическом исследовании Цветаевой, написанном Лили Файлер; не используя сам термин «мегаломания», она утверждает, что у Цветаевой депрессия «может быть на время преодолена ощущениями “грандиозности” – превосходства и презрения» (Feiler L. Marina Tsvetaeva: The Double Beat of Heaven and Hell. Durham, N. C.: Duke University Press, 1994. P. 4).
[Закрыть]. Здесь дело в другом: своим дерзким обращением к старшему поэту-мужчине она обнаруживает тот факт, что традиционное представление о поэтическом вдохновении содержит скрытую связь поэтической власти и пола – таким образом, она самим ходом своей мысли вскрывает нарциссизм, свойственный занятию поэзией. Этот нарциссизм необходим, чтобы ей – как юному поэту и особенно как поэту-женщине – решиться пропеть хвалебную песнь великому Блоку, чье имя для нее, в конечном счете, есть синоним самой поэзии.
Однако Цветаева заранее знает, что нарушения гендерных и жанровых ожиданий не достаточно, чтобы найти выход из блокирующей ее поэтическое развитие проблемы вдохновения: «Имя твое…» все проникнуто ощущением напряженного стремления к недостижимому и соответствующей фрустрации. Удивляться тут нечему, ведь Блок не может быть для нее музой ни в каком отношении – он не является ни чисто абстрактной силой поэтического вдохновения, ни физическим воплощением этой силы в человеческом теле. Подлинная муза – это эманация судьбы подлинного поэта: она существует только для того, чтобы служить его вдохновению и не обладает самостоятельными потребностями или ипостасями; даже когда она покидает поэта, эта роковая необходимость предопределена нуждами его поэзии. Ностальгический союз поэта с музой не разбивается при их расставании, а становится только крепче, как в стихах Пушкина: «…есть память обо мне, / Есть в мире сердце, где живу я». Вся судьба музы исчерпывается в рамках стихотворения, сохраняющего ее след; а ее личное имя, голос и всякая самостоятельная идентичность, которой она могла бы обладать, совершенно не важны. В «Имя твое…» эта структура поэтической власти перевернута. Лишена имени, анонимна Цветаева, обладатель лирического голоса – а Блок, ее предполагаемая муза, к ней просто равнодушен, не имея ни малейшего представления о ее существовании. Блок никак не может быть судьбой для Цветаевой. Блок – поэт, он сам себе судьба.
Получается, что для Цветаевой в «Имя твое…» невозможен поэтический апофеоз такого же рода, какого достигает в своей поэзии сам Блок. Его трансцендирование происходит благодаря Прекрасной Даме, по-видимому, самой известной музе русской литературы, тогда как Цветаева остается вообще без настоящей музы. Она не ангел (в отличие от Блока, каким он ей представляется), а женщина. Ее поэтический гений раскроется не через трансцендирование, а только через неутолимое желание, через трансгрессивную чувственность, связанную, как она считает, с ее гендером[73]73
Ольга Питерс Хейсти замечает, что орфический миф может быть с равным успехом интерпретирован и как трансценденция, и как трансгрессия: «Эта амбивалентность не ускользнула от Цветаевой, которая противопоставляет Орфея то Христу – эмблеме благодати, то влюбленному мóлодцу-вампиру – эмблеме проклятия. Прототипическому поэту впору обе эти маски» (Hasty O. P. Tsvetaeva’s Orphic Journeys. P. 82).
[Закрыть]. Ариадна Эфрон весьма проницательно пишет о том, как Цветаева осознавала эту дилемму:
«Творчество <…> Блока восприняла Цветаева как высоту столь поднебесную – не отрешенностью от жизни, а – очищенностью ею (так огнем очищаются!), что ни о какой сопричастности этой творческой высоте она, в “греховности” своей, и помыслить не смела – только коленопреклонялась»[74]74
Эфрон А. О Марине Цветаевой. С. 90.
[Закрыть].
Приходится предположить, что та неотменимая «греховность», о которой пишет Ариадна Эфрон, это не что иное, как принадлежность Цветаевой к женскому полу. Невозможность для Цветаевой совершить блоковское очищение жизнью связана с ее женской природой, которую она отождествляет с телом, даже яростно восставая против этого отождествления. Принадлежность к женскому полу – «первородный грех» ее рождения – вероятно, это ей внушили еще в раннем детстве, поскольку ее мать ждала сына[75]75
Ср. трагическую начальную фразу эссе «Мать и музыка» (5: 10).
[Закрыть].
В «Имя твое…» Цветаева осознает дистанцию между собой и Блоком, она обнаруживает, что собственный ее талант требует нарушать правила и претендовать на то, что ей не принадлежит, желать того, чего нельзя желать, – эти открытия сыграли важную роль в процессе ее поэтического созревания. Сделав здесь отступление и обратившись к поздним мемуарным эссе Цветаевой 1930-х годов, мы сможем поместить этот мучительный эксперимент по обретению вдохновения, который Цветаева поставила в «Имя твое…», в более широкий контекст ее поэтического и личного взросления; это стихотворение – не изолированный случай, а архетип глубоких убеждений поэта, связанных с темами безнадежной любви и неуместного желания, архетип, происходящий из ее самых ранних воспоминаний и на протяжении всей жизни оказывавший формирующее воздействие на ее творчество. В последующих примерах невозможная страсть направлена не на самого поэта, как в «Имя твое…», а его музу.
Три музы, о которых пойдет речь, появляются в трех разных текстах: Ася Тургенева в воспоминаниях Цветаевой об Андрее Белом «Пленный дух», Татьяна Ларина в эссе «Мой Пушкин» и Надя Иловайская в мемуарном тексте «Дом у Старого Пимена». Все эти три женщины приобретают в восприятии Цветаевой мифологический масштаб[76]76
Для Цветаевой любое существо, оказывающее влияние на ее творческое существование, приобретает мифический статус, тогда как все остальные воспринимаются как просто не существующие, «отходы» реальной жизни: «так как всё – миф, так как не-мифа – нет, вне-мифа – нет, из-мифа – нет, так как миф предвосхитил и раз навсегда изваял – всё» (5: 111).
[Закрыть], и каждая побуждает ее осознавать с новой остротой безнадежную запутанность соотношения в ней самой пола и дара. В мифопоэтических описаниях всех трех встреч Цветаева смотрит на своих возлюбленных, пользуясь поэтическим инструментом – мужским глазом. Она женщина, но не так красива, какой следует быть женщине, и поэтому сама не является объектом любви. Более того, поэтический дар, которым она наделена, лишил ее возможности счастливой, взаимной любви, возмещенной, впрочем, ясновидением. Для нее эти три прелестные девушки – Ася, Татьяна и Надя – воплощения музы (даже с вымышленной Татьяной Лариной она впервые сталкивается во плоти – в школьной инсценировке), и, верная своей поэтической природе, она в них без памяти влюбляется. Однако эта любовь очевидно неосуществима: Цветаева – юная нескладная девица, иными словами, она и не мужчина, который мог бы их любить, и не настоящая женщина (которую можно любить – за красоту). Ее возраст, пол, внешность – все «не то».
Однако ее любовь – это не просто легкомысленная девичья влюбленность или пресная сестринская привязанность. Цветаеву терзает страсть, какую может испытывать только прирожденный поэт, поэт, еще не знающий о своем призвании; это истинно поэтическая любовь, вдохновленная утратой и полной безнадежностью, как она определяет ее в «Моем Пушкине»:
«Пушкин меня заразил любовью. Словом – любовь. <…> Когда горничная походя сняла с чужой форточки рыжего кота, который сидел и зевал, и он потом три дня жил у нас в зале под пальмами, а потом ушел и никогда не вернулся – это любовь. Когда Августа Ивановна говорит, что она от нас уедет в Ригу и никогда не вернется – это любовь. Когда барабанщик уходил на войну и потом никогда не вернулся – это любовь. Когда розово-газовых нафталинных парижских кукол весной после перетряски опять убирают в сундук, а я стою и смотрю и знаю, что я их больше никогда не увижу – это любовь. То есть это – от рыжего кота, Августы Ивановны, барабанщика и кукол так же и там же жжет, как от Земфиры и Алеко и Мариулы и могилы»[77]77
Цветаева отсылает здесь к персонажам и событиям байронической поэмы Пушкина «Цыганы».
[Закрыть] (5: 68).
Все три встречи Цветаевой – с Асей, Татьяной и Надей – вызывают именно такое безнадежное томление, порожденное утратой. Прелестная Надя умирает от чахотки в двадцать два года, и только после ее смерти юная Марина по-настоящему в нее влюбляется. Надвигающееся дезертирство Аси на «тот берег» брака пробуждает в Цветаевой любовь к ней, неотличимую от физической боли: «И, странно <…>, уже начало какой-то ревности, уже явное занывание, уже первый укол Zahnschmerzen im Herzen [зубная боль в сердце], что вот – уедет, меня – разлюбит <…>» (4: 230). Боль от смертельной пушкинской раны в живот – примета той же любви, как и скамейка, на которой не сидят Татьяна с Онегиным: «Скамейка, на которой они не сидели, оказалась предопределяющей. Я ни тогда, ни потом, никогда не любила, когда целовались, всегда – когда расставались. Никогда – когда садились, всегда – расходились» (5: 71).
Образцом для Цветаевой становится Татьяна – не поэт, а литературная героиня, воспитанная на литературе сентиментализма: «Урок смелости. Урок гордости. Урок верности. Урок судьбы. Урок одиночества» (5: 71). Ольга Питерс Хейсти убедительно показала, что «Цветаева подверстывает себя к Пушкину-поэту через Татьяну-читательницу»[78]78
Hasty O. P. Pushkin’s Tatiana. Madison: The University of Wisconsin Press, 1999. P. 233.
[Закрыть]. Так Пушкин учит Цветаеву неразрывности связи между воображением и одиночеством:
«<…> поймешь, что мечта и один – одно, что мечта – уже вещественное доказательство одиночества, и источник его, и единственное за него возмещение, равно как одиночество – драконов ее закон и единственное поле действия <…>» (5: 86).
Татьяна с помощью Пушкина дает Цветаевой решимость предпочесть одиночество воображения возможной близости в реальной жизни: «Татьяна и женщины, которые берут ее за образец, сознательно провоцируют разрыв и таким образом сохраняют нерастраченной творческую энергию своего желания»[79]79
Там же. Я не совсем согласна с утверждением Хейсти, что Цветаева отходит от романтической и пост-символистской традиции, отводя «женщинам активную, ответственную роль в литературной традиции. Для нее женщины – не воплощение поэзии и не ее сущность, но также и не музы, пробуждающие творческий порыв в других». Это верно, когда Цветаева уравнивает себя с тем женским образом, который описывает, однако в иных случаях, когда ее цель – уравнять себя с поэтом-мужчиной, она занимает совершенно другую позицию (ср., например, ее исключительно невеликодушное отношение к жене Пушкина в эссе «Наталья Гончарова»; 4: 80–90).
[Закрыть]. Однако и независимо от ученичества у Пушкина, Цветаевой органически свойственно страдать от неосуществимого желания, как свойственен ей поэтический дар: «Между полнотой желания и исполнением желаний, между полнотой страдания и пустотой счастья мой выбор был сделан отродясь – и дородясь» (5: 72). Поэзия представляет для Цветаевой способ выправить неправильности реальной жизни, такие случайные обстоятельства, как заурядность лица, юный возраст, ложный пол, – все, что мешает реализации ее любви к Асе и Наде и что только усугубляет ее страсть.
Открывая для себя свою поэтическую судьбу, Цветаева одновременно находит и возможность избегнуть этих и вообще всех ограничений, возможность нового, самовольного, хотя и рокового, становления. Об этом говорят немецкие строки из Гете, которые она цитирует и в «Пленном духе», и в «Доме у старого Пимена»: «O lasst mich scheinen, bis ich werde!» [Какой кажусь, такой я стану!] (4: 231; 5: 131). Обращаясь в тексте эссе к Асе, она развивает это утверждение: «Ася, у меня, конечно, квадратные пальцы, совсем не художественные, и я вся не стою вашего мизинца и ногтя Белого (т. е. она не достойна быть ни музой, ни поэтом. – А. Д. Г.), но, Ася, я все-таки пишу стихи и сама не знаю, чем еще буду – знаю, что буду! <…>» (4: 231). По отношению к Наде Цветаева еще более откровенна: в реальном мире препятствием является не только ее внешняя заурядность, но и ее пол, от которого ее избавит поэзия (и смерть):
«<…> werde, сбудусь я там по образу своей души, то есть такая же, как Надя, а если даже нет, если даже старая оболочка… —
Und diese himmlischen Gestalten
Sie fragen nicht nach Mann und Weib, – [80]80
«И нет меж облаков небесных / Ни женских ликов, ни мужских» (нем.). Из романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера».
[Закрыть]значит, и на красоту и на некрасоту не смотрят… <…> там – отыграюсь. <…> соперников в этой любви у меня не будет» (5: 131).
Здесь, в этой жизни, убиваемая бинарной противопоставленностью Mann und Weib, теряется истинная, очищенная от телесной оболочки, душа Цветаевой. В «Моем Пушкине» она сокрушается: «Боже мой! Как человек теряет с обретением пола <…>» (5: 85). В этом мире Цветаева не может быть ни музой настоящему поэту, ни поэтом настоящей музе. Однако мечте о том, как в ином мире, свободная от рамок пола, она станет избранницей того или той, кого в этом мире любит столь безнадежно, Цветаева предается не только в воспоминаниях о покойной Наде, но и в провидении смерти Блока во втором стихотворении блоковского цикла.
Это стихотворение, «Нежный призрак…», продолжает тот сон, которым завершилось «Имя твое…» («С именем твоим – сон глубок»). Теперь, однако, Цветаева представляет себе, что Блок уже не безразличен к ее существованию. Напротив, подобно тому, как умершая Надя посылает свой призрак, чтобы разыскать девочку Цветаеву в пансионе, здесь «призрак» еще живого Блока является перед ней во сне, сообщая зашифрованную весть об опасностях и жертвах, с которыми будет сопряжена ее поэтическая судьба. Она приветствует его удивленно, с наигранным непониманием:
Нежный призрак,
Рыцарь без укоризны,
Кем ты призван
В мою молодую жизнь?
Во мгле сизой
Стоишь, ризой
Снеговой одет.
Вопрос, которым Цветаева начинает стихотворение «Нежный призрак…», предвосхищает ее вопрос к Наде в «Доме у Старого Пимена»: «Почему именно за мной ходила, передо мной вставала <…>?» (5: 133). В обоих случаях ответ, естественно, таков: причина – в будущем поэтическом величии Цветаевой. Таким образом, фантазируя об особой миссии Блока явиться именно ей, она имплицитно преобразует свое неудовлетворенное эротическое желание к нему в уверенность в своей поэтической избранности – в области сна, за пределами вопросов о правдоподобии факта и вымысла. Позже ту же пророческую роль будет играть блоковский всадник на красном коне.
Вся образность стихотворения «Нежный призрак…» работает на сценарий сна. Блок появляется во мгле, одетый снегом; опасность «вражды», которую он представляет для Цветаевой, ощущается как ветер, влияние его поэзии – как сглаз. Даже сама она, зачарованно приближаясь к нему, утрачивает телесность, она не ступает, а скользит, не отрывая слуха от его соблазнительного поэтического волхования:
Голубоглазый
Меня сглазил
Снеговой певец.
Снежный лебедь
Мне под ноги перья стелет.
Перья реют
И медленно никнут в снег.
Так по перьям,
Иду к двери,
За которой – смерть.
Зовущий Цветаеву голос Блока не принадлежит человеку, это чистый звук или музыка, описываемая то как «бубенцы далекие», то как «длинный крик, лебединый клик»[81]81
В этом лебедином клике могут обыгрываться одновременно несколько ассоциаций. По легенде лебедь поет только однажды, перед смертью; таким образом, Цветаева говорит о том, что поэзия Блока была своего рода «лебединой песней» – незабываемо прекрасным и чарующим зовом самой смерти. Однако лебединый клик – это и мотив поэзии самого Блока, как, например, в цикле «На поле Куликовом», где крики лебедей служат предзнаменованием роковой участи. Возможно, здесь присутствует и более общая восходящая к Блоку ассоциация крыльев с поэзией. Мертвый и умирающий Блок ассоциируется с лебедем в нескольких стихотворениях цикла «Стихи к Блоку», написанных в 1920–1921 гг. Аналогичное уподобление поэта лебедю лежит в основе стихотворения Державина «Лебедь», на которое Цветаева также возможно ориентировалась.
[Закрыть]. Все, что нужно этому дивному голосу, – заманить ее, в определенном смысле зомбировав, к порогу иного мира («к двери, / За которой – смерть»), куда открыт доступ посредством его – и, возможно, ее – поэзии. Этот страшный порог, как те символические «синие окна», за которыми поет Блок («Он поет мне / За синими окнами»), для него не преграда, ведь он чистый дух. Цветаева же может попасть в иной мир, только отделив душу от тела.
Вплоть до последней строки стихотворения кажется, что Цветаева, глядя на пример Блока, ощущает опасность этого поэтического предприятия, хотя и продолжает следовать логике сна, не в силах отвергнуть зов поэзии. Однако и здесь она, по обыкновению, лишь делает вид, что покоряется принуждению, – в последней строке стихотворения есть намек на то, что на самом деле эта экзистенциальная ловушка выбрана и устроена ею самою – устроена именно из слов, ибо она отвечает на пугающие заговоры Блока своими словами:
Милый призрак!
Я знаю, что все мне снится.
Сделай милость:
Аминь, аминь, рассыпься!
Аминь.
Определение призрак – так Цветаева именует Блока в первой и последней строфах – колеблется в пространстве стихотворения между двумя значениями: иллюзия и привидение, что отвечает неопределенности цветаевского видения: оно находится меж двух областей – сна и смерти, к которым, соответственно, относятся эти значения. С повторением этого слова в последней строфе стихотворение как бы проделывает полный круг, намекая на то, что видение было лишь сном. Если так, то сон послушно рассеивается, когда Цветаева уклоняется от своей пугающей поэтической судьбы и вновь, завершая стихотворение, присягает на верность посюсторонней реальности.
В рамках этой интерпретации первые два аминь Цветаевой усмиряют угрозу, которую представляет Блок, иными словами, она отвергает поэтические чары ради традиционного христианского благочестия и опрятного и надежного пробуждения от кошмара. Однако отступление в убежище отменяется финальной строкой стихотворения – последним словом, которое одним ударом разрывает почти замкнутый ею круг, добавляя третье и последнее аминь. За ним следует не восклицательный знак, а точка: это не истерика и не страх, не молитва и не заклинание. Финальное аминь двойственно. Его можно прочесть как усиление двух предшествующих аминь, то есть, как утверждение о том, что попытки экзорсизма блоковского «призрака» не удались, а Цветаева трезво принимает ужас поэтической судьбы. С другой стороны, финальное аминь может быть прочитано как отмена предшествующих, поскольку разрыв строки, отделяющий его от первых двух, санкционирует обращение призыва «рассыпься» не к призраку Блока, а к стихотворению («сну») в целом. В таком случае, это не отрицание, а утверждение: «да будет так».
В конечном счете, несомненно здесь лишь то, что это кульминационное аминь свидетельствует о языковой власти самой Цветаевой и автономности ее поэтической воли, знаменуемой тем, что это слово составляет дополнительную, пятую строку финальной строфы стихотворения, которая, в соответствии с уже установившейся схемой (чередование катренов и терцетов), должна состоять из четырех строк[82]82
Анализ значения такого рода строфической аберрации в поэзии Цветаевой в целом см. в: Thomson R. D. B. Extra-Stanzaic Elements in the Lyric Poetry of Marina Cvetaeva // Russian Literature. 1999. № 45. P. 223–243.
[Закрыть]. Этим финальным двусмысленным поворотом значения Цветаевой удается утвердить истинность сразу обоих значений слова призрак. Она признает, что сфера поэзии есть всего лишь сон, одновременно утверждая нереальность поэзии и ее невозможность в качестве ее собственной, реальной судьбы. Так Цветаева глубже осознает, чтó стоит на кону в ее поиске поэтического призвания. Если для Блока возможно трансцендирование тела духом, подобно тому, как это происходит во сне, то в ее случае такой порыв ведет не к трансценденции, а к неизбежному кошмару, к смерти. Его поэтическая сила, его поэтический сон, его поэтический порыв для нее опасны.
Вслед за этим пришедшим к Цветаевой отрезвляющим пониманием третье стихотворение цикла, «Ты проходишь на запад Солнца…», повторяет темы, образы и мотивы первого стихотворения цикла, однако в совершенно иной тональности. Теперь Цветаева уже не сражается ни с собственной судьбой, какой она ее предчувствует, ни с недоступностью Блока. Это стихотворение исполнено спокойной уверенности в собственном будущем поэтическом триумфе, она принимает испытание «нелюбовью» – результат своего «неправильного пола» – как неотъемлемую часть своего поэтического самоопределения. Некоторые исследователи интерпретировали отказ Цветаевой произнести имя Блока и ее восклицание «Ах, нельзя!» как свидетельство того, что в стихотворении «Имя твое…» Цветаева чуть ли не богохульствует[83]83
Ольга Питерс Хейсти пишет: «Цветаева предполагает эквивалентность Блока и Бога, однако в последний момент останавливается перед кощунством, предоставляя читателю завершить строку» (Hasty O. P. Tsvetaeva’s Onomastic Verse. P. 250). В то же время Кэтрин Чвани отказывается видеть здесь даже намек на богохульство (Chvany C. Translating One Poem. P. 53).
[Закрыть]. Нежно напевное «Ты проходишь на Запад Солнца …», напротив, на первый взгляд кажется значительно более «смирным»: оно исполнено в форме молитвы и прямо заимствует первые две строки и рефрен – «свете тихий» – из образности и архаичного языка молитвы, читаемой в православном богослужении[84]84
«Вечерняя песнь Сыну Божию священномученика Афиногена» (цит. в: Chvany C. Translating One Poem. P. 58, note 8).
[Закрыть]. Дэвид Слоан, отчасти основываясь на этом сдвиге интонации, находит, что весь блоковский цикл Цветаевой мотивирован траекторией, ведущей ко все большему великодушию и самоотвержению: «Эротическая, собственническая любовь <героини>, наиболее сильная в стихотворении I, постепенно уступает место любви иного рода, сходной с религиозным поклонением и пронизанной духом соборности»[85]85
Sloane D. A. «Stixi k Bloku». P. 269. Важно отметить, что Слоан не разделяет два цикла стихов к Блоку, рассматривая все стихи Цветаевой к Блоку как единое целое.
[Закрыть].
Однако несмотря на эту видимость, трансгрессия Цветаевой в третьем стихотворении к Блоку даже более откровенна, чем в первом. Блок пробуждает в ней подлинный духовный экстаз и она бесстыдно ему поклоняется, подставляя его образ, если не имя, на место Христа в традиционной литургии. Сам отказ Цветаевой произносить в этом стихотворении имя Блока только усиливает ее желание назвать его «святым именем»; она не упоминает имени Блока всуе, ибо он в полном смысле обожествлен: «И по имени не окликну, / И руками не потянусь». На самом деле, кротость Цветаевой здесь притворна, ибо если Блок стал божеством, то это осуществилось ее поэтической волей. Поэтому чистая сила его имени в стихотворении «Ты проходишь на Запад Солнца…» гораздо сильнее, чем эротическое воздействие в стихотворении «Имя твое…», ведь теперь Цветаева уже не ищет, но берет на себя право говорить и действовать его именем в области поэзии (пусть даже в реальной жизни это ее желание оказалось нереализуемым): «И во имя твое святое, / Поцелую вечерний снег». Это ведь совсем не похоже на «религиозное поклонение» – пожалуй, более точным будет определение «негромкое богохульство»[86]86
Я не согласна с Кэтрин Чвани, утверждающей, что Цветаева во всех стихотворения блоковского цикла лишь следует безобидной традиции уподобления поэтической жертвы жертве Христовой (Chvany C. Translating One Poem. P. 53). Хотя и не говоря этого прямо, Чвани, возможно, стремится скорректировать интерпретацию Ариадны Эфрон, преувеличивающую религиозный характер поклонения Цветаевой Блоку.
[Закрыть].
В отличие от Христа, Блока на мученическую смерть обрекают не силы зла, а его собственное внутреннее лирическое стремление, и принимает он ее ради исполнения своей уникальной поэтической судьбы, а не для спасения людей. Как Цветаева напишет позже, в эссе 1933 года «Поэты с историей и поэты без истории»: «Если Блок нам видится как поэт с историей, то эта история – только его, Блока, лирического поэта, история, только лирика – страдания» (5: 409). Трансцендентность Блока видится Цветаевой альтернативой традиционной христианской вере: ее вера, ее выбор – она будет молиться поэту[87]87
Это именно тот выбор, что лежит в основе признания, сделанного Цветаевой в стихотворении августа 1916 г.: «Оттого и плачу много, / Оттого – / Что взлюбила больше Бога / Милых ангелов его» (1: 316).
[Закрыть]. Однако эта трансгрессивная религия есть в то же время новое утверждение ее веры в то, что поэзия открывает возможность единственной истинной близости – близости душ, свободных от пола, близости между человеком и человеком без посредничества всякой узаконенной божественности. Ее стремление к такого рода близости с большей ясностью выражено в стихотворении, написанном всего через несколько месяцев после «Стихов к Блоку» 1916 года: «К двери светлой и певучей / Через ладанную тучу / Тороплюсь, // Как торопится от века / Мимо Бога – к человеку / Человек» (1: 317). Здесь та же яркая поющая дверь, что была в стихотворении «Нежный призрак…», за которой находится нечто противоположное повседневной, полной запретов реальности – вселенная поэзии, зовется она смертью или как-то иначе. В конечном счете, в «Стихах к Блоку» Цветаева приходит к пониманию, что реализация обещанной встречи не важна: важно – вечно желать, стремиться, спешить к иному миру.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































