Текст книги "Марина Цветаева. По канату поэзии"
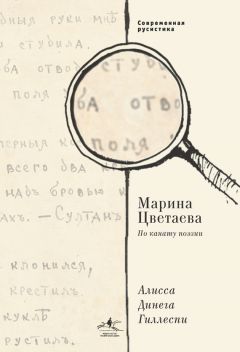
Автор книги: Алиса Динега Гиллеспи
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Поэтому в стихотворении «Ты проходишь…» Блок уже совершенно не ощущается как враг, нет упоминания и о том страдании, которое причиняет любовь к нему лирической героине Цветаевой; единственный намек на личную боль заглушается генерализующей отсылкой подтекста: «В руку, бледную от лобзаний, / Не вобью своего гвоздя»[88]88
Здесь есть и библейский подтекст, и реминисценция из стихов самого Блока («Когда в листве сырой и ржавой…» из цикла «Фаина»). См.: Sloan D. A. «Stixi k Bloku». P. 263.
[Закрыть]. В этом стихотворении Цветаева принимает и свое поэтическое призвание (о котором свидетельствует ее нереализуемая любовь к Блоку), и гендерное различие с Блоком (следствием чего является громадная дистанция между ними). Она оставляет свои сомнения, свои желания и свой бунт; она признает, что Блок не отвечает на ее страсть, и – что так часто случается с нею в подобных ситуациях – впадает в своего рода столбняк[89]89
Цветаева часто переживает отречение возлюбленного как состояние физического и эмоционального паралича, «полный физический столбняк» (5: 85).
[Закрыть]:
Мимо окон моих – бесстрастный —
Ты пройдешь в снеговой тиши…
Отсюда базовый контраст, организующий стихотворение: замершая, ошеломленная поза лирической героини (с той стороны окна, сквозь которое она уже не пытается пройти) versus Блок, пребывающий в движении, в процессе преображения. Заметание снегом его следов служит символом его постепенного развоплощения: «Ты проходишь на Запад Солнца, / И метель заметает след». А обладательница лирического голоса, напротив, не только оставляет свои следы на снегу, но и погружается всем телом в этот снег: «И, под медленным снегом стоя, / Опущусь на колени в снег». Блок перешел через страшный порог предыдущего стихотворения невредимым и очистившимся, тогда как Цветаева, не в силах сдвинуться с места, телесно остается позади, хотя душой следует за каждым его движением. В этом стихотворении нет внешнего стремления ни ко всему тому, что воплощает для нее Блок (как в «Имя твое …»), ни прочь от него (как в «Нежный призрак…»); это безмятежная интерлюдия в созерцании Цветаевой своего возлюбленного, где ноша отказа сама по себе сладка и прекрасна, хотя и приправлена горечью.

Автограф стихотворения из цикла «Стихи к Блоку»
Однако тихая досада Цветаевой проявляется в средних двух строфах стихотворения, где она прямо говорит о своем отречении и дает обет бескорыстного поклонения Блоку:
Я на душу твою – не зарюсь!
Нерушима твоя стезя.
Эти строки подернуты горечью, проявленной не только интонационно, но и в неожиданном переходе к метафорическому, духовному вожделению, которое даже в отрицании («не зарюсь») претендует на обладание ничуть не менее решительно, чем физическое вожделение в «Имя твое…». Цветаева признается в том, что желает Блока, «зарится» на него – и это признание напоминает о том, что на протяжении всего цикла отношение к Блоку служит ей аллегорией процесса собственного вдохновения, собственного поэтического становления. В таком случае, «душа» не менее, чем «тело», служит метафорой неотразимой магнетической силы, гальванизирующей порыв поэтического вдохновения. Сам глагол, которым Цветаева передает свое духовное вожделение – зариться – при этом напоминает о двойственном слове заря (утренняя/вечерняя), с которым у него общая этимология (оба слова связаны с заревом[90]90
Огонь – это для Цветаевой символ ее поэтической сущности, который воплощает непримиримость поэзии и реальности, как, например, в имеющем характер манифеста стихотворении 1918 года: «Что другим не нужно – несите мне: / Все должно сгореть на моем огне! / Я и жизнь маню, я и смерть маню / В легкий дар моему огню. // Пламень любит легкие вещества: / Прошлогодний хворост – венки – слова… / Пламень пышет с подобной пищи! / Вы ж восстанете – пепла чище!» (1: 424). Вступление Цветаевой к эссе «История одного посвящения» содержит мощное описание ее вдохновенной пиромании; огонь также играет значимую роль в ряде ее поэм, прежде всего в поэме «На Красном Коне» и в «Поэме лестницы».
[Закрыть]). Хотя это слово прямо в стихотворении «Ты проходишь…» не появляется, его семантика присутствует в пронизывающей стихотворение вечерней образности: Запад Солнца, вечерний свет, вечерний снег; более того, молитва, которой цитируется в этом стихотворении, входит в православную вечерню. Переход между днем и ночью, обозначенный словом заря, – это та самая грань горизонта «на Запад Солнца», которую пересекает Блок в этом стихотворении и которая таким образом знаменует момент достижения им поэтической трансценденции.
Обозначение поэтического пути Блока как стези расширяет эту космическую метафору, поскольку слово стезя, помимо своего библейского отзвука[91]91
В русском тексте Евангелия слово «стезя» часто используется для описания пути Христа; см., напр.: Мф. 3: 3; Мк. 1: 3; Лк. 3: 4.
[Закрыть], в словаре Цветаевой описывает огненный хвост падающей звезды или кометы. В стихотворении 1923 года из цикла «Поэты» (2: 184–186) Цветаева использует этот образ для описания кометоподобной траектории жизни поэта, послушного силе притяжения таинственных небесных сил, которых не ощущают приземленные смертные: «Планетами, приметами, окольных / Притч рытвинами… Между да и нет / Он даже размахнувшись с колокольни / Крюк выморочит… Ибо путь комет – // Поэтов путь. <…> / Твоя стезя, гривастая кривая, / Не предугадана календарем!». Уподобляя стезю Блока орбите кометы, Цветаева утверждает его оторванность от земли и земных обитателей, да и от всей нашей солнечной системы.
Впрочем, обещание Цветаевой не тревожить космическую орбиту Блока лишь кажется кротким самоотречением – на самом деле самим этим заявлением Цветаева утверждает свое небесное родство с Блоком. Она – другая одинокая планета, космическая сила, способная, если захочет, своим притяжением повлиять на его орбиту и привлечь его к себе. В стихотворении можно даже обнаружить намек на имя этой силы, хотя оно, как и имя Блока, остается скрытым: звезда. В раннем стихотворении «Только девочка» звезда служит эмблемой той поэтической судьбы, к которой стремится Цветаева. В «Ты проходишь…» слово звезда непосредственно не встречается, однако присутствует в повторении буквы з в рифмах третьей строфы (зарюсь / стезя / лобзаний / гвоздя) и особо отзывается в рифменной паре стезя / гвоздя. В результате, хотя контраст между неподвижностью и кротостью лирической героини и взлетом и величием Блока как будто говорит о том, что Цветаева забыта, брошена в дольнем мире своим неотмирным поэтическим божеством, глухим к ее молитвам, – намеренные умолчания стихотворения намекают на то, что это положение временное.
Итак, отказ Цветаевой произнести вслух имя Блока в стихотворении «Ты проходишь…» становится шифром тайного знания, закодированного в двух других непроизнесенных словах этого стихотворения: звезда знаменует ее собственный будущий поэтический взлет, тогда как согласие не зариться содержит в себе решимость не освещать до времени свой поэтический горизонт (зарю). Скрывая звезду и зарю в контексте своего явного восхваления Блока, Цветаева таким образом забирает эти слова у него и оставляет себе. По той же логике утаивание имени Блока в этом стихотворении возбуждает подозрение, что она уже достигла полной над ним власти – и совершенно уверена в том, что со временем их поэтический статус сравняется. Далее в цикле тот же космический символизм и языковая игра используются уже для безоговорочного заявления:
Но моя река – да с твоей рекой,
Но моя рука – да с твоей рукой
Не сойдутся, Радость моя, доколь
Не догонит заря – зари.
Пусть Блок – это заря вечерняя, но Цветаева – заря утренняя. Если он – звезда падающая, она – восходящая. Возможно, ей не суждено его догнать, однако она будет всегда следовать за ним в вечность. Таков путь, который уже проделала мысль Цветаевой в этом цикле, начав с безумного, неутолимого, невозможного вожделения первого стихотворения.
Имплицитное равенство раздельных путей Цветаевой и Блока, разминувшихся в истории, но ставших спутниками в пространстве поэзии, дополняющих друг друга, но никогда не пересекающихся, – идея, которую она на разные лады обдумывает во многих своих произведениях. Эта возможность великой страсти – гипотетическая встреча двух путей – которая остается нереализованной, помогает, в частности, понять, почему в эссе «Мой Пушкин» и в других произведениях Цветаева дает столь явно противоречащее очевидному определение истинной любви как «нелюбви»: любовь сильнее всего там, где больше пространство для воображения (то есть когда расстояние между любящими максимально). Эта роковая эвклидова геометрия любви определяет и восклицание Андрея Белого в ее эссе «Пленный дух» в ответ на рассказанную ему Цветаевой историю о страстно влюбленной в него много лет назад молодой девушке: «Потому что, если она была – то это была моя судьба. Моя не-судьба. Потому у меня и не было судьбы. И я только теперь знаю, отчего я погиб. До чего я погиб!» (4: 226).
В двух стихотворениях, написанных почти подряд в августе 1919 года, Цветаева продолжает, уже после «Стихов к Блоку», начатую в них траекторию, исследуя мысль о роковом притяжении между параллельными жизнями (линиями), которым никогда не суждено встретиться. В стихотворении «Тебе – через сто лет» (1: 481–482) Цветаева обращается к своему идеальному читателю и возлюбленному – мужчине, который будет жить (о чем говорит заглавие стихотворения) через сто лет после ее смерти, когда память о ней уже сотрется на земле[92]92
См. рассуждение Кэтрин Чепела об апострофической поэтике Цветаевой в контексте этого стихотворения: Ciepiela C. The Demanding Woman Poet: On Resisting Marina Tsvetaeva // PMLA. 1996. May. № 11. P. 421–434.
[Закрыть]. Ему суждено появиться только в будущем – и поэтому ей сейчас недоступна полнота бытия, а его будущее существование будет также уязвлено недоступностью ее прошлого бытия: «Небытие – условность. Ты мне сейчас – страстнейший из гостей, / И ты откажешь перлу всех любовниц / Во имя той – костей». Здесь видно, что для Цветаевой неосуществимая романтическая страсть и поэтическая близость, сексуальная фрустрация и творческое вдохновение, – это одно и то же; и подобное отождествление, как мы видели, определяет и «Стихи к Блоку». Более того, в стихотворении «Тебе – чрез сто лет» имя самой Цветаевой становится хранилищем абсолютной поэтической силы, наравне с именами Пушкина и Блока, ибо ее будущий возлюбленный ради ее имени откажется от собственного счастья («Во имя той – костей»).
Второе стихотворение Цветаевой на тему о безнадежном притяжении, «Два дерева хотят друг к другу…» (1: 483–484), выявляет ту роль, которую в ее непреклонной поэтической геометрии играет мотив пола. В этом стихотворении два дерева – это векторные существа, своей физической формой выражающие идеал устремленности ввысь, которая у Цветаевой служит существенной функцией поэзии и поэтического сознания. Их «стези» – то есть стволы – представляют собой одновременно синхроническую (высота стволов) и диахроническую (концентрические круги стволов) иллюстрацию всей судьбы деревьев, сгустившейся, так сказать, во времени. Путям двух деревьев никогда не пересечься (то есть их стволы никогда не соприкоснутся); однако одно дерево растет под углом, вечно склоняясь к другому, как чувственно наглядная иллюстрация неутолимой страсти. Хотя слово дерево в русском языке среднего рода, меньшее, склоненное дерево в этой «древесной» схеме поэтического диалога явно играет женскую роль:
То, что поменьше, тянет руки,
Как женщина: из жил последних
Вытянулось, – смотреть жестоко,
Как тянется – к тому, другому.
Цветаева говорит здесь о том, что женская сущность – состояние неискоренимое (дерево растет под наклоном и не может изменить направление своего роста, не может вырвать из земли свои корни), но исключительно внешнее – категория скорее относительная, чем фундаментальная. Женское для Цветаевой синонимично неосуществимому желанию.
Это понимание «женскости» ни в коей мере не привязано к биологии; можно сказать, что Андрей Белый в «Пленном духе» ничуть не менее женственен, чем Цветаева. «Вектору» «женскости» в своем понимании Цветаева противопоставляет биологически женскую природу, вообще лишенную векторного устремления. Это противопоставление лежит в основании короткого четвертого поэтического текста «Стихов к Блоку» – последнего стихотворения этого цикла, о котором мне хотелось бы поговорить:
Зверю – берлога,
Страннику – дорога,
Мертвому – дроги.
Каждому – свое.
Женщине – лукавить,
Царю – править.
Мне – славить
Имя твое.
Существительные, которыми оканчиваются первые три строки стихотворения (берлога, дорога, дроги), не только рифмуются, они объединены множеством общих звуков, выходящих за пределы минимальных рифменных потребностей, так что их существенно различные значения тесно сближаются силой фонетического контекста. Сходство звучания говорит о том, что эти слова называют разные аспекты одного и того же – особого места пребывания, дома, который есть у каждого существа (кроме, подразумевается, лирического героя стихотворения). Берлога, дорога, дроги, – все это не для нее. Берлога – дом для зверя, который есть чистая телесность, лишенная духовных порывов, вступающих с ней в борьбу. Дорога есть сама по себе цель для странника, тогда как поэтические путешествия Цветаевой в большей степени вертикальны, чем горизонтальны, осуществляются в области духа, а не топографии и, более того, неизменно содержат в себе элемент безнадежного томления. Дроги даруют покой мертвому телу, она же, хоть и обращена к иному миру, все же жива и раздираема амбициями и страстями плоти; ее духу и в смерти не обрести покоя. Очевидно, что ни одно из этих существительных не способно схватить ее суть, поскольку существительные статичны, она же вечно меняется.
Существа из второй строфы стихотворения находят свою судьбу в глаголах, а не в существительных – и здесь, творя глаголами, Цветаева находит для себя нишу. Трехчастная структура этой строфы напоминает трехчастную формулу, открывающую стихотворение «Барабанщик». Впрочем, если в том стихотворении Цветаева стремилась отделить свою необычайную женскую судьбу от заурядной участи женского пола, здесь она противопоставляет свое поэтическое призвание не только биологически женскому, но и вообще всему биологическому в человеке, во всех его проявлениях. Строки «Женщине – лукавить, / Царю – править» сжато формулируют эту тотальность отказа: четырьмя быстрыми словами, сливающимися в сардоническую формулу, Цветаева отвергает не только пол как таковой, но все его земные устремления (женщины – к любви, мужчины – к власти). Выбор ею деятельности для выражения собственной сущности – славить имя Блока – свидетельствует о том, что, в конечном счете, для нее самоутверждение подчинено судьбе. Это возвращение к святому имени происходит уже вне конвенций панегирической речи; здесь оно говорит о том, что в осуществлении ее собственного творческого порыва ключевую роль играет вдохновляющее присутствие другого поэта, воображаемая с ним близость. В вакууме она творить не способна; чтобы вектор вдохновения перенес ее через опасный порог в иной мир поэтического творчества, ей необходим вектор отчаянного, безнадежного женского желания вкупе с бесполостью потустороннего мира. «Славить имя» – удачное описание того принципа, на котором работает своеобразное поэтическое «производство» Цветаевой. В ситуации, когда объект любви – будь то он или она – недоступен ей по определению, однако абсолютно необходим в качестве музы, физической заменой отсутствующего существа становится земное имя возлюбленного, на которое переносится эротическая страсть и чувственное восприятие.
Несмотря на то, что по ходу развития «Стихов к Блоку» открытый эротизм стихотворения «Имя твое…» постепенно ослабевает, его место занимает духовное стремление, заряженное ничуть не менее страстной жаждой обладания, парадоксальное утверждение роковой невозможности сближения двух поэтов, их невстречи. Поведение Цветаевой здесь очень похоже на то, как, в ее описании, ведет себя пушкинская Татьяна: «В том-то все и дело было, что он ее не любил, и только потому она его – так, и только для того его, а не другого, в любовь выбрала, что втайне знала, что он ее не сможет любить» (5: 71). Это тайное знание, о котором мы уже читали в стихотворении «Только девочка», есть знание как рок – одновременно и понимание, и выбор судьбы (т. е. пушкинский парадокс доли/воли), которые Цветаева последовательно разыгрывает. Нелюбовь Блока принадлежит ей в большей степени, чем могла бы принадлежать его любовь, потому что эта нелюбовь выражает ее собственную поэтическую природу и кодирует ее поэтическую судьбу. В «Стихах к Блоку» зафиксированы первые знаки этой судьбы, которые она постепенно дешифрует. Таким образом, то, что вначале кажется утратой – безразличие к ней Блока и его недоступность в ответ на ее страстную по нему тоску – она превращает в знак своей поэтической избранности, пусть для этого приходится вместо традиционного треугольника поэтического вдохновения чертить две параллельные линии.
В результате этих превращений и подмен Цветаева постепенно дистанцируется от Блока и от того эксперимента по обретению вдохновения, к которому он ее первоначально подтолкнул. Поэтому более поздние стихи из второго цикла, обращенного к Блоку (1920–1921), оказываются более конвенционально панегирическими, более прозрачными и менее интересными, чем ранние. Теперь Цветаевой уже нет необходимости выстраивать сложные стратегии, так как она преодолела ту блокаду, которую представлял для нее Блок, – не тем, что воплотила свое исходное желание привлечь к себе его внимание, но скорее отрицанием того, что у нее когда-либо была такая цель. Последние два стихотворения цикла 1916 года, в сущности, представляют собой интимную лирику, которую внешнему читателю невозможно до конца понять. В кульминационной точке цикла звучание имени Блока становится совершенно неузнаваемым, от его первоначальной звуковой власти остается лишь слабый символ: «И имя твое, звучащее словно: ангел». Имя, которое Цветаева ранее не могла одолеть, отныне нейтрализовано[93]93
Интересно, что в ретроспекции восприятие Цветаевой поэтического пути Блока становится значительно более мрачным. Спустя годы после его смерти она пишет в эссе «Поэты с историей и поэты без истории» (1933), что «Блок на протяжении всего своего поэтического пути не развивался, а разрывался» (5: 409). Этот образ разительно отличается от невыразимого идеала ангельской цельности, который воплощает Блок в цветаевском цикле 1916 года «Стихи к Блоку».
[Закрыть].
Демоническая муза: Цикл «Ахматовой»
В эссе «Нездешний вечер» Цветаева вспоминает о своей поездке в Петроград в январе 1916 года, во время которой она посетила один литературный вечер и сама выступала с чтением стихов. Хотя в тот раз она встретилась с целым рядом выдающихся поэтов, включая Михаила Кузмина и Осипа Мандельштама, – Анны Ахматовой, с которой Цветаева еще не была знакома, среди них, увы, не было. Однако, по словам Цветаевой, во время чтения своих стихов она не могла избавиться от ощущения, что сражается с отсутствующей Ахматовой: «Всем своим существом чую напряженное – неизбежное – при каждой моей строке – сравнивание нас (а в ком и – стравливание) <…>» (4: 286). Цветаевой прекрасно известно, что Ахматова в современной русской литературе обладает статусом первой, единственной, главной поэтессы и, что бы ни случилось, она навсегда сохранит свое превосходство над Цветаевой. Уникальность места, которое занимает Ахматова, Цветаева характеризует иронически, превращая ее имя в определение: «на уровень лица – ахматовского», «ахматовские ревнители». Но всего через несколько месяцев после петроградского вечера Цветаева канонизирует Ахматову в своем цикле стихов как первую поэтессу России: «Ты! – Безымянный! / Донеси любовь мою / Златоустой Анне – всея Руси!» Чувствуется, что для коленопреклоненной Цветаевой в присутствии величественной Ахматовой не осталось места, чтобы выпрямить спину и расправить грудь, не говоря уже о том, чтобы выточить себе нишу в сердцах русских читателей.

А. Ахматова и О. Судейкина
Как и в случае с Блоком, Цветаева восхищалась Ахматовой издали; две эти женщины встретились только в 1941 году, после возвращения Цветаевой из эмиграции[94]94
Рассказ об этой встрече и о снисходительно-высокомерном отношении Ахматовой к Цветаевой и ее стихам см. в: Швейцер В. Быт и бытие Марины Цветаевой. С. 470–474.
[Закрыть]. Несмотря на несколько писем и свидетельство Мандельштама, что Ахматова носила стихи Цветаевой в сумочке, пока рукописные листки не истлели[95]95
Цветаева записывает эту рассказанную Мандельштамом историю в эссе «Нездешний вечер» (4: 287); Ахматова, прочтя много лет спустя воспоминания Цветаевой, отказалась, очевидно, подтвердить правдоподобность этой истории (см.: Reeder R. Anna Akhmatova: Poet and Prophet. New York: St. Martin’s Press, 1994. P. 94).
[Закрыть], какие бы ответные чувства Ахматова ни питала к Цветаевой, при жизни последней об этом не было сказано ни слова, ни в поэтической, ни в иной форме[96]96
Единственное стихотворение, обращенное Ахматовой прямо к Цветаевой («Поздний ответ»), было написано за несколько месяцев до их встречи в 1941 году, но даже его она решила оставить при себе, и Цветаева так и не узнала о существовании этого текста. В отличие от стихов, обращенных Цветаевой к Ахматовой, с их страстными вопрошаниями о самых сущностных вопросах поэзии, Ахматова в своем стихотворении к Цветаевой рисует адресата прежде всего не как поэта, а как сестру, страдающую под игом советского режима. Некоторые исследователи считают, что в сердце Ахматовой и в ее восприятии едва ли было место для Цветаевой как поэта; скорее, ее тронула человеческая трагедия Цветаевой (см. рассуждение на эту тему в: Швейцер В. Быт и бытие Марины Цветаевой. С. 154–155; Швейцер называет этих двух поэтов-женщин «антиподами и в плане человеческом, и по сути поэтической личности, и по ее выражению в поэзии»); см. также: Karlinsky S. Marina Tsvetaeva: The Woman, Her World, and Her Poetry. (Cambridge Studies in Russian Literature.) Cambridge: Cambridge University Press, 1985. P. 237). С другой стороны, Анатолий Найман предположил существование связи между «Поэмой без героя» Ахматовой и «Поэмой воздуха» Цветаевой (Найман А. О связи между «Поэмой без героя» Ахматовой и «Поэмой воздуха» Цветаевой // Марина Цветаева: 1892–1992 / Под ред. С. Ельницкой и Е. Эткинда. Нортфилд, Вермонт: Русская школа Норвичского университета, 1992. С. 196–205), а Наталья Роскина в своих воспоминаниях пишет, что Ахматова называла Цветаеву «мощным поэтом» (Роскина Н. «Как будто прощаюсь снова…» // Звезда. 1989. № 6. С. 101). Подробнее о поэтических и личных отношениях Цветаевой и Ахматовой см. в: Корнилов В. Антиподы: Цветаева и Ахматова // Марина Цветаева: 1892–1992. С. 186–195; Лосская В. Песни женщин: Анна Ахматова и Марина Цветаева в зеркале русской поэзии ХХ века. Париж; М.: Московский журнал, 1999; Кудрова И. Соперницы (Цветаева и Ахматова) // Кудрова И. После России. О поэзии и прозе Марины Цветаевой: Статьи разных лет. М.: Рост, 1997. С. 201–217.
[Закрыть]. Ответы Ахматовой на переполненные жаркими душевными излияниями письма Цветаевой сдержаны и лаконичны – при всей, порой, теплоте их тона: «Ваше письмо застало меня в минуту величайшей усталости, так что мне трудно собраться с мыслями, чтобы подробно ответить Вам» (6: 205); и позже: «<…> меня давно так не печалила аграфия, кот<орой> я страдаю уже много лет, как сегодня <…>. Я не пишу никогда и никому, но Ваше доброе отношение мне бесконечно дорого» (6: 206). Возможно, отчасти по причине личного незнакомства с Ахматовой та появляется в обращенных к ней стихах Цветаевой – как и Блок в «Стихах к Блоку» – в виде абстрактного существа сверхчеловеческих масштабов. Также подобно Блоку Ахматова функционирует в стихах Цветаевой как символ определенной разновидности поэтической силы – вместе и привлекательной, и опасной для зреющей поэтики самой Цветаевой.
Утверждение Цветаевой, что летом 1916 года, когда был написан цикл стихов «Ахматовой», она «впервые читала» Ахматову (4: 140), довольно странно[97]97
Этот цикл был впервые опубликован в составе сборника «Версты: Стихи. Вып. 1» (1922); он состоял из одиннадцати стихотворений. Помимо цикла, посвященного Ахматовой, Цветаева между 1915 и 1921 гг. написала несколько отдельных стихотворений, обращенных к сестре-поэту («Узкий, нерусский стан…», 1: 234–235; «А что если кудри в плат…», 1: 310; «Соревнования короста…», 2: 53–54; «Кем полосынька твоя…», 2: 79–80; ср. также комментарий в: Цветаева М. Стихотворения и поэмы: В 5 т. Т. 2. New York: Russica Publishers, 1982. С. 383). Критические разборы стихотворений к Ахматовой можно также найти в уже упоминавшихся статьях Поллак и Зубовой, а также в: Таубман Д. «Живя стихами…». С. 119–123; Швейцер В. Быт и бытие Марины Цветаевой. С. 151–153; Karlinsky S. Marina Cvetaeva: Her Life and Art. Berkeley: University of California Press, 1966. P. 182–183.
[Закрыть]. В буквальном смысле это, конечно, неправда, однако Цветаева вероятно хотела сказать, что при сочинении ахматовского цикла была занята по-настоящему глубоким «открытием» (то есть выдумыванием, узнаванием, избеганием, преодолением) Ахматовой. Эта работа чтения дала ей как противоядие грозной женской поэтической силе Ахматовой, так и альтернативу подавляющему, дух захватывающему присутствию Блока, способному подавить волю к обретению собственного поэтического голоса. Как и в стихах к Блоку, Цветаева в стихах к Ахматовой помещает в центр своего внимания имя поэта-адресата – поскольку имя поэта есть для нее локус его или ее поэтической сущности, звуковая печать особого поэтического дара. Манипулируя именем другого поэта, Цветаева получает воображаемый доступ к его существу: имя, в определенном смысле, функционирует как восковая модель опасного, но недоступного оригинала, чью угрозу ей тем не менее удается распотрошить посредством колдовского ритуала втыкания в него своих поэтических игл.
Имя Ахматовой, в отличие от имени Блока, – псевдоним. Иосиф Бродский писал, что имя было первой удачной поэтической строкой Ахматовой, пояснив, что взяв это имя, Ахматова сделала первый шаг к поэтическому совершенству и безграничным поэтическим амбициям: «<…> пять открытых “а” Анны Ахматовой обладали гипнотическим эффектом и естественно поместили имени этого обладательницу в начало алфавита русской поэзии»[98]98
Brodsky J. The Keening Muse // Brodsky J. Less Than One: Selected Essays. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1986. P. 35. (Русский перевод М. Темкиной цит. по: Бродский И. А. Муза Плача // Сочинения Иосифа Бродского. Т. V. СПб.: Пушкинский фонд, 1999. С. 28). Ахматова взяла псевдоним – фамилию своей бабки-татарки – из-за отца, считавшего, что женщина-поэт позорит семейное имя.
[Закрыть]. В случае с Блоком Цветаеву мучает невыносимая правда и подлинность его имени. Поэтому цель стихотворения, открывающего цикл ее стихов к Блоку, – замаскировать и таким образом трансформировать первичный звуковой смысл имени Блока – творческой блокады, паралича, – аккумулировав отзвуки совершенно иного семантического поля, передающие значения движения, полета, перемены. В случае с Ахматовой, напротив, раздражает притворство выдуманного имени. Поэтому в первом стихотворении ахматовского цикла, «О, Муза плача, прекраснейшая из муз!..», Цветаева ставит перед собой обратную задачу: обнаружить и разоблачить латентный смысл имени (и судьбы) Ахматовой, который та скрывает.
Ключом к этому разоблачению служит поразительное обилие обычно редкого звука х во второй строфе стихотворения:
И мы шарахаемся и глухое: ох! —
Стотысячное – тебе присягает: Анна
Ахматова! Это имя – огромный вздох,
И в глубь он падает, которая безымянна.
Другие велярные (заднеязычные) этих строк (к и г) интенсифицируют горловой звук экзотического ахматовского х; сибилянты (свистящие) (ш, с, ч, з) добавляют шипящий компонент к велярным, тогда как преобладающие открытые гласные а и о дополнительно отсылают к вокальной мелодии имени Ахматовой. Так Цветаева посредством поэтической логики выводит скрытую сущность имени и поэта Анны Ахматовой: дикий, стихийный ужас (передаваемый глаголом шарахаться); первобытная, дословесная страсть (ее передает «глухое» восклицание ох!); и бездонная, сокрушительная меланхолия («огромный вздох»). Финальная строка строфы, которая вырастает не столько из фамилии поэтессы, сколько из ее имени, Анна (и с ним рифмуется), соединяет все эти три подразумеваемые значения в образе падения имени в безымянную глубь (слово женского рода), которая, по аналогии, становится воплощением самой Ахматовой. Более того, рифма Анна / безымянна привлекает внимание к тому обстоятельству, что «Ахматова» – это, на самом деле, подделка, придуманное имя, маска – свидетельство попытки поэтессы уклониться от смысловых импликаций своей подлинной фамилии, «Горенко».
Таким образом, через посредство звучания Цветаева обнаруживает Ахматову, весьма отличную от той, которую сама Ахматова стремится изобразить в своих стихах с их изысканной, сдержанной, почти классической простотой выражения и образов. Некоторые исследователи, например, Виктория Швейцер, возможно, не ошибаются, предполагая, что Цветаева любила в Ахматовой как женщине-поэте «то, чего сама была лишена, прежде всего ее сдержанность и гармоничность», однако мне не кажется верной характеристика стихов «Ахматовой» как «восхищенных, славословящих, коленопреклоненных»[99]99
Швейцер В. Быт и бытие Марины Цветаевой. М., 2002. С. 154, 151.
[Закрыть]. Гораздо ближе к мнению Цветаевой Александр Жолковский, который, оценивая Ахматову, пишет о «продуманном и холодном <…> разыгрывании роли», «сосредоточенной на себе самой театральности» и «великолепной фальши» этой женщины, «чья поэзия, личность и жизнь образуют совершенный культурный артефакт»[100]100
Zholkovsky A. Anna Akhmatova: Scripts, Not Scriptures // Slavic and East European Journal. Spring 1996. Vol. 40. № 1. P. 138. См. также подробную работу Жолковского на эту тему: Жолковский А. К. Страх, тяжесть, мрамор: (Из материалов к жизнетворческой биографии Ахматовой) // Wiener Slawistischer Almanach. 1995. № 36. P. 119–154.
[Закрыть]. Цветаева поэтическую тактику Ахматовой оценивает в высшей степени амбивалентно, поскольку гармоничность поэтического «я» Ахматовой она воспринимает не как выражение ее истинной природы, но скорее как искусственную позу, которая едва в состоянии сдерживать бушующую под ней стихийную суть. Если в стихах о Блоке Цветаеву мучает его исключительная устремленность к иному миру, прочь от болезненных, но плодотворных конфликтов реального, физического, телесного существования, то в стихах «Ахматовой» она деконструирует изысканный, искусственно созданный образ ахматовского «я» и намекает на то, что истинная поэтическая сила Ахматовой происходит из бурного столкновения этого уравновешенного, отчетливого образа с едва укрощаемой им глухой, шипящей, жуткой внутренней реальностью.
Из этого столкновения рождается ряд образов мощного воздействия Ахматовой на читателей, соединяющего удовольствие и страдание, которые напоминают сходную образность стихотворения «Имя твое…». Это воздействие точно выражено в соположении эпитетов в первой строке стихотворения Цветаевой («О, Муза плача, прекраснейшая из муз!..»): Ахматова одновременно муза и печали, и красоты. То, что два эти качества названы одно за другим, даже дает основание предположить, что второе есть следствие первого: что своей красотой Ахматова обязана своей печали (и, имплицитно, способности вызывать печаль в других, причинять боль). Вторая строка стихотворения усиливает эту связь, одновременно переворачивая иерархию влияний: «О ты, шальное исчадие ночи белой!». Необычная, ни с чем не сравнимая красота петербургской белой ночи породила демоническое исчадие, которое при этом шаловливо, как капризный ребенок[101]101
Традиция изображения Петербурга – начатая поэмой Пушкина «Медный всадник», далее продолженная в произведениях Гоголя и Достоевского и возрожденная символистами, – как опасного, фантасмагорического места, где в белесых туманах вьются бесы, так глубоко пронизывает всю русскую литературу, что этого нюанса вполне достаточно, чтобы в фигуре Ахматовой проступил весь сонм петербургского ада.
[Закрыть]. Порождение белой ночи насылает на всю Русь черную метель (по-видимому, это метафорический образ поэзии Ахматовой). Как имя Ахматовой – это обман, скрывающий безымянность, так и изысканная, отчетливая красота ее поэзии, когда ее строки достигают своей цели (то есть сердец слушателей), превращается в безъязыкие «вопли» голой страсти: «И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы».
В третьей строфе стихотворения продолжается раскрытие парадоксального соединения удовольствия и боли:
Мы коронованы тем, что одну с тобой
Мы землю топчем, что небо над нами – то же!
И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой,
Уже бессмертным на смертное сходит ложе.
Дар, который Ахматова приносит читателям, одновременно их возносит («мы коронованы», «уже бессмертным») и опустошает («ранен смертельной твоей судьбой», «на смертное сходит ложе»). Говоря, что горда делить с Ахматовой землю и небо, – символизирующие, соответственно, повседневность и потусторонность – Цветаева весьма заметно иронизирует. Прежде всего об этом свидетельствует то, что, по Цветаевой, духоподъемно для человечества само существование Ахматовой, а не ее поэзия. Цветаева намекает на то, что Ахматова – мученица-самозванка, а ее печаль и красота разыграны в расчете на эффект. Здесь интерпретация Жолковского снова близка к цветаевской: он пишет об излюбленной ахматовской «позе лежа, которая делает ее объектом всеобщего внимания, жалости, помощи, а ее постель – центром власти»[102]102
Zholkovsky А. Anna Akhmatova: Scripts, Not Scriptures. P. 138–139.
[Закрыть]. Невозможно не заметить явно амбивалентного отношения Цветаевой к позированию Ахматовой, сочетающему святость с демонизмом; это позирование Цветаева находит и возбуждающим, и нескромным.
Созвучна этому двойственному отношению и заключительная строфа стихотворения «О, Муза плача…»: под тонким покровом на первый взгляд искреннего, прямого восхищения сестрой в поэзии сопернице брошен серьезный вызов:
В певучем граде моем купола горят,
И Спаса светлого славит слепец бродячий…
И я дарю тебе свой колокольный град,
– Ахматова! – и сердце свое в придачу.
Вызов этот состоит из трех элементов. Первые два относительно очевидны: это образ «певучего/колокольного града», Москвы, который Цветаева дарит Ахматовой в обмен на обманные белые ночи Петербурга; и «Спас светлый», противопоставленный мрачным ахматовским посулам трагического мученичества. А вот смысл третьего образа триады, «слепец бродячий», очевиден не сразу. Я склонна интерпретировать эту фигуру как ответ Цветаевой на темную угрозу, таящуюся для нее в Ахматовой, и как персонификацию того идеального образа вдохновения, который ищет Цветаева. По контрасту с женственностью Ахматовой, это фигура мужская, по контрасту с молодостью и красотой Ахматовой, бродячий слепец (вероятно) стар и убог. Это истинный Другой – тот, кого Цветаева может любить и уважать, без необходимости бороться ни с подавляющей стихийностью, как в случае Ахматовой, ни с мучительной недоступностью трансцендентности, воплощенной в Блоке. В то же время слепец – духовный двойник Цветаевой, ее альтернативное мужское «я», ибо он обладает основными качествами истинного, в ее понимании, поэта – слепотой и жаждой странствий. Слепота и ее вариации – опущенные глаза, запавшие веки, – в поэзии Цветаевой устойчиво служат символами поэтического ясновидения. Невыдуманность, бессознательность ясновидения этого простеца отчетливо противопоставлена осознанной драматической позе прорицательницы у Ахматовой. То, что слепец – странник, дает еще больше оснований рассматривать его как эмблему поэтического идеала Цветаевой, ибо и она – странница по природе и по призванию; ее безостановочность и беспокойство синонимичны ориентированному вовне вектору поэтического стремления[103]103
Обращаясь, как она нередко это делала, к цыганской тематике, Цветаева в «Поэме конца» именует весь орден поэтов «братство таборное» (3: 32) и «братство бродячее» («В наших бродячих / Братствах рыбачьих»; 3: 37). Эта мысль звучит также в ряде других стихотворений, где Цветаева уравнивает свою страсть к разлукам и странствиям с преданностью поэзии (ср. «Цыганская страсть разлуки!..», 1: 247; «Какой-нибудь предок мой был – скрипач…», 1: 238; «Дитя разгула и разлуки…», 1: 506).
[Закрыть].
Тайный вызов, который Цветаева бросает Ахматовой в заключительной строфе стихотворения «О, Муза плача…», не оставляет сомнений в том, что, якобы преподнося Ахматовой щедрый «дар» (то есть стихотворения этого цикла), она на самом деле размечает свою поэтическую территорию, утверждая истоки собственной поэтической силы, неподвластные колдовскому заговору Ахматовой[104]104
Многие социальные антропологи интерпретируют передачу дара как уловку для обретения власти (см.: Hammond P. B. An Introduction to Cultural and Social Anthropology. New York: Macmillan, 1971. P. 136).
[Закрыть]. Для этого она призывает себе на помощь все силы древней Москвы, воплощенные в разных ее аспектах – религиозном («светлый Спас» русского православия), народном (бродячий слепец), историко-архитектурном (колокольный град) и языковом (старославянское слово град). Все эти грани московского наследия Цветаевой соединяются в кристалле ее поэтического восприятия и создают новую сущность, принадлежащую ей одной – пространство вместе реальное и мистическое: певучий град с горящими куполами[105]105
Этот метафорический жар напоминает игру с заря/зариться в «Стихах к Блоку». Возможно, горящие купола в стихотворении «О, Муза плача…» представляют собой не только метонимические черты творческого пространства Цветаевой, но, как утверждает Сибелан Форрестер, служат метафорой ее собственного тела и личности (Forrester S. Bells and Cupolas: The Formative Role of the Female Body in Marina Tsvetaeva’s Poetry // Slavic Review. 1992 (Summer). Vol. 51. № 2. P. 232–246).
[Закрыть]. Использование на протяжении первых трех строф стихотворения первого лица множественного числа также служит укреплению ее обороны властью чисел. Однако о том, что приоритет Цветаевой – не в сообщничестве с другими, а в развитии своей индивидуальной личности свидетельствует переход к единственному числу в последней строфе, где она всю Москву забирает в личную собственность: «В певучем граде моем <…> И я дарю тебе свой колокольный град…» (курсив мой. – А. Д. Г.). Образ народа служит лишь еще одним оружием в репертуаре ее поэтических стратегий, используемых в битве за определение собственного «я», личного голоса[106]106
Саймон Карлинский замечает, что русские темы в циклах Блоку и Ахматовой (оба – петербургские поэты) служат определению не только поэтической, но и национальной идентичности Цветаевой, которая до тех пор была несколько спутанной: «В стихах начала 1916-го <…> она примеряла идентичности польки и дворянки древнего рода (боярыни), не имея ни на ту, ни на другую никакого права» (Karlinsky S. Marina Tsvetaeva: The Woman, Her World, and Her Poetry. P. 61).
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































