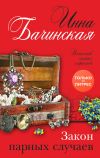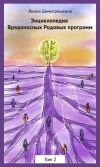Текст книги "Закон парных случаев"

Автор книги: Алла Лупачева
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава 8
Квартира старика Швагера
Квартира, в которой началась Анина счастливая замужняя жизнь, располагалась на «четвертом с половиной» этаже одного из первых «доходных» домов в Замоскворечье. Большой кирпичный дом с толстыми, под метр, стенами, высоченными потолками и отличными дубовыми полами вольготно располагался в просторном дворе, среди высоких дубов, вязов и старых кружевных берез. Два его корпуса были построены буквой Т. Если кто-то мог посмотреть на них сверху, могло показаться, что какой-то великан в красной одежде, вытянув ноги в сторону Кремля и раскинув руки, отдыхает на зеленой лужайке, глядя в небо жерлами своих труб.
До революции весь дом принадлежал одному хозяину, который сдавал квартиры «внаем». Самые давние жильцы дома, в основном, старушки утверждали, что когда-то он принадлежал Софье Андреевне Толстой, но арендную плату, рент, собирала не она, а ее управляющий. Вероятно, эта плата, за вычетом налогов, и служила источником ее личного дохода, который она направляла на благотворительные цели. После ее смерти дом перешел во владение дочери, Александры Львовны, что было записано в подробнейшем справочнике по Москве за шестнадцатый, последний предреволюционный год.
Был ли дом экспроприирован в семнадцатом году, или Толстая сама передала его городу, или успела продать его целиком или поквартирно, неизвестно. Как позже стало известно, Александра Львовна почти сразу эмигрировала навсегда.
С приходом новой власти дом стал принадлежать совету рабочих и крестьянских депутатов, и все квартиры в нем немедленно «уплотнили». Бывшим то ли съемщикам, то ли владельцам когда-то отдельных квартир «любезно» оставили по одной, максимум две комнаты на семью, остальные заселили пестрым людом – новыми рабочими, приехавшими из окрестных деревень, потерявшими частную практику врачами, учителями, служащими и молодыми семьями. Именно в этот дом, в маленькую комнатку, предназначавшуюся изначально для прислуги или гувернантки, въехала молодая пара – инженер и переводчица. А еще через пару лет у них родилась девочка, которую назвали Машей.
Конечно, комнатка на троих была тесновата, всего одиннадцать метров, с видом из окна прямо на крышу небольшого ремонтного заводика, но сама квартира, в которой Ане предстояло прожить двадцать три года, показалась ей хоромами. Тут была и двадцатиметровая кухня, и ванная комната, и отдельный туалет. Коридор начинался просторным фойе, в углу которого стоял огромный сундук, принадлежавший, вероятно, бывшим владельцам. Но там могла бы поместиться даже кровать.
Немаловажно, что квартира была малонаселенной – кроме них с мужем в ней проживало всего две семьи, четыре человека. Так что по меркам и довоенного, и послевоенного времени она считалась очень малонаселенной. Короче, Ане решительно все нравилось.
Но первое и самое главное, это была ее первая собственная жилплощадь!
Во-вторых, это было совсем близко от места работы, гостиницы «Метрополь», где располагался офис компании «Интурист».
Ну, а в-третьих, ей нравился этот тихий, зеленый район. Она была просто влюблена в этот район и как житель, и как гид Интуриста, так что рассказывать о нем она могла бы часами, почти про каждый дом и каждый храм. Это была для нее живая история.
Замоскворечье, один из самых старых и примечательных районов города, в излучине реки Москвы, по-старому Заречье, примерно с тринадцатого века стал заселяться купцами и их челядью. От мостов, перекинутых через Москву-реку через Заречье к Серпуховской заставе, где «мытари» собирали пошлину за ввоз товаров в Московию, пролегали все главные торговые пути в Золотую Орду и на Юг. Низинное пространство между дорогами оказалось очень привлекательным именно для купеческого сословия. Тут была свободная земля, где можно было построить не только дом, но и собственный склад – место было тихое, спокойное, чужие разбойники тут «не баловали», охранять склады с товарами было сподручнее. Поэтому все свободные земли начали стремительно застраиваться, появились богатые усадьбы, большие и маленькие поместья, окруженные новыми садами, дворами, подворьями и конюшнями. А с середины девятнадцатого века, с развитием промышленности, из окрестных деревень потянулись сюда в поисках заработка бывшие крепостные, становившиеся рабочими новых, быстро растущих заводов. Дороги стали благоустраиваться и постепенно превратились в главные улицы Замоскворечья – Новокузнецкую, Пятницкую, Большую Ордынку, Большую Полянку и Якиманку. И каждое имя имело свою богатую историю.
Благодаря близости к самому центру города и к Кремлю, а еще благодаря патриархально-спокойному ритму жизни и характеру обитателей Замоскворечья район довольно быстро превратился в «престижный». Все чаще здесь стала селиться новая интеллигенция – врачи, учителя, юристы, и всем нужно было хорошее жилье. Предприимчивые купцы стали быстро строить высокие «каменные» (вместо деревянных) «доходные дома», чтобы сдавать их «внаем». Вероятно, это и было началом первой масштабной застройки Москвы. Здесь были дома на любой вкус и кошелек. Ничего «типового». Вдоль главных улиц известные архитекторы строили прекрасные многоэтажные дома с большими комнатами, высокими лепными потолками, просторными кухнями, отдельными ванными и даже с лифтами. Вокруг заводов – те, что попроще. И все они мирно уживались со старыми усадьбами, зелеными дворами и двориками. Тихое, патриархальное Замоскворечье превратилось в любимый район московской интеллигенции.
В-четвертых, неподалеку, в двух трамвайных остановках жили ее родители. А в-пятых, ей понравились соседи. Разве этого мало, чтобы почувствовать себя совершенно счастливым человеком? А после рождения Машеньки появился еще один повод чтобы понять, как им с мужем повезло с жильем! Для Машиной няни соседи разрешили поставить раскладушку с ширмой, в самом удобном углу большой кухни! Третья кровать в комнате Ани с Лёней не помещалась. Ну и последнее – няня могла погулять с Машей во дворе, не пугаясь перезвона трамваев и гудков автомобилей с улицы.
Кстати, будущую Машину няню, Феню, привез в Москву ее отец. Тогда из окрестных и удаленных деревень в города на заработки подалось много народу. После поголовного раскулачивания деревня резко обеднела, наступил голод. Сам отец Фени приехал на пару лет раньше, устроился рабочим на заводе, но прокормить большую семью в деревне на одну зарплату не мог. Поэтому, когда старшей дочери исполнилось семнадцать, начал подыскивать ей место няни «с кормежкой и проживанием», чтобы только не в заводском общежитии – боялся за дочь. А тут у его мастера внучка родилась! Вот и упросил мастера взять его дочь «на испытание». Так Феня стала сначала Машиной няней, а потом – первой помощницей и членом Аниной семьи.
Квартира, в которой теперь проживало четверо новых жильцов, была коммунальной, четырехкомнатной, где число комнат обычно соответствовало числу прописанных в ней семей. Единственную на весь дом отдельную квартиру занимала семья из пяти человек. Глава ее работал «в органах», так что, судя по многим признакам, квартиру эту вместе с мебелью получил он не случайно – до него она принадлежала кому-то из репрессированных. Спустя годы в списках Мемориала по данному адресу Маша отыскала имена кое-кого из бывших жильцов дома, большей частью расстрелянных в Бутово в разное время: рабочий, кладовщик-инструментальщик, профессор, инженер завода Михельсона (потом имени Владимира Ильича). Но именно из той квартиры никто не числился – когда человека забирали прямо на улице, то записывался адрес «по месту задержания».
Прежним владельцем или постоянным квартиросъемщиком квартиры был пожилой интеллигентный человек, кажется, инженер-электрик, Павел Бернардович Швагер, правнук одного из первых железнодорожных инженеров России и сын довольно известного врача-уролога. Всю свою жизнь прожил он в Москве, сначала на Остоженке, с родителями, а женившись, переехал в Замоскворечье.
Вообще, полное имя Швагера было тройным – Пауль-Теодор Бернхард, которое он получил в честь своего многоуважаемого прадеда. Бернхардом звали его отца, но в России имя его превратилось в отчество.
От отца он также унаследовал высокий рост и гордую посадку головы, приличные деньги и какие-то ценные банковские бумаги, а от деда еще и небольшое поместье на Волге, где-то недалеко от Самары. Там еще с екатерининских времен поселилось много немцев-меннонитов, приглашенных для создания образцовых сельскохозяйственных общин. Привезя с собой из Пруссии, Австрии, Лифляндии и прочих немецких местечек свои трудолюбивые руки и глубокие познания (у них существовал даже травопольный севооборот!), они довольно быстро создали успешные хозяйства, в которых и урожаи были выше, и молоко жирнее. В некоторых семьях были свои сыроварни, а кое-где и собственный кирпичный заводик.
Немецкие колонии было легко отличить от русско-мордовских рачительным использованием земель, чистотой посевов и приусадебных участков, а еще фундаментальностью построек. Жили немцы-меннониты достаточно замкнуто, женились и замуж выходили, как правило, «за своих». Наследство получал только старший сын, а «безнаследные» часто отселялись и либо заводили свое хозяйство на арендованной земле, либо подавались в город. Последние особенно быстро и окончательно обрусели и двинулись в науку, технику, экономику. Именно так произошло с дедом Швагера, Отто-Теодором. Прадед дал сыну хорошее образование и, понимая важность железных дорог в огромной России, посоветовал ему учиться на железнодорожного инженера.
Дед, в свою очередь, открыл сыну широкую дорогу для выбора пути, и тот решил стать врачом. Учился отец Пауля по-немецки упорно, профессора ожидали от него выдающихся успехов в научных исследованиях, но сначала они прервались в девятьсот четырнадцатом, когда он был на какое-то время призван в армию, а потом было не до науки.
Вообще, отношение к поволжским немцам резко изменилось после начала Первой Мировой. К ним стали относиться, как минимум, с подозрением. Процветающие сельскохозяйственные общины стали вдруг особенно заметны на фоне нищающих русско-мордовских деревень, вызывая зависть и неприязнь. Еще хуже стало после революции семнадцатого. Богатые по сравнению с остальными немецкие поселения стали бельмом на глазу у власти, и после семнадцатого эти замкнутые общины стали намеренно разорять.
Разорили и поместье деда, где он подолгу жил, оставив свою службу. Он подумывал переехать в Москву, поближе к сыну, но продавать землю не торопился. Он любил ее и все надеялся, что смута уляжется, и он будет жить там на старости. А еще – что его знания пригодятся хотя бы соседям. Но не дождался. Не пригодились. Дом сожгли. Говорили, что сделали это русские крестьяне из ближайшей деревни, но было трудно сказать, сработала ли зависть к зажиточным «чужеземцам» или подстрекание новой власти. Тем более, что сама власть часто была из той же голытьбы, которой чужой достаток резал глаз.
Дед долго старался убедить себя, что сделали это не соседи, а пришлые «агитаторы-провокаторы». С соседями он был в неплохих отношениях – ссужал им деньги, делился посевным зерном после неурожая, мог вызвать своего врача или попросить из общины. Позже история подтвердила все дедовы догадки. А в тридцать шестом, когда немцев начали «переселять» в казахстанские степи, сердце деда, не выдержав незаслуженной обиды, разорвалось. Да и то сказать – к тому моменту его возраст приближался к девяноста.
Катаклизмы продолжали преследовать эту семью и далее. С приходом Первой Мировой совершенно обрусевший отец Пауля, доктор Бернард, поначалу был призван в армию. Там его русский приятель, офицер, по-дружески и вполне резонно посоветовал не держаться за немецкое написание имени, а упростить до привычного для русского слуха аналога. Для безопасности. Война все-таки. Пауль стал Павлом, потеряв половину своего имени. Взять отчество «попроще» он не захотел. Но все равно, с началом военных действий его вдруг отозвали, хотя доктора были очень нужны.
С семнадцатого года пошла новая волна гонений на «бывших», в том числе и на интеллигенцию. Квартиру родителей на Остоженке отобрала революционная рабоче-крестьянская власть, а квартиру самого Павла Бернардовича «уплотнили», оставив ему с женой одну большую комнату с двойным, венецианским окном, которую он с помощью знакомого плотника разделил на две смежные. Как и булгаковский профессор, интеллигент Швагер хотел спать в спальне, а обедать в столовой, предпочитая поддерживать хотя бы видимость прежней жизни. Его сын, по традиции другого колена рода, учился Ленинградской «Корабелке», бывшем Императорском Кораблестроительном Институте, который вроде бы уже и закончил незадолго до начала второй мировой войны.
Само «уплотнение» Павел Бернардович перенес по-меннонитски спокойно, как-то философски, без единого упрека несправедливой судьбе. Как потомок знаменитого железнодорожного инженера, он понимал смертельную опасность крутых поворотов, да еще на большой скорости. Но, увы, теперь он не видел никакой возможности уменьшить «кривизну» или снизить скорость, чтобы спасти поезд. Не в силах что-то изменить в жизни общества, он стал искать и находил какие-то положительные моменты в новом статусе жильца в коммунальной, бывшей своей квартире.
Две соседние со Швагерами комнаты занимала симпатичная семья – Ядвига Симоновна, милейшая интеллигентная женщина, и ее дочь Татьяна, студентка химфака МГУ. Где, когда, на каком повороте судьбы исчез Танин отец, никто не знал.
Анину комнату поначалу занимал сын Швагера. Во дворе соседки говорили, что сын Швагеров был вроде бы женихом Тани, но так это или нет, точно никто не знал. Перед войной он уехал учиться в «Корабелку», некогда Императорский кораблестроительный институт, и надолго там застрял. Жил он у дальних родственников, а чтобы прописаться там, из Москвы ему пришлось выписаться. Пустовавшую комнату «оприходовал» райсовет, а затем, по ходатайству Интуриста, Ане с мужем на нее был выдан ордер. Так что с тридцать седьмого года в квартире проживало уже восемь человек.
Кстати, вселение в бывшую комнатку сына приятной и интеллигентной молодой пары Павел Бернардович считал большой удачей и даже искренне обрадовался – могли подселить пьяницу или дебошира, а то и кого похуже. К тому же у молодоженов почти не было мебели, так что они не стали претендовать на место в коридоре, которое занимал любимый Швагеровский сундук с зимними вещами и запасным одеялом на случай приезда из Киева его двоюродной сестры Серафимы. И выкинуть его новые соседи тоже не потребовали, даже когда у них завелась детская коляска.
В других «уплотненных», теперь уже многонаселенных квартирах «подселенцы» нагло оккупировали каждый уголок в коридорах, понастроили антресолей над головами и постоянно ругались из-за уборки «мест общественного пользования», расчетов за электричество и столиков на кухнях. В квартире была только одна полка-антресоль – в ванной комнате. Там по-прежнему стояли какие-то чемоданы и коробки фрау Маргиты, с которыми она не решалась расстаться, а на гвоздях в стене висели тазы. Неудачно пристроенные, они не раз падали, оставляя на эмали ванны множество черных отметин, которые от воды постепенно поржавели.
Умудренный опытом жизни своих предков и собственной персоной пережитых потрясений, Швагер научился находить плюсы и в таком коммунальном житье-бытье. Например, убирать «места общественного пользования» теперь полагалось по очереди и по числу членов семьи в каждой комнате. Натирать полы в коридоре тоже стало необязательно. Но пока там жила Аня с семьей, они с Таней договаривались и два раза в год нанимали полотера. Так что Павел Бернардович радовался, что о его квартире хоть кто-то заботится, и охотно участвовал во всех расходах. Благодаря этой инициативе Швагеры смогли отказаться от помощи постоянной домработницы, приглашая ее по мере необходимости.
Когда у молодой пары родилась Маша, крохотная девчушка весом чуть больше двух буханок хлеба, Павел Бернардович еще больше обрадовался – наконец-то в квартире зазвенит детский голосок.
Девочка немного подросла, и он быстро с ней подружился. Покачивая ее на ноге, он тихонько пел незнакомые песенки про Августина, про прекрасный цветок с незнакомым названием эдельвейс и про гору Рубецаль, где живут гномы. Пел он ей по-немецки и почти шепотом, слов девочка не понимала, но музыка была добрая, как сам дедушка «Пава». Иногда он рассказывал ей сказки про Красную Шапочку, хитрого Лиса, маленького Мука или Гадкого утенка. Не все сказки ей нравились, хитрого Лиса и злой старухи, которая чуть не погубила маленького Мука, она побаивалась, но слушала терпеливо до конца.
Для наступавшей новой эпохи Павел Бернардович был слишком порядочным и воспитанным человеком. Он уважал свою фамилию – Швагер. Была она каких-то лифляндских корней, считалась «родовой», означая родство с каким-то очень уважаемым предком, и передавалась почти как дар от отца к сыну. После какой-то смены паспорта букву «р» паспортистка не дописала. Честно говоря, это была его самая малая потеря, но Швагер настоял, чтобы исправление было внесено.
За все время, прошедшее после революции, он так и не сумел избавиться от привычки обращаться к женщине «сударыня» вместо общепринятого «гражданка», уступать место в трамвае или даже в очереди. Часто, по привычке, он пытался галантно поддержать «даму» под локоток, помогая взобраться на высокие ступеньки с тяжелыми сумками. Кое-кто из женщин улыбался старику и говорил спасибо. Но большинство из них, давно отвыкших от галантности или вовсе с ней незнакомых, шарахались в сторону, прижимали к груди свои сумочки, удивленно бормоча: «Вы чего? Я сама». Вместо короткого «спасибо» он по-прежнему говорил «премного благодарен» или «благодарю вас», что звучало старомодно и диковато.
В любой коммуналке он был бы идеальным соседом. Терпеливо ждал своей очереди в туалет по утрам и никогда не стучал в дверь с вопросом «Ну, скоро вы там?» Если же сам там вынужденно задерживался, к осторожному стуку относился с пониманием и, выходя, просил у всех прощения. Был он, больше по воспитанию, фризом-меннонитом, а значит – и пацифистом. Так что никогда не спорил, порядки коммунальной кухни принимал безропотно, как судьбу. В часы, когда соседи приходили с работы, там не появлялся. Свою посуду он или жена Маргита, или фрау Маргит, так звали ее старые знакомые (потому что имени своего она упрямо не меняла), мыли в комнате, в эмалированном тазике, подливая в остывавшую воду кипяток из чайника.
В самом начале войны Швагеры, чувствуя себя без вины виноватыми, все свое фамильное столовое серебро немедленно сдали «в фонд победы», а два прибора оставили себе для ежедневного пользования и просто на память. Приборам этим было уже лет сто пятьдесят, если не больше – тяжелые, серебряные, с филигранью и с каллиграфической монограммой на ручке. Поначалу в каждом столовом приборе было гораздо больше предметов – две вилки, три ножа – для рыбы и для мяса, а еще для масла, ложки, конечно, тоже разные – столовые, десертные, чайные, для мороженого, в зависимости от торжества. Для нового обывателя такое обилие было излишним и даже пугающим. Во-первых, такое количество негде было держать. А во-вторых, когда весь обед состоит максимум из трех блюд, зачем нужны вилки-ложки разного размера? Пережив военный коммунизм, можно было научиться есть не только деревянными ложками, но и самодельными китайскими палочками. От их прежней жизни кроме этих старинных столовых приборов – два одинаковых ножа, две вилки и две столовые ложки – и еще каких-то ценных для них книг, больше ничего не осталось. Да и сами себе они казались лишними в новой, очень странной жизни.
Но самой тяжелой и горькой их потерей был сын. Последний раз, году в тридцать восьмом, он написал отцу какое-то непонятное, без объяснений, очень короткое письмо, скорее – записку, переданную без конверта через знакомых, что скоро он уходит в какое-то плавание и просит отца не волноваться. А потом началась война. На следующий день после объявления войны весь институт, студенты и преподаватели, был целиком мобилизован по приказу командования. Кто-то говорил, будто в военкомате какой-то парень вроде как с подобной фамилией предложил услуги переводчика на фронте, но после этого бесследно исчез. Это никак не вязалось с его более ранним письмом отцу, что он уходит в плавание. Возможно, все эти слухи касались не одного и того же человека (один ушел в плаванье, другой запросился на фронт – мало ли бывает совпадений, хотя для России фамилия была, и впрямь, редкая). Но посторонний человек, ухвативший кусочек правды или полуправды, обычно пытается достроить мозаику события по собственному разумению, даже если куски ее плохо пригнаны друг к другу.
Павел Бернардович мучился неизвестностью. А что, если сын вдруг попал в плен к немцам… Об этом было страшно думать. Немец-пацифист, работающий на русских, против «настоящих» немцев? Помня семнадцатый и тридцать шестой, он боялся самого страшного. Нет, не Казахстана, а Колымы. После войны говорили, что многие «фашисты» из Германии бежали в Аргентину и даже дальше. Его сыну бежать было незачем, да и некуда…. Его дом был здесь, в России. Значит, он погиб? Иначе, послал бы хоть весточку.
Швагер очень не хотел верить ни во что плохое и тайно мечтал о дне, когда откроется дверь и… Ну, пусть не приезжает, если не может или боится чего-то. Пусть только будет жив. И все-таки до самой смерти отец ждал возвращения сына.
Конечно, полнокровная жизнь Павла Бернардовича закончилась еще раньше. Он давно понял, что судьба, действительно, как кошка – гуляет сама по себе и далеко не всегда бывает ласковой и пушистой. Она постепенно, методично отнимала у него приметы его собственной прежней жизни – родовое поместье, квартиру родителей, собственную квартиру, двойное имя, а временно даже одну букву фамилии. Уже не говоря о социальном статусе. Почти тридцать лет сплошных потерь, из которых потеря имущества и даже половины собственного имени, данного не властью, а родителями, были меньшим злом. Будто кто-то свыше, а может, кто-то поближе, хотели доказать этому человеку все ничтожество его присутствия в мире, сжимая границы существования до последнего минимума. Долготерпец был счастлив тем, что на старости лет они с Маргит все еще рядом, вместе, и могут вечерами читать свои любимые книги. Ну, был господин Пауль Швагер стал гражданин Павел Швагер – какая разница? Теперь уже никакой. Правда, его имя теперь произносилось без прежнего пиетета. Еще хорошо, что не «заключенный Швагер».
На войну он не попал не столько по анкете, сколько по возрасту. В эвакуацию они с Маргит сами решили не уезжать, к родственникам не бежать – кому нужны два старика-нахлебника? Да и будет ли где-то там намного спокойнее, чем здесь, под родной крышей? Вряд ли. А уж если суждено погибнуть, что ж, лучше дома.
Так и жили старики в полном непонимании для кого и зачем живут. По-настоящему плохо Павлу Бернардовичу стало, когда неожиданно и странно ушла из жизни Маргит.
Где-то в сорок третьем, когда с фронта начали поступать хорошие вести, у Швагеров вдруг случилась неприятность. Не то чтобы очень большая, но для стариков часто даже мелочь может стать спусковым крючком для последующих трагических событий. Убирая со стола грязную посуду, вместе с какой-то газетой, в которую были завернуты очистки картошки, Маргит по нечаянности выбросила в помойное ведро и одну серебряную вилку. Обнаружилось это только вечером, когда ведро уже было вынесено на помойку, а весь мусор вывезен со двора. Она страшно расстроилась, помрачнела, посчитав это плохой приметой. То ли погода в то время была особенно скверная, то ли сам возраст давал о себе знать, но недели через три-четыре Маргит слегла. Сначала, вроде как, с простудой, потом оказалось, что районный врач не услышал у нее воспаление легких. В его оправдание дедушкин врач сказал Ане, что «прикорневое воспаление» прослушать трудно, а никаких антибиотиков тогда еще не существовало, один только белый или красный стрептоцид… Через неделю Маргит умерла.
Тогда Аня подумала, что надо запретить всем верить во всякие предрассудки, вроде снов или примет. Не поверь Маргит в придуманную ей примету, может, и справилась бы с болезнью. А тут – внушила себе и подчинилась. (Понятия «психотерапии», как способа «снятия стресса», еще не было).
С уходом Маргит нормальная жизнь для Павла Бернар-довича кончилась, но просто «уйти» самому не позволяла религия. До самого начала войны и какое-то время сразу после нее ему разрешалось работать, вероятно, потому что после всяких «чисток» количество грамотных инженеров существенно уменьшилось. Старик был тихий, безвредный и, к счастью, не нашлось подлеца, который бы с радостью написал на него донос.
Время шло, ничего не менялось. О сыне он так ничего и не знал, но все же упорно продолжал на что-то надеяться. Только эта надежда и позволила ему прожить еще несколько лет. Хотя друзья Швагеров, которые не очень «светились» в его доме, почему-то были уверены, что честный юноша с независимым и свободолюбивым характером давно уже вмерз в землю где-нибудь на Колыме.
О своих душевных страданиях он никому не рассказывал и на жизнь никогда не жаловался. Да, наверное, никто и не интересовался. Анечка, очень привязавшаяся к старику, просто боялась бередить его рану. А может быть, стеснялась навязывать себя в собеседники. Павел Бернардович терпеливо ждал, надеялся, что спросит. Ей бы он обязательно рассказал. Она – теплая, отзывчивая. Она бы поняла. Он бы рассказал и про себя, и про все свое, некогда обширное семейство. Про все двести с лишним лет жизни своего рода в России. И про друзей – Шехтелей, Раушенбахов, Пфельцеров, Габбе, Трепке… Мало ли в его разветвленном роду было достойных людей… Нет, никому он не нужен, никто не спросит, не поинтересуется.
Соседка Таня, за месяц до начала войны окончившая химический факультет университета, хотела сразу поступить в аспирантуру, но жизнь дважды за короткий срок заставила ее изменить свои планы. Сначала то ли друг, то ли потенциальный «жених», «сосватанный» ей заочно сердобольными соседками, уехал в Ленинград на учебу и больше не появлялся. Сразу после окончания института ее направили на работу мастером-технологом на Дорогомиловский химзавод, где общаться приходилось, в основном, с рабочими. Приятельниц почему-то почти не осталось – пока она ждала своего «жениха», большинство ее приятелей-мальчиков разлетелось по стране – квалифицированных химиков не хватало, а девочки повыходили замуж. Таня почувствовала себя «лишней». Теперь она была счастлива уж тем, что рядом появились эта славная пара, которая заменила ей потерянных друзей.
Таня была удивительно доброй и разумной женщиной, но, вероятно, какие-то спрятанные от чужих глаз катаклизмы не только разрушили ее семью, но и заставили отшатнуться от этого мира. Аня же была открытым человеком, всегда готовым прийти на помощь. Ее мягкая улыбка была словно приглашением к доверительному разговору, и Таня стала «оттаивать». При всей Таниной замкнутости женщины быстро подружились, гармонично дополнив друг друга. Больше чувствуя, чем зная корни ее душевного надлома, сменившегося смирением, Аня никогда ни о чем ее не расспрашивала. Понимала, что если та захочет, то расскажет сама, чтобы «излить душу». Ведь наболевшее всегда ищет выхода.
В первый же год войны умерла Ядвига Симоновна. Не от голода или нужды, а от какой-то дикой, «смертной» тоски, хотя понимала, что без нее не приспособленной к новой жизни дочери придется плохо. Но никакого желания жить не оставалось. А Таня уже взрослая, как-нибудь справится. Любимых соседей в этот момент рядом тоже не было – Лёню командировали на Урал еще до войны, а потом уехала и Аня с дочкой.
После смерти матери Таня впервые в жизни почувствовала зияющую пустоту в сердце и с горечью осознала, что в этой жизни никого и ничего, кроме работы, у нее не осталось. Жизнь имела смысл только, когда она делала любимое дело. Разумом она понимала, что плохо не ей одной, что когда-то и это должно закончиться, но поначалу она совсем растерялась. Даже на расстоянии, сидя вечерами в свой холодной комнате, в ставшей ей чужой квартире, она думала о любимой соседке – вот вернулась бы Анечка! Она думала о ней, как о единственном оставшимся у нее родном человеке. Тогда бы она могла выговориться. Хватит нести одной эту ношу! Она больше не может держать это в себе, она обязана рассказать! Аня поймет, поверит.
В один из вечеров после возвращения Ани с дочкой Таня начала свой рассказ. Она даже не просила держать это в тайне от других. Потом Аня не раз думала, что никакая Сага или «Война и Мир» не смогли бы передать вселенную тех переживаний, которые выпали за один век этой семье. И еще она подумала, что когда-нибудь, когда Маша вырастет, она должна будет передать эту историю, как передают эстафету, важное послание. Пусть узнает, каково было жить честным, интеллигентным людям в подлое время, в двадцатом веке. Хотя время – субстанция ко всем безразличная. Только сами люди способны превратить в настоящий ад не только свою жизнь, но и «других».
Что случилось, кто были «эти люди», Маше осталось только гадать и додумывать. Позже она дала имя этому явлению – «чернь», ибо «чернь» вовсе не всегда деклассированный люмпен или «черная кость», а черное, жестокое сердце «охотнорядца» и залитые ненавистью или завистью мозги. Сколько же таких развелось в ее стране? Имя им – «мильон».
Ничего из того, что рассказала Таня, дальше никуда не ушло. Тайна была похоронена дважды – сначала с ней, а потом – со смертью Ани, Машиной мамы.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?