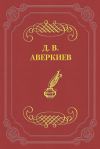Текст книги "Северный крест"

Автор книги: Альманах
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Никогда! – слышалось повсюду.
– Никогда! – громогласно отвѣтствовалъ Акай. – Такъ ужъ заведено, что родъ людской дѣлится на господъ и рабовъ – безо всякой надежды на примирительную середину – на угнетающихъ и угнетенныхъ, на пресыщенныхъ и истерзанныхъ гладомъ, на волчицъ и ягнятъ, на пожираемыхъ и пожирающихъ, на принуждающихъ страдать и страждущихъ, на покоряющихъ и покоренныхъ.
Торжественно оглядывая возставшихъ, вѣрнѣе, только возстающихъ изъ незакатнаго рабства, послѣ нѣкоторой паузы, продолжалъ Акай:
– Такъ будемъ же и мы пить изъ рога изобилія, изъ чаши благоденствія. Насталъ и нашъ часъ! Но да не поддадимся же и нынѣ увѣщаніямъ жрицъ и крысъ придворныхъ!
– О да, не поддадимся и да сокрушимъ твердыню Зла! – вопили наиболѣе загорѣвшіеся пламенною рѣчью Акая, пьяные и безъ вина.
– Помни, всякъ меня слышащій: въ сѣчѣ грядущей всѣ мы обрѣтемъ свободу вящую – и тѣ, кто поляжетъ, и тѣ, кто будетъ пировать на самой на вершинѣ Дворца. Но ежель и суждено намъ сгибнуть – дорого, дорого продадимъ мы наши души! – этими словами окончилъ свою рѣчь Акай.
– Слава Акаю! Мы твои – до гроба! – гремѣли возставшіе.
Кто-то изъ нихъ зычно и громно крикнулъ, заглушая прочихъ:
– Завтра, завтра одержимъ мы побѣду, о коей будутъ долго еще пѣсни пѣть, ибо не пожалѣемъ себя! Войско вражье вяло въ сердцѣ своемъ. Они только что и желаютъ, какъ убѣжать съ поля боя – да поскорѣе!
* * *
Чередою нескончаемою хлынулъ народъ: къ предмѣстьямъ Кносса; людъ былъ угрюмъ и напоенъ страхами за свою дерзость; но – скорѣе благодаря, нежели ему вопреки, – была толпа шумлива, гоготала она, разливаясь по аэрамъ отъ гулкихъ басовитыхъ голосовъ до пищанья дитятъ; и былъ гулъ по землѣ критской; и была чернь зла; и злой былъ жаръ дневной.
Ширилось число пришедшихъ, преходя въ великое множество. Случись множеству сему быть едину, то была бъ сила прегрозная, но была толпа сущностно разсѣянною: одна часть алкала, какъ то ей всегда было свойственно, хлѣба и зрѣлищъ; она и вѣдать не вѣдала, что помимо хлѣба земного есть хлѣбъ небесный. Иная часть толпы также вѣдать не вѣдала о хлѣбѣ небесномъ, но въ отличіе отъ черни, желавшей во что бы то ни стало утолить извѣчные свои глады – здѣсь и сейчасъ и любою цѣной (хотя бы завтра ихъ и казнили), – сія часть толпы желала перемѣнъ и ради перемѣнъ жертвовала до времени хлѣбами и зрѣлищами. Но какихъ именно перемѣнъ алкала она? Ясно одно: свергнуть Касато и царствовать вмѣсто него и владѣть Критомъ.
Но вотъ возставшіе, влекомые да подгоняемые красноярымъ быкомъ страстей, уже близъ Кносса; Кноссъ – въ кольцѣ возставшихъ; осажденъ Кноссъ, столица минойскаго Крита, и, кажется, нѣтъ исхода для него. Близятся возставшіе къ кносскому дворцу-лабиринту: къ послѣдней твердынѣ. Касато въ немъ нѣтъ, Касато схороненъ Критомъ, незримо обитая не то въ немъ, не то въ Египтѣ, и одной лишь Матери было извѣстно, гдѣ былъ онъ схороненъ; но есть жрицы въ Кноссѣ, въ кносскомъ Дворцѣ.
Словами чахлыми и лживыми бросилась власть въ сердца и желудки народные. Иные – съ глазами болѣе алчными и желудками болѣе пустыми – вѣрили: поддавалась они въ своемъ ослѣпленіи увѣщаніямъ жрицъ: власть обѣщала быть какъ никогда ранѣе щедрой, случись толпѣ разойтись и выдать въ руки жрицъ своего главаря. Но и другая, еще менѣе терпѣливая, съ волею еще болѣе короткою, часть толпы пускала слюни отъ обещаемаго: обещаемое – дары Аримана (неизвѣстнаго въ этихъ земляхъ лишь названіемъ, но не тѣмъ, чѣмъ онъ вѣдаетъ) – туманило мозги: всего лишь одно имя, одинъ лишь жестъ десницею на главаря, внѣшне никакъ отъ прочихъ не отличимаго, – и ты сытъ какъ никогда ранѣе. Болѣе того: всѣ сыты; и, быть можетъ, надолго: кто вѣдаетъ? Но на иной чашѣ вѣсовъ – Свобода чаемая, о коей не разъ вѣщалъ Акай. Иные, наиболѣе свободные изъ собравшихся, сознавали, что царь гласомъ жрицъ либо обманетъ, либо даруетъ десницею народу то, что украла у народа шуйца; но таковыхъ было не болѣе сотой доли отъ всѣхъ собравшихся.
Толпа надвигалася – несмотря на страхъ, оледенившій сердца, лишь сердца, – на дворецъ. И вотъ – окружила его: попала въ тенеты Лабиринта. Грозны были лица, и грознымъ предстало бы самое зрѣлище, случись кому увидѣть сіе изъ эпохъ болѣе сытыхъ.
И вышли жрицы на балконы чертога, сіи матки критскаго улья, со змѣями въ руцехъ или же на шеяхъ, лоснящіяся, мраморно-бѣлыя, съ власами черными, вьющимися, въ юбкахъ колоколообразныхъ, съ таліями – въ тростинку, величественно-медлительныя, презрительно взирающія на нижераспростертую суету. И обнажили жрицы верхнюю часть блѣдныхъ, яко Смерть, скорѣе синихъ, чѣмъ бѣлыхъ, тѣлъ – по повелѣнію надменной, какъ никакая иная, и неподвижной, какъ изваяніе, ихъ предводительницы, владычицы дворца, которая, несмотря на оголенность вплоть до таліи, вышла не въ чёмъ мать родила: хотя и были ея власы распущены (однакожъ на дѣлѣ уложены искусно и старательно), покоились они величаво на діадемѣ, искрящейся подъ всеопаляющимъ Свѣтиломъ; изъ діадемы виднѣлися змѣи извивающіяся; змѣи обвивали главу ея, и птицы кружились надъ нею, а одна изъ нихъ сидѣла на тонкихъ ея раменахъ; на раменахъ также покоились змѣи, обвившія выю; въ розовыя ушныя ея раковины, сквозь которыя струили себя свѣты дневные, были вдѣты массивныя серьги – серебряныя, въ срединѣ коихъ покоилось по одному темно-багряному камню; ожерелье изъ жемчуговъ украшало длинную и тонкую ея выю, а талія была окольцована золотымъ обручемъ, пусть и въ меньшей мѣрѣ, но также сіявшимъ въ лучахъ Свѣтила; въ каждой рукѣ было по браслету; ноги были, видимо, прикрыты колоколоподобной юбкою до пола – но едва ли кто обратилъ на сіе свое вниманіе. – Взоры собравшихся мужей (большая часть возставшихъ была мужского пола) приковывали не сіи безподобныя украшенья, плоды критской работы, славной во всёмъ восточномъ мірѣ, но перси размѣровъ несказанныхъ, нѣкимъ чудеснымъ образомъ сочетавшіеся съ точеною ея фигурою: приковывали, чаруя очи и сердца, манили и восхищали. – Богиней предстала она, властная и надменная, величавая, съ неспѣшными движеньями, подобная статуямъ временъ много болѣе позднихъ, пышногрудая. И подъяли руцѣ къ небу жрицы, къ началу отчему, словно взыскивая его, ибо сами были плоть-во-плоти, дщери Матери и земляныя лона, и въ неподвижности застыли, словно претворившись въ статуи. Толпа словно забыла, зачѣмъ пришла. И восторгъ отъ узрѣннаго заступилъ, и исчезло ярое недовольство властью. Таково было дѣйствіе высшей жрицы. И загоготала мужская часть толпы, недовольно переглядываясь межъ собою, и воздѣла изсохшія и жилистыя свои руки ко Дворцу, глядя на недвижную Атану съ почтеніемъ.
– Атана, Атана, высшая изъ рожденныхъ, – кричала толпа, – богиня во плоти, ниспошли намъ дары божескіе, яви милосердіе хотя бъ и на мигъ единый. Знаемъ мы наказъ людей вящихъ, брошенный намъ: «Землю пахайте: и какъ можно лучше. Усерднѣе, усерднѣе!». Но нейдутъ, нейдутъ всходы. Смилуйся, о Превысокая!
Иные кричали: «Хлѣба! Хлѣба!»; имъ вторили иные, прося также и вина. Но чаще слышно было: «Великой богинѣ – слава!». Остальные не находили, что сказать, и были благодарны за самую возможность лицезрѣть богиню.
И услышала Атана вопли черни, и подняла хлѣбъ въ десницу (то былъ то ли критскій, то ли покупной хлѣбъ, то ли хлѣбъ изъ закромовъ царевыхъ) и бросила его въ толпу. Взревѣла толпа, ибо старецъ подобралъ упавшій хлѣбъ, жадно, обѣими руками, ввергая его въ уста свои съ проворностью необычайною. Навалилась толпа на старца. И раздавила его.
Бросила Атана еще три хлѣба. И случилася бѣда: толпа стала грызть самое себя; билися: и старъ, и младъ; и дѣвы, и мужи; и дитяти, и старцы. Многіе, многіе были биты тяжко, иные убиты.
И – прорѣзая вопли толпы – гласомъ громкимъ возопила Атана:
– Слово есть къ толпѣ: кто главарь?
Молчала толпа; и волновалась головами своихъ членовъ, какъ волнуются волны на лонѣ морскомъ.
Грозно продолжала Атана и воздѣла руцѣ къ небу:
– Благословеніе Матери и прочихъ богинь будетъ до вѣка на томъ, кто откроетъ тайну: кто предводитель вашъ? Премного зачтется тому за дѣянье сіе.
Снова – сквозь гулъ собственный – отвѣтствовала было чернь молчаньемъ, хотя всего болѣе боялась толпа, что отыметъ она руку Свою, и прекратятся хлѣбы ея. И возопилъ людъ къ ней со словами «Пощади». Ибо медоточивыми представлялися народу рѣчи Атаны: обольщала она сердца и желудки; не видѣли яда подъ устами ея.
И вотъ одинъ изъ возставшихъ, мужъ, густобрадый и рослый, съ кожею смуглою, симъ напечатлѣньемъ Солнца южнаго, съ венами набухшими и видными издалече, тѣлосложенья геркулесовскаго, съ очами жадными до блѣдныхъ и пышныхъ дѣвьихъ тѣлъ, широкоплечій, облика некритскаго, съ волосами по всему тѣлу (волосы его напоминали виноградныя лозы), нѣсколько тучный, быковидный и словно быколикій, находящійся ближе прочихъ къ Атанѣ, переводя взглядъ отъ черныхъ ея кудрей, ниспадавшихъ ниже плечъ, то – съ жаромъ большимъ – къ пышнымъ ея персямъ, ничѣмъ не прикрытымъ, бѣло-блистательнымъ, походившимъ на вымя, съ сосцами кровяными, пожирая ее взглядомъ (на что она не обратила никакого вниманія) гласомъ едва ли по-критски низкимъ, изрекъ, ею околдованный, плѣненный, прельщенный: «Сито Потніа!»; что означало: «Владычица хлѣбовъ». Непонятныя слова (ибо сказаны они были на ахейскомъ, греческомъ языкѣ, иногда уже встрѣчавшемся на Критѣ въ тѣ времена) облетѣли топлу; запомнились; прижились: ибо была впослѣдствіи причислена та, что была верховной жрицею, къ сонму боговъ.
Тѣмъ временемъ, мужъ, околдованый Атаною, крикнулъ:
– А ежель скажу, о державная, обласкаешь меня? Ибо красою бросилась ты мнѣ въ сердце, о прекрасная.
Ропотомъ отвѣтствовала толпа.
Атана съ надменствомъ отвѣтствовала, вонзивъ льдяныя свои очи въ мужа того:
– Я отдамся тебѣ и дозволю тебѣ познать меня, по милости Всевысшей изъ богинь, познать мой ледъ. Такъ кто? Кто? Отвѣтствуй немедля! И тогда будешь мною укрощенъ.
Однако медлилъ страстотерпецъ: сей алчный до бѣломраморной ея плоти боролся съ собою, потупивши очи. Но снова взглянувъ на нее и возгорясь безмѣрно, хрипло произнесъ, вновь потупивъ очи:
– Акай, Акай Пришелецъ, что стоитъ одесную меня. Се – онъ, о державная, – тутъ указалъ онъ на Акая.
Жестокая улыбка осіяла бѣлокаменный ея ликъ.
– Я покорена твоею честностью и твоимъ благородствомъ. Ты – не они: ты чтишь богинь. Ей, гряди ко мнѣ, быкъ, я приласкаю и укрощу тебя: се, священный мой долгъ предъ Матерью всего сущаго. Воля моя верховна, мужъ, и грядущія мои терзанія уродливо-излишне-мощной твоей плоти – моя добродѣтель, – говорила она, полнясь яростью, подобясь свирѣпѣйшей Кибелѣ, всегда алчущей крови. – А кто сомнѣвается, тотъ да узритъ сіе: такова воля Высшей Богини. Я укрощу и усмирю быка. Я укрощу и смирю и буйство плоти его.
Атана вскорѣ молвила на ухо мужу, ею околдованному, обдавши его хладомъ и прикасаясь пышными своими персями, отчего всё болѣе и болѣе разгорался онъ, словно жарясь въ мѣдномъ быкѣ иль словно претворяясь въ пламень:
– Благородство и достоинство не въ томъ, чтобы спорить съ Судьбою, стязаться съ Нею и – того болѣ – биться съ Нею, но въ томъ, чтобы сперва ей покориться, а послѣ – пользоваться великими Ея дарами, для человѣка преблагими, и преблагословенными, и всесладкими: пользоваться, избѣгая Ея ударовъ. Ибо мудрость и польза всегда идутъ рука объ руку. Помни: Судьба – жестъ и взмахъ Матери, когда Ей неугодно являть себя въ обличіи.
Близилась близость – завѣтное и святое помраченіе какъ неисповѣдимый даръ судьбы, владычное надо всѣмъ живымъ, отторгнутымъ небесъ, поверженнымъ долу и отъ вѣка и до вѣка слѣпымъ, елей для слабыхъ, позорно-мелкихъ сердецъ, пламенѣющихъ другъ другомъ и сгорающихъ въ Мы, чадная заря грядущаго. Обманнымъ луннымъ свѣтомъ манила Атана, выдвигая неподвижное бѣлоснѣжное лицо и тучныя перси. Губы – какъ кровь, лицо бѣлое, черные волосы – какъ змѣи. И Змѣи сидѣли на волосахъ. Глаза мужа, вперенные плотью въ плоть, глаза – гулы плоти, блистали, метали молніи, прожигали её; недвижные ея очи, напротивъ, – ледынь, метель, пурга. Повелительно-неспѣшно указала перстомъ Атана на внутренніе покои и застыла: какъ соляной столпъ. Черно-красное ширилось и словно прожигало пространство. Остріе страсти вовсе не сладко пронзило мужа: зовъ ея, дѣвы хладной, какъ безпросвѣтная метель, какъ снѣжная пурга, отозвался въ немъ добѣла раскаленнымъ пожаромъ, мракъ ея разрѣшился чадящимъ свѣтомъ, а величавый ея покой – его безпокойствомъ-безуміемъ. Ушедши въ покои, оба, однако, не скрылися изъ виду толпы; толпа могла лицезрѣть имѣющее быть. И былъ мужъ сей быкомъ красноярымъ, а Атана – львицею: терзающей быка. Мрѣвшій аэръ пронзили слова: «На колѣни, мой рабъ». Повергся долу мужъ и – падши – поклонился ей. И – поклонившись – палъ, поверженный. Ликовала Сѣверъ-дѣва, возрадовавшись въ сердцѣ своемъ, и горѣлъ въ ней огонь страстности безстрастія.
Одежды упали наземь, бѣлизна плоти – точно мраморъ. Онъ не приближался къ ней, а наступалъ – какъ быкъ. Глянула взоромъ смертоноснаго презрѣнія и равнодушія – молнія ударила въ душу и принудила мужа страстно и властно прижать къ себѣ Атану, недвижную и прекрасную, какъ Смерть. Пали на ложе, свивались тѣлами. Змѣею обвила она мужа, неутолимо сопрягшагося съ нею.
Можетъ показаться: Грѣхъ говорилъ Атаною, а болванъ говорилъ Акаемъ, – на дѣлѣ всё было не столь просто: для мужа, околдованнаго Атаною, въ мигѣ томъ была – вся Вѣчность – всё, всё, всё: вся жизнь была тьмою, а нынѣ была она свѣтъ; была она морокомъ, а нынѣ – сіяніе, сѣверное сіяніе; вѣсь смыслъ жизни горѣлъ въ мгновеніи полыхающемъ: сперва стукъ Судьбы въ дверь, послѣ – мучительныя и черно-красныя метанія, послѣ – послѣ пораженія – безумящее вожделѣніе, огнедышащіе потоки похоти, впрягающей сердце въ ярмо, страсти взрывъ, молнія чувственнаго, рождающая помутнѣніе разсудка, далѣе – лобзанія, огнь, ярость, руки, перси, стенанія, судорожное движенье чреселъ, напряженіе, изступленьѣ, содроганія, похожіе скорѣе на судороги, змѣиные извивы плоти дѣвы, нехватка воздуха, мѣрные внутренніе дерги влагалища, сѣмя раскаленное, изнеможеніе, – спиралевидная симфонія льда и огня: цѣною жизни Акая, цѣною общаго дѣла, цѣною души сего мужа…
Падшій сей мужъ, однакожъ, менѣе всего ощущалъ сіе какъ паденіе: плотяная призма всё, относящееся въ міру духа, видитъ не только въ дурномъ свѣтѣ, но и часто, слишкомъ часто въ свѣтѣ противоположномъ: плотяность – слѣпота воплощенная. Плоть ничего не вѣдаетъ, будучи слѣпой въ мѣрѣ высшей, но всего алчетъ; духъ всё вѣдаетъ, но не алчетъ ничего. – Для плоти паденіе то – не паденіе, но надмирная прелесть, восхожденіе къ далямъ надзведнымъ, касаніе божественныхъ гармоній. Для духа паденіе то – колѣнопреклоненное нисхожденіе – кубыремъ – къ самымъ низинамъ трона создавшаго, откуда и не видно павшему: лукавой улыбки творца.
– Насытился ли ты мною, о быкъ священно-терзаемый? – по-змѣиному лукаво спросила Атана.
– Нѣтъ, о богиня! Нѣтъ! Возможно ли сіе? Готовъ я снова предать себя въ пречистыя твои руцѣ, – взволнованно отвѣчалъ мужъ.
– Мной никто никогда не насыщался, – сказала Атана, полнясь критскою улыбкою и тыкнувъ въ него лабрисомъ, которымъ она – священнодѣйствуя – игралася съ нимъ: лабрисъ указывалъ на великую ея власть: надъ жизнью и смертью быколикаго, быкообразнаго сего мужа: мужа-быка.
– Въ мигѣ томъ была Вѣчность, но Вѣчность оказалася мигомъ. Ты Луною была, а я – Солнцемъ.
– Да, познавшему меня Жизнь уже и ненадобна; и Солнце, кланяясь Ночи и Лунѣ, когда нисходитъ за окоемъ, есть жертва вседержавной владычицѣ Ночи – Лунѣ, багряно-кровавой, святой, оно – законная ея добыча.
– Не зрѣть тебя болѣ было бъ еще хуже, чѣмъ Жизни лишиться, ибо когда взиралъ на тебя, вѣсь мой взоръ… Всё за тебя, всё…Располагай жизнію моей, о вседержавная!
– Какъ зовутъ тебя, страстотерпецъ? – вновь лукаво, что было всегда ей присуще, вопросила Атана, очи чьи словно противополагались устамъ ея: очи – ледъ, уста – улыбка, пламя, жизнь.
– Загрей.
– Отвѣтствуй: грекъ ли ты еси?
– Да, родомъ изъ Микенъ.
– Оно и видно.
Атана размышляла, видя пылъ сего мужа: оставить ли его въ живыхъ или нѣтъ. Склонялась къ первому. Тѣмъ временемъ, многіе прочіе мужи полѣзли во дворецъ, но были разстрѣляны дворцовыми лучниками.
Атана жестомъ повелительнымъ приказала мужу бороться противу бывшихъ его союзниковъ. Тотъ съ радостью то исполнялъ; и рада была высшая жрица. Угроза для дворца миновала. Въ тотъ же день, часами позднѣе, Загрей, хотя и усталъ, но снова возжелалъ Атану, глядя на нее съ нагло-тупымъ вожделѣньемъ, словно не растративъ вѣсь избытокъ могучихъ своихъ силъ. На сей разъ взглядомъ, исполненнымъ не презрѣнья, но нѣкоего довольства, скорѣе теплаго, чѣмъ хладнаго, отвѣтила казавшаяся богинею недвижная, застывшая дѣва; но и это лишь раззадорило мужа. Снова на нее набросился мужъ, пылая любовію, увлекая её въ многомощныхъ своихъ объятьяхъ; снова черно-красное множилось, и время словно сжималось, а свобода истаяла, испарилась. Многострастными лобзаньями покрывалъ Загрей мраморное тѣло жрицы. Пронзалъ её онъ плоть – вновь и вновь; покамѣстъ и она не пронзила его: лабрисомъ. Кровью насыщалася свирѣпая жрица, дѣва-Земля.
Атана предстала Ариманомъ: въ женскомъ обличьѣ. Ибо была она если и не мыслью, то воплощеннымъ чувствомъ Матери.
Мужа того видали – и видали не разъ въ окрестныхъ лѣсахъ: послѣ того. Не на него похожаго мужа, но его самого.
* * *
Виднѣлись: темница изъ чернаго камня, въ кою едва проникали лучи свѣта, нѣсколько фигуръ, Акая лицо окровавленное – не поникшее и не потухшее, но гордое и злое не злобою, но великимъ напряженьемъ могучихъ силъ его, – рубаха разодранная, валявшаяся на полу каменномъ.
– Приступимъ, да скажешь многое утаенное, бородатый, – сказалъ первый палачъ, исполнявшій также и роль мучителя, пытающаго пытаемаго.
– Ты, ты возстаешь противу богами данныхъ законовъ? – вопросилъ Акая второй, что обликомъ былъ мрачнѣе ночи.
Акай молчалъ.
– Возстаешь противу славныхъ нашихъ порядковъ? Противу обычаевъ, установленныхъ въ древности незапамятной самими богинями? – продолжалъ второй.
Но молчалъ Акай.
– Эй, брадатый, чего отмалчиваешься? Шкуру сдерутъ съ тебя – дѣловъ-то! Покайся, говорю, – посмѣиваясь говорилъ первый. А второй добавилъ: – Хуже вѣдь будетъ. Отложись, говоритъ, грѣха своего! Не то кончимъ того, кѣмъ бунтъ дѣется: тебя. А прочихъ мы уже побили. А иной людъ и такъ нашъ, критской, за возставшими не убѣгъ онъ. Такъ что покайся, а не лайся!
Хрипя, тихо произнесъ Акай, не глядя на нихъ, и кровь сочилась изъ ранъ его:
– Эти, легковѣрные, народъ сей, заслужили Касато, а Касато заслужилъ ихъ: на многая лѣта; низкое да не ждетъ высокаго, а высокое да не ждетъ низкаго. Владѣетъ онъ міромъ, думая, что онъ – путь, но онъ не путь, но лишь путы, и распутье, и распутица.
Напротивъ стояла, гордо подбоченясь Атана, торжествующая и радующаяся въ сердцѣ своемъ. Взирала: звѣремъ; улыбалася: великимъ его страданьямъ; краска залила мраморное ея чело: краснѣла: отъ удовольствія жесточайше-сладострастнаго. Обликъ ея былъ поистинѣ ужаснымъ.
Слышались: немѣрно вспыхивающіе стоны, вскрики, прорѣзающіе мѣрность неумолимыхъ ударовъ, претворяющихъ спину Акая въ кровяное мѣсиво.
Чувствовался – чрезъ нѣсколько времени: запахъ горѣлаго мяса.
Акаю думалось: «Близится послѣдній часъ; я потерпѣлъ пораженіе: не по волѣ собственной и не въ силу собственныхъ ошибокъ, но потому лишь, что повѣрилъ въ тѣхъ, въ кого вѣрить было нельзя. Однако дѣло мое не сгинетъ – да не сгинетъ! – въ прорвѣ вѣковъ, даже ежли имя мое будетъ забыто вѣками, ибо я разбудилъ ихъ ото сна».
Зрима была: отаями смысловъ ниспадавшая лазурь…
Виднѣлся на тверди небесной: облакъ, походившій на Лабрисъ: посреди кристально-голубого неба.
Когда свѣтъ жизни исшелъ изъ Акая, Атана произнесла:
– Во имя богинь. И всего пуще: во имя Матери!
Послѣ же, со взоромъ, болѣе подобающимъ эриніи во время злодѣяній ея, нежели смертной, Атана произнесла нѣкія таинственныя не то заклинанія, не то и вовсе полубезсмысленныя слова, словно глаголя нарѣчіемъ міра подземнаго.
Ликъ помертвѣвшій – Акая – виднѣлся посередь пыточнаго застѣнка. А за нимъ – опустѣлая тѣмъ временемъ площадь съ истоптанною землею, съ засохшею кровью, съ разбросанными то тутъ, то тамъ оборванными рубахами, площадь, на которой виднѣлись: обезображенныя тѣла погибшихъ, которыхъ безпорядочно складывали (по недостатку опыта въ подобныхъ дѣлахъ), съ застывшими, окаменѣвшими ужасомъ лицами: масками Смерти; лица, на которыя взгляни – и самъ погибнешь: ужасъ отъ встрѣчи съ Нею перешелъ бы и на самого взиравшаго; иные – со скрюченными пальцами, словно тянущимися къ хлѣбамъ земнымъ. Кровь засыпали песочкомъ – прочь отъ страшнаго: засыпалъ – и не было ничего. – Главное правило не только критскаго искусства, но и всего критскаго бытія было: не изображать, но утаивать наиважнѣйшее, почитавшееся священнымъ: рожденіе, соитіе, смерть; боговъ (кромѣ Великой Матери); царя и царицу.
Свинцовая полутьма нависала надъ Критомъ. Курносая и оплывшая харя на него наступала: носомъ, – вослѣдъ сплоченному стаду тучъ-бычковъ, неложныхъ вѣстниковъ великихъ грозъ. Тишина, сгустившаяся надъ землями добрыхъ, – какъ оглушенность, какъ молотъ. Громы зыблемой въ пропасть эпохи до времени зрѣли незримо, пучась: смертью минойскаго Крита. – Молнія уже бродила по упадающему Криту: съ мечомъ.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?