Текст книги "Движение литературы. Том II"
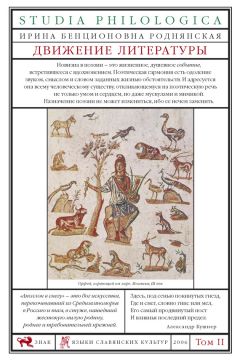
Автор книги: Алсу Бикташева
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
«При этом собственная интонация Кушнера узнаваема сразу и безошибочно, хотя ее, как всякую интонацию, невозможно рассказать – разве что спеть! – она, обладая огромной активностью, по прочтении многих стихов застревает в ухе, как некий навязчивый мотив». Так пишет Татьяна Вольтская, еще один критик Кушнера, во всем, что касается поэтической философии последнего, совпадающая со Славянским. Просто она – слышит, потому как сама поэт. И репутация любого поэта действительно ставится на кон в зависимости от этого «неопределимого» и будто бы внеэстетического фактора. «Пахла цветами, пальцы нежные к пастиле / клавишей крались, глаза в нотном вязанье спицей / вязли… А вот пушистые персики на столе – / рядом с Арлезианкой, жесткой и желтолицей!» – так писать – значит терять частицу своей художественной репутации, потому что Кушнер уже провел в воздухе эти линии – для себя, для собственной души (имя автора стихов называть не стану).
Ладно, другой скандал куда серьезней.
«Для оправдания своей заурядности Кушнер стал усиленно развивать тему частного, которое натягивалось не только на социальное место поэта, но и на самое поэзию. Ему на помощь приходит Лидия Гинзбург… Изымая его из романтической традиции, она тем не менее продолжает говорить о нем как о лирическом поэте. Это просто научный скандал».
Ради краткости продолжу своими словами. Скандал заключается в том, что «по какому-то там Гегелю лирика есть содержание романтизма», что это приложимо и к античной лирике («романтическая ситуация»: утрата объективных ценностей, выдвижение индивидуальности) и что лирика требует «духовной мощи», «метафизического параметра личности», а такое (недоговаривает, но подводит под Гинзбург логическую мину наш аналитик) возможно только в границах романтической матрицы.
Оставим в стороне и то, что Гегель пересказан плоховато, и то, что если даже лирика – «содержание» (вернее, излюбленное русло) романтизма, это еще не значит, что романтизм – «содержание» лирики (теорема необратима), и то, что никакой Гегель не захочет нести ответственность за столь странную квалификацию античной лирики (до Давида-псалмопевца у Славянского почему-то руки не дошли – а ведь тоже лирик, вне всякого сомнения). Сказано главное слово – романтизм. И оно требует от нас предельной серьезности.
Вот где собака зарыта. На протяжении двух последних лет три с половиной человека (Вик. Топорова я числю в дробях ввиду его общеизвестной литературной неприглядности, но остальных троих уважаю) обрушились на Кушнера фактически с одними и теми же ниспровержениями: он не романтический поэт, а значит, и не поэт вовсе. В условиях «кризиса новоевропейского индивидуализма» и «глобальной катастрофы духа» (Н. Славянский) на роль предсказанного Евгением Боратынским «последнего поэта» выдвигается – догадаться нетрудно – Иосиф Бродский, Кушнер же оставляется за чертой, как поверхностное карликовое произрастание, не ведающее о вулканических разломах почвы.
Третьим, наряду со Славянским и Вольтской, назову Серго Ломинадзе, который в статье «Пустыня и оазис» («Вопросы литературы», 1997, март – апрель), анализируя, притом очень тонко, стихотворение Бродского, адресованное Кушнеру и обидевшее его, под конец бросает в лицо адресату блоковские строки: «Ты будешь доволен собой и женой…» Эпизод показательный. Более наивную прокламацию романтического избранничества, чем стихотворение Блока «Поэты», трудно отыскать. И что с того, что впоследствии сам Блок сделал рядом с этими стихами помету: «Отвратительный анархизм несчастного пьяницы», что с того, что по миновении двадцатого века оно звучит как доисторический мотив, – Ломинадзе оно вполне по душе. Как образец лирической стратегии и как неотразимый аргумент в полемике.
От настойчивого социально-культурного заказа на романтизм, сделанного сегодня такими неслучайными людьми, невозможно просто отмахнуться. Посмотрим, как в этом свете видится фигура настоящего поэта Славянскому. Он рисует ее от противного – от Кушнера, до того противного, что с ним «неприятно из одной тарелки». (Простите за повторение некоторых из нижеследующих цитат.)
«Кушнер нигде не преодолевает условностей искусства».
«Стихи Кушнера очень хороши, поскольку он выражает в них только выразимое…»
«Этот поэт ни при каких обстоятельствах не может угрожать окружающей среде созданием критической массы».
«Жизнь Кушнера – это не жизнь поэта».
Не кажется ли вам, что нас вернули в какие-то позавчерашние времена, в объятия какого-то прилипчивого дежа вю? Нужно ли «преодолевать» условности искусства после того, как «границы искусства» так ответственно определял Вячеслав Иванов, после того, как рухнули все теургические утопии, тщившиеся преодолеть эти границы и условности, после того, как на таком «преодолении» прокололись футуристы и лефовцы? Нужно ли заводить старые речи о «невыразимом» и «несказа́нном» после художественной борьбы акмеистов за выразимость и явственной их победы (при том, что несказа́нное никуда не делось из их лучших творений)? Стоит ли «угрожать окружающей среде» после того, как красивый, двадцатидвухлетний и достаточно массивный Маяковский уже прошелся по этой среде, «мир огро́мив мощью голоса», и сорвался в продавленную им же самим волчью яму? И что такое – «жизнь поэта»? Жизнь Пушкина не была жизнью поэта, хотя это была жизнь гения, почитавшего поэзию святыней и гласом свыше (романтики – от Соловьева до Непомнящего – до сих пор укоряют его за то, что он так и не зажил жизнью своего Пророка). Жизнью поэта была жизнь романтического юноши Веневитинова: «Все чуждо, дико для него, / На все спокойно он взирает, / Лишь редко что-то с уст его / Улыбку беглую срывает». Но кто сейчас помнит стихи Веневитинова…
В одном из точнейших своих исследований Лидия Гинзбург показала, что за тыняновским термином «лирический герой» стоит реальность именно романтической лирики, лириков, вживляющих в стихи собственный легендарный образ, и что не всякая лирика такова – и Пушкин, и Мандельштам пишут впечатлениями, а не стилизованными автопортретами, их поэтические биографии жизненно-конкретны, а не фигуративны, – в этом смысле оказываясь биографиями частных лиц. Кушнер заостряет эти мысли, понятное дело, в интересах своей поэтической философии: «Есть поэты с фотообъективом, / Их самих снимающим в упор: / Отбегут, замрут перед штативом / С видом сиротливым, / Обогнав щелчок, потупив взор». Есть такие поэты, и это не значит, что они хуже Кушнера. Но и не значит, что лучше.
Эти довольно общеизвестные мысли Славянского не посещают. Он твердо уверен, что поэт как особа, ангажированная небесами, не должен ощущать себя лицом «частным», живущим жизнью обычного человека, что это измена, отказ от «духовной мощи», предательство «метафизического уровня» и вообще ниспадение в толпу того гигантского силуэта, который над ней величаво возвышался в лучшие для искусства времена. Конечно, в глубине души он чувствует, что подверстать многих прекрасных русских поэтов к этому циклопическому образу нелегко, – однако старается. Пастернак «пережил романтическое отношение к жизни, поэзии и самому себе как неизбежную и чрезвычайно важную стадию личностного становления. Он отказывается от миссии романтического поэта (“чье жизнепонимание ярко и неоспоримо”), потому что она и не могла быть реализована в условиях надвигавшегося времени».
Ах, вот оно что – «миссия». Предположить, что Пастернака побудило отказаться от нее «надвигавшееся время» (то есть идеологическое давление власти), что из-за этого он отмежевался от поэтической психологии Маяковского (о чем пишет в «Людях и положениях»), – значит ничего не понять в его становлении и даже глубоко его оскорбить. Пастернак шел от романтизма к христианскому мировидению, к «растворенью» в других, «как бы им в даренье», и слишком хорошо известно: Евангелие его восхищало тем, что в отличие от Ветхого Завета священная история представала там не историей царей и героев, а историей «частных» лиц «без статуса».
Ну, а Фет?
«Борьба Фета с христианством была грандиозным событием его личности, она соответствовала духовной породистости его атеизма и титанизму его сознания».
Риторика, декламация. Не понимает автор, что вести речь о «титанизме» Фета – все равно что придавить его бетонной плитой. Уведомленный о своей грандиозной «борьбе с христианством», Фет, верно, переворачивается в гробу и силится хладной рукой стереть прометеевский грим.
… На почве романтизма Кушнер размежевался с Бродским вполне принципиально – как Пастернак с Маяковским (кстати, аналогия между двумя романтическими поэтами – начала и конца века – проведена в книге Юрия Карабчиевского «Воскрешение Маяковского», и аналогия эта не бессмысленна). В 1962 году в ответ на прекрасную балладу Бродского «Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам…» Кушнер написал тоже превосходное, на мой взгляд, стихотворение, где мраку, буре и луне противопоставил идиллический предзакатный пейзаж, проливающий в душу мир. (Стихотворение не включено в кушнеровское «Избранное», может быть, по причинам литературного этикета, – я пишу о нем по памяти.) Это было так давно, что обоим поэтам не пришел еще срок меряться славой; ничего, кроме идей, не подталкивало их к столь резкому самоопределению и взаимообособлению. Но каждый уже твердо знал свой внутренний путь.
Окончательная разгадка. Для единоверческой позиции трех критиков Кушнера я выбрала бы старую школьную формулу: реакционный романтизм. К прекрасно осознаваемому ими закату некогда цветущего новоевропейского индивидуализма, с его фаустовскими порываниями и надмирной героикой, они относятся ностальгически, именно что реактивно, пассивно, «реакционно». Даже статью Аверинцева «Моя ностальгия» Славянский слегка подкрасил под Константина Леонтьева; для Аверинцева слова «гуманизм» и «либерализм» не звучат как брань, хоть он и сознает их относительную цену.
Славянский и иже с ним не решаются принять того, что увиделось католическому богослову (и гуманисту) Романо Гвардини, автору порубежного (1950 год) сочинения «Конец Нового времени. Попытка найти свое место»: что кончилось пышное развертывание единичных личностей на безвестном фоне остальных; что «личность» как нечто роскошное и исключительное сменяется «лицом», чем-то «скудным и твердым», имеющим почти стоический характер, тем, что, однако, можно спасти и развить в любом человеческом индивиде, ибо и он «окликнут Богом».
У Кушнера есть стихотворение из цикла «Большие числа», которое можно было бы назвать так же, как трактат Гвардини:
Помню, в детстве на улицах было не много людей.
Никого не задев, по Большому пройти было можно,
Как на Крите, наверное, в пору микенских царей.
Жизнь с тех пор не узнать: многолюдна, густа, суматошна.
……………………………………………………
Многонога, быстра, никогда, никогда не была
Многоглазой такой, многорукой и многоголовой.
Поощренья просить у такого большого числа?
Быть любимым листком в этой тьме тополиной, кленовой?
На каком основанье? В клубящейся этой толпе
Быть отмеченным сверх общепринятой меры неловко.
Где младенческий век, о необщей мечтавший судьбе?..
Славянский в таких речах видит свидетельство «приплюснутости» поэта. Но поэзия Кушнера – «попытка найти свое место» в постсовременной ситуации (в ситуации «без Зигфридов», которая предсказана Блоком в прологе к «Возмездию»). И может быть – это попытка в толпе быть «окликнутым Богом», не прибегая к ритуальным жестам, недоверие к которым очень трудно преодолимо.
Леонтьевско-шпенглерианская же поза – романтически ущербна. Она закрыта для собеседничества с себе подобными и исчерпывается – вот тут это слово впору – красивыми стенаниями. Это уход в прошлое с громким хлопком дверью.
А propos: о ритуальных жестах. Когда-то мне передали мнение старшего собрата по цеху: «Вечно Роднянская делает ритуальные жесты перед талантом». Отзыв был явно пренебрежительным, но никогда я не слышала лучшей похвалы. И сейчас я не за Кушнера вступаюсь, не за его ориентацию в жизни и в поэзии, Бог с ней. А за его дар. За этот ключевой пароль, столь нелогичный в устах безбожного(?) Набокова: ведь где дар, там и Даритель. Дар требует жестов почитания, вольно или невольно они адресуются его Источнику.
Глухое презрение к Божьему дару и смешивание его с позитивистской яичницей собственного приготовления, подсунутой к столу поэта, – вот что я прочитала в статье Славянского.
Впрочем, каждому свое. Николай Славянский – санитар леса. Я бы даже сказала: гениальный санитар леса. Сильные выживут (за Кушнера не страшно), прочие – сгинут. В этом смысле – «в его руке олива мира» (см. стихотворение Боратынского «Смерть»).
Стальная водица в небесном ковшеЧитая стихи Олега Чухонцева, не можешь не думать, что же с нами будет. («Темна наша будущность… И весело как-то, и страшно…») Понимаю, этим еще ничего не сказано ни о стиле, ни о мере совершенства, ни о месте в словесности эпохи. А между тем из такого первого, врасплох, отклика на голос поэта следует многое.
Наша богатая, что бы ни говорили, поэзия ближайших десятилетий (кто – протискиваясь в печать, кто – пряча в ящик стола, кто – перебрасываясь через границу) захватила в свои прозрачные сети весь круг естественного и душевного бытия, космос и историю, «прекрасный сор» (А. Кушнер) случайностей и веянья запредельного, драмы личной неприкаянности и трагедии общего разора, юмор нескладицы и спокойное достоинство гармонии. Вопреки фильтрам, установленным в оное время в каждой редакции, в каждом издательстве, не осталось ни одной жизненной темы, которая не была бы «канонизирована», введена в область поэтически возможного, – и в этом новом, едва умолкли великие поэты первой половины века, присвоении мира я вижу главный смысл и победительную удачу того лирического всплеска, коему являлась свидетельницей.
В несвободной стране поэзия доказала неискоренимость своей тайной свободы. (И тут замечу, что, ежели новейшее поэтическое поколение надеется выйти в люди, играя на сокрушении запретов, оно рискует наскрести пригоршню непристойностей, и только: все реальные препоны на пути стихотворческого потока уже были сметены и опрокинуты предшественниками.) В этом движении Олег Чухонцев – «один из», со своей сколь личной, столь же и типичной судьбой долгописца «в стол», о чем – ниже. Но есть в его даре и в его положении некая глубоко запрятанная уникальность: неочевидность чрезвычайных возможностей, невостребованность публикой чего-то главного, несмотря на отличную литературную репутацию, на имя, много лет набиравшее в неофициальном укроме – и набравшее-таки – прочную известность.
Это главное (и труднопоказуемое) в нем – реющий надо всей узнаваемой предметностью нашей жизни звук, из будущего, что ли, нерасшифрованный, неизъясненный; какой-то дальний раскат небесного грома или подземного гула, гомон перемен за чертой кругозора или, быть может, шум, с каким на исходе истории распахиваются ворота в вечность. Зрение, память зрения, память пространств и объемов, обликов и очертаний действует у него как бы сама собой, без натуги приближая его стихи к конкретности натуральной прозы и точности справочного издания. А слух – слух напряжен, усильно насторожен, трепетен. Такое погружение в слух принято считать глубинным признаком романтического, «ночного» сознания. Но это слишком общие слова – тем более о поэте, отнюдь не обделенном трезвостью и ясностью духа. И с чем и кем тут сравнишь – со знаменитым «чу!» Василия Андреевича Жуковского, с Рильке, почти посторонним в русской лирике? Но Чухонцев начитан, наметан в совершенно других поэтах, в другой традиции. Не подыскивая аналогий, замечу: странно, что такому глазу придано такое ухо. И этот врожденный контраст, обостренный историческими обстоятельствами безвременья и кануна, движет здесь самим дыханием, преткновенным и окрыленным, самим стихом, мучительно вязким и – вдруг – струнным. Стальные воды нашей истории и медная водица нашего быта («Много прочел я книг и прошел дорог, много стальной и медной попил водицы…») плещутся и звенят в небесном ковше уготованного нам свыше разрешения скорбей («… есть еще Млечный Путь и Небесный Ковш»!). Но не всегда расслышишь этот звон.
… Будущему историку нашей словесности хочется дать один совет: после 1985-го пусть не пытается он разобраться в книжном выбросе с помощью тогдашних (нынешних) статей и рецензий; пусть читает все сам, открывая как бы впервые. Иначе исказятся все пропорции, перепутаются все звенья. В этой толчее имен, отсюда и оттуда, задержанных за старое и запевших по-новому, легко забыть Фирса в доме, ребенка в колыбели, невесту в свадебном экипаже. Вчера мы шумели о задержанной литературе, завтра будем вздыхать о пропущенной – хоть и напечатанной. В «догласные» времена Чухонцева знал и ценил определенный круг либеральной интеллигенции, порядочных людей, знакомых с его творчеством с живого голоса, перепечатывавших для себя особо крамольные стихи нередко с тетрадок самого автора; да еще ценили, конечно, собратья «на поприще гибельном» – надо ли говорить, что те и другие отчасти были одними и теми же лицами. «Чуткая цензура» своими идеологическими домыслами создала Чухонцеву ореол оппозиционного гражданского поэта – каковым он, конечно, и являлся как свободный духом сын своей страждущей страны, но каковым вовсе не был в качестве служащего по определенному ведомству. Про его единственную книжечку – «Из трех тетрадей» (1976) – все любители знали, что она вмещает нищенскую горстку дозволенного (хотя, как неожиданное следствие лютой прополки, в ней есть, на мой вкус, своя акварельная прелесть) и что главное осталось все в тех же рукописных «трех тетрадях». «… Пока загадка вы для всех, вы неизбытностью богаче», – говорит редактор, опуская шлагбаум перед отнюдь, впрочем, не навязчивым поэтом, в диалоге, превосходно написанном «в известном роде», —
нет, счастлив тот, о ком не слышат,
что план ему и редсовет?
Писать и стихотворцы пишут,
а ждать умеет лишь поэт.
Уж он возьмет свое сторицей,
играючи утрет всем нос,
ведь и в игре, как говорится,
важна не ставка, а запрос.
Так ли сбылось? В 1989-м вышли первые неусеченные книги поэта: «Ветром и пеплом» и «Стихотворения». Получили они два-три отклика – от верного почитателя старых времен, от журналистки, ищущей союзников в борьбе с «врагами перестройки», еще несколько доброжелательных упоминаний, за морем – дельную рецензию по-английски, и все тут. То ли миг был упущен, то ли публика, внезапно лишившись такого доходчивого критерия, как мера запретности, оглохла к поэтическому звуку. А ведь «Ветром и пеплом» достойна войти в анналы русской поэзии «не скопищем имен, но Именем», она напоминает о том, что, по существу, такое книга стихов – как «Сумерки», как «Костер», как «Европейская ночь», их ведь совсем не так много, книг – неделимых Слов, и рождение каждой – удивительно.
Видно еще и то приглушило резонанс, что поэт, выпустив эти книги, надолго замолчал для печати. Думаю, длительное молчание Чухонцева (если вычесть привходящие и частные обстоятельства, какие всегда у всех имеются) объясняется тем же, чем способность Кушнера в эти же годы много и свежо писать. Вот книжка Кушнера этого времени – «Ночная музыка»; среди разнообразно интересного одно стихотворение, может быть, из лучших, – о том, как жена примеривает платье: «оно, как жизнь, тебе идет». Кушнер и в труднейшие времена был неприрученным, «некондиционным» поэтом; но тут он как будто опьянился безнаказанной свободой впечатлений: за первыми впечатлениями (вспомним название его раннего сборника) вторые, третьи – от любимого романа, набежавшей волны, дружеской беседы, газетной статьи, нового платья подруги, – все электризует его музу, словно выпущенную из «зоны». Чухонцеву эта «перестроечная» прибавка к времяпрепровождению вроде бы стала, наоборот, помехой: глаза разбегаются, уши закладывает. Пища его поэзии – не впечатления, а предвестья. Какие, он сам не знает: «мы все свидетели – но чего?», «А если это символ – то чего?», «И сердце стучит, но о ком и о чем?» – полна безответными вопросами его лирика. Но это недомыслимое «что» должно донестись сквозь «наружный шум», как сказал Тютчев; его нужно различить «внутренним зреньем», а для того «глаза к темноте приучать». Прерванное молчание в этом случае будет значить, что среди карусели событий и слепящего вороха новостей мы незаметно для себя подошли к какой-то новой смене эонов, различимой внутренним зреньем и слухом.
В обе помянутые книги автор включил поэмы-повествованья – «городскую историю» «Однофамилец» и историю родных и близких «Свои», чем заново доказал, что «поэма сжатая поэта» способна конденсировать любые течения прозы, городской ли, деревенской, придавая им лирический аромат. Первая написана традиционным размером русской повести в стихах – четырехстопным ямбом, которым Чухонцев, несмотря на как будто однообразную рифмовку, владеет с изысканным, можно сказать, совершенством – владеет всеми его пиррихиями и спондеями, разговорностью, то нарочито играющей переносами, то непринужденно укладывающейся в строку, его юмористической патетикой и гулким драматизмом всерьез. «Однофамилец» встает рядом с многолетним циклом Андрея Битова об «улетающем Монахове», рядом с маканинской прозой о героях бездорожья; но в чем-то поэт мягче этих своих ровесников и летописцев душевной прорухи: незаглушимый зов идеала, бесценная ценность любви, умирение и возгонка чувств в финале – всему этому придает убедительность именно стихия стиха. А в чем-то Чухонцев и резче, рельефней: бессмысленная попойка, пустая полуизмена и неудавшаяся ревность, отрыв людей от самих себя (собственные однофамильцы!) и их разъединенность за угрюмою общей скобкой государственного праздника – такая панорама развернута под искусственной сенью пятиконечных звезд, силящихся заменить собой небесные; дух жизни натыкается на муляжи и преграды, мечется и вслепую их крушит. И это в поэме о ноябрьской краснокалендарной вечеринке (когда все волей-неволей «гуляют») – не «политика», а, если угодно, мистика: вездесущую пентаграмму, от которой не укрыться даже в частной жизни, оспаривают и одолевают «неопалимой купины пятериковые ожоги».
А «Свои», с «неслыханной простотой» написанные шестистишиями чуть ли не плясового хорея, оказываются где-то вблизи «Последнего поклона» Виктора Астафьева – они и есть последний поклон отшедшим родичам, всем обсказанным и перечисленным поименно, как в помяннике, и с этой именно, кажется, поминальной, а не то чтобы литературной целью. Оголенная безыскусность рассказа об их маете, горестях и терпеливом, праведном упорстве вносит чистую свирельную ноту в многомотивные отношения поэта с родным подмосковным Павловским Посадом – в ту тему, которую, должно быть, никто из пишущих не миновал в стране, разоряемой индустриализмом по-советски, и которую можно бы назвать «поисками утраченного места».
Поэмы Чухонцева – тоже часть его лирики, сюжетная лирика, и в первую голову о нем надо говорить как о поэте лирическом. В этот его образ я, боюсь, с самого начала внесла перекос, поставив «звук» впереди всего и промолчав об изобилии лиц, ландшафтов, изображений, об экстенсивном разбросе его творчества. (Не хотелось сразу о том, что на виду.) Влекомый к школе пушкинской точности и некрасовской «прозаичности», учившийся у позднего Ходасевича и отчасти у «заземленного» Слуцкого, конкретно мыслящий о конкретном, Чухонцев в каждом стихотворении применяет средства, довлеющие избранному предмету. Течение стиха подчиняется у него не двум-трем «фирменным» интонациям (что обычно считают патентом на самобытность), а – куда заметней – теме и сути представленного. Так, он чрезвычайно искусен в ритмике пропущенных ударений (что особенно трудно в трехсложниках), но это вовсе не его характерный напев, не его позывные, а локальная ритмическая краска, накладываемая там, где нужно.
Это наше, глухое и дивное,
не сказавшееся на словах,
словно молния локомотивная,
на железнодорожных путях… —
искра между двоими пробегает от ударения к ударению, словно вспышка в ночи. Или в красочной аллегории «Когда запевает бор»: «мы сосны… нас валят, а мы поем».
Неслыханна эта доля,
живительная беда —
вытягивать поневоле
мелодию в холода,
и слаженней нет артели:
пошатываясь едва,
вынянчивать в колыбели
и музыку и слова.
Но тут же, в финале, мистическое дуновенье с небес перебивает мелодию, меняет долгий выдох на сбивчивый, смущенный трепет – и рисунок ударных становится неузнаваем.
Так где же они, чухонцевская интонация, манера? Не ухватишь, не укажешь палцьем. Жанры? Но признанья, обрывки исповеди перемежаются с новеллами в стихах, историческими балладами, моментальными снимками встречных лиц, и трудно сказать, где именно поэт ближе к самому себе. Строфика? Пространная шести– или восьмистишная строфа-монолог, полюбившаяся в последнее время нашим поэтам, прекрасно здесь представлена, да еще с такими неожиданностями, как в «Репетиции парада», где шестистишия соединены рифмовкой наподобие терцин, имитируя тяжкий ход гусеничных сцеплений; но так же удаются уравновешенно-закругленные стансы в катренах, а как нежны, словно весть из Серебряного века, двустишия («Заплачет иволга, и зацветет жасмин…», «Осенины») или как по-камарински они веселы, или как прицельны («Кат в сапогах» – о Берии). Однако тут же с легкостью торжествует отрицание всяческой строфики, когда длинное стихотворение состоит из единой, накатывающей фразы: так не без юмора воспроизводится поток внутренней речи («Из одной жизни»), почти по Джойсу, – или, напротив, подтверждается трагическая неумолимость события («О той земле») – и кажется этот разгон стиха безостановочным, неиссякающим, как в одном свободном размышлении под эпиграфом из Кушнера. Темы? Не обинуясь, без опаски задышать в общем строю кому-нибудь в затылок, отдано место: повествованьям об Иване Грозном и Курбском (этот-то «изменник» и побудил в свое время идеологическое начальство к «мягким», негласным репрессиям против автора) – и стихам о русских поэтах, совершенно неизбежным, как видно, после Мандельштама (стилизованный Державин, горестно-блаженный Батюшков, а кто особенно хорош, так это Барков: «И вам почтение, отцы гражданских од! Травите олухов с дозволенным задором… Но вздор накатит – и разденется душа, и выйдет голая – берите на забаву…»); пеням по поводу затоплений, поворота рек – и речам во славу наших домашних застолий, заменявших политические клубы и религиозно-философские собрания. Вокруг каждого из таких лирических сюжетов можно собрать за означенные десятилетия по солидной антологии, и Чухонцев в этом непреднамеренном турнире поэтов окажется скорее всего впереди большинства, но все-таки в общем списке.
Получается, что слишком многое он умеет (в самом деле, «мог бы развести пилу, а мог бы и чернила»), слишком горазд «сработать вещь», да так, чтоб клеймо мастера не застило глаз, а вещь красовалась сама по себе, слишком беззаботен по части самовыявленья и размежевания с собратьями (вспомним о Пастернаке, сознательно, по его словам, изменившем манеру, чтобы уйти с территории Маяковского!). И только читая хороших, серьезных поэтов, например, Бахыта Кенжеева, Сергея Гандлевского, обнаруживаешь у них те самые, непойманные – чухонцевскую интонацию, чухонцевский каркас строфы, его голосоведение и говор – и изумляешься: ого, еще как, оказывается, наполнил слух, вдунул в уши свое!
Ложное впечатление нехарактеристичности этого поэтического мира рассеивается, едва поймешь, что же все-таки Чухонцев смог больше и отличительней, чем кто бы то ни было другой. Он смог стать историческим поэтом своей современности, проводником исторического импульса, провиденциального ветра и преисподнего сквозняка, продувающих повседневную жизнь и долетающих до отдаленных эсхатологических пределов. Пожалуй, трудно найти у другого нынешнего лирика такую натуральную взаимоуживчивость «я» и «мы»: «Но тот, кому Слово дано, / себя совмещает со всеми, / поскольку оно зажжено для всех, / как и там, в Вифлееме». Его «я» непредсказуемо до каприза, до гибельного риска и не даст себя взнуздать никакой социальной силе:
Я лишь во сне свободен,
как раб, освобожден
от произвола родин
и слепоты времен!
……………………………………
Не блудному ли сыну
веселый дар небес?
Кто хочет – в Палестину,
а я – в Пелопоннес!
(«Напоминание об Ивике»)
Но это же самое «я», необъезженное и чуть ли не эгоцентричное, в сущности, равно «мы» (звучащему в речи лирика не многим реже), потому что подавляющая часть написанного Чухонцевым от первого лица, даже стихи о дурном похмелье или о нутре Посадского дома, как-то не отслаивается от общего опыта.
Без всякой ограничительной самоцензуры, склонностью и чутьем, он отбирает именно то, что делает частного человека человеком историческим, заводит частную жизнь в «общие стены». Стихотворение с этим названием – рассказ о самоубийце в застенном соседстве с философической попойкой, занятой мировыми вопросами («Был – и нет… И костыль всколотил / в карту мира. Все счеты сводили, / все считали – а он заплатил»), – по праву относится к «стихам кошмарной совести», как определял своих «Старых эстонок» Иннокентий Анненский. Таких в русской поэзии совсем немного – «Рыцарь на час», да что-нибудь из «ямбов» Блока, да те же «Эстонки», да баллада о безруком Ходасевича.
Годами на наших глазах высекалось и ваялось надгробие эпохе – политическое, психологическое, моральное, и немудрено, что «Репетицию парада» (отголосок вторжения 1968 года в Чехословакию), «Двойника», «Общие стены», «Воспоминания о застольях юности», «Через двор» хотелось иметь в списках стольким людям. И к чему нам номенклатурное слово «застой», даже предусмотрительно отмежеванное кавычками от собственного лексикона? Лучше, точней будет вспомнить: «И вертится век, как в воронке / оплошно застрявший волчок». Вот свидетельство. Мы все свидетели.
«Страна моя! Родина братских могил!» Взысканный Богом герой и мученик этого века, этой страны – Иов, «кто нищ, бездомен и гоним, он, прах гребущий по дорогам», кто непричастен к хищному дележу добычи, в которую превратилась истерзанная земля. Поэзия Чухонцева несентиментальна (единственное, кажется, исключение – литературный елей на старухе «Из одной жизни»), – и строга, бесслезна, эпична в ней вереница двойников Иова: Семен Усуд – незлобивый выкидыш раскулаченных сел, одинокая стрелочница, «седой учитель начальных классов в пиджаке с заложенным рукавом», фронтовик на протезах из «Послевоенной баллады»; обо всех сказывается (а то и поется – «Зачем же плакать, если можно петь?») в народно-религиозных понятиях о святости страдания, все они – «свои».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































