Текст книги "Движение литературы. Том II"
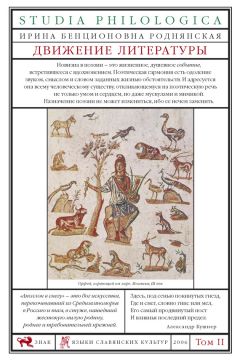
Автор книги: Алсу Бикташева
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Однако несправедливо было бы отводить глаза от коллажа, организованного на совсем другом, чем у Парщикова, материале. Речь пойдет о Викторе Лапшине, который, казалось, мог бы петь и собственным голосом, довольствоваться собственным достатком. В его сборниках «Поздняя весна» и «Воля» найдутся, конечно, стихи, где он так и поступает. Там есть и подвижность настроений («Утро ветреное, черное, / дождевой струи длинней, / верченое и крученое, / вечера не мудреней»), и реалистическое уменье заглянуть в человеческое лицо, схватить его суть (стихотворение «Красава»), дать сценку с живыми, близкими душе рассказчика участниками («Прощание», «Озорник», «Бабушка»), и «космическое», «шестое» чувство жизненной тайны («Ах, как солнце палит – головы не поднять! / Это я – и не я, и везде – и нигде, / и догадка томит – и не хочется знать: / отраженье мое – или кто-то в воде…»). То вспомнит он, даже сердце зайдется, детскую драму – как спустили из кадушки для осенних солений воду с целым мирком лелеемых ребенком головастиков («Кадь»: сюжетный повод скромный, а стихотворение крупное, гулкое), то драму юношескую – разлуку: «Где дивились мы великолепью / славы звездной – в сумятице трав, / нашей старой колодезной цепью / дребезжит пожилой волкодав». Тут тоже – «все было», всякому придут на ум и Иван Никитин и Сергей Есенин. Однако за каждым приступом к теме стоит живое внутреннее побуждение, и, скажем, строчку «дребезжит пожилой волкодав» с ее звуковой и словесной слитностью нельзя «выудить» из чужой стиховой музыки, ее можно только расслышать в себе.
Но вокруг чего собрать эти и подобные блестки лирического чувства, где поэту взять единство духовного задания, «общую идею», которая, как мы убедились на других примерах, дефицитна? Для Лапшина нашелся выход, в принятии на себя некой роли из заготовленного сценария: он стал ведущим поэтом «поздней тютчевской плеяды» (если позволительно перефразировать тут Давида Самойлова, причислившего себя к «поздней пушкинской плеяде»).
В самом деле:
Звук бестелесный, луч незримый
мне внятны в чаще нелюдимой;
и в сумраке безмолвном есть
благословение и весть.
Но думою неизреченной
их лад, как дымкою, повит…
Все тайны – в нас, а мир нетленный
загадкою не дорожит.
«Прямо-таки Тютчев!» – готовы воскликнуть вы; но погодите, одумайтесь. Здесь нет тютчевской мысли, в этом клубке невразумительностей нет мысли вообще. Где находится «мир нетленный» – в «чаще нелюдимой» или где-то над ней? А ежели в «чаще», то почему он «нетленный»? А если он полон «думою неизреченной», то отчего же «не дорожит» загадкой – разве неизреченность не загадочна? И так далее. Ясно, что имитируется внешняя оболочка мысли – с помощью почтенных звучаний, к которым заведомо чувствительны уши ценителей русского лирического любомудрия.
Истины ради приведу образец более высокого порядка, на сей раз не совсем в «тютчевском», а скорей в «антологическом» духе Ап. Майкова или Щербины:
Когда на западе затмилась жизнь моя,
Искал Звезду любви в пустынном небе я
С усталой верою, в надежде боязливой, —
Зеркальным пламенем и вязью прихотливой
Играло озеро; и молнией-струей
По-над мерцающей прозрачной чешуей,
Волной ленивою иль гладью безучастной
Незримый свет любви и лик Звезды прекрасной,
Глазам не явленной, – воспринят был давно:
Сияло озеро, и вечный свет оно
Носило бережно, и близило, и длило,
И безглагольностью, как небеса, томило.
(«Белая ночь»)
А теперь, возвратившись в круг философствующих романтиков, послушайте, каков у Лапшина Бенедиктов! Лучше подлинного, которому, может, так и не написать: «Что не жаждет воплотиться: / глазу радостно явиться, / звуком ухо обласкать, / ноздри запахом забавить, / кожу нежиться заставить, / мысль – в чудесное вникать! // Выдает себя иное / величавой тишиною, / искупительною тьмой / и отсутствием лукавым. / На вниманье смутным правом, / зыбкой властью надо мной! // Звук немой, глухое имя! / Им навеки быть моими / знаками торжеств моих… / благо чувствую за ними / их носителей живых!» Разве не бенедиктовская здесь дразнящая безвкусица – соседство «кожи» и «мысли»?
Да простят мне резкость, но есть что-то беззастенчивое в эксплуатации старых гармоний – все равно как в наводнении художественного рынка поддельными Рембрандтами и Ван Дейками. Сомнительность задачи несколько извиняется пробелами в литературной культуре, искренним непониманием того, что вращивать в свой стих чужое, прежнее можно только под определенным углом преломления, сигнализируя о моменте стилизации, порой иронической (так поступал поздний Заболоцкий). К тому же когда воспроизводится чуждый философский язык, оторванный от тех вопрошаний, которым он когда-то служил, то недалеко и до конфуза: «Зрим сквозь зыбкое лоно земное преисподней предвечный огонь». В старину сочли бы каким-нибудь богумильством или манихейством именовать «огонь преисподней» даже не вечным, а предвечным наряду с божественным светом. Но Лапшину сегодня грозит скорей укор в неосведомленности, чем в ереси.
Стоит всмотреться в суммарный, так сказать, образ этого имитационного искусства, где заимствования неопределенны: «Вот стезею неисповедимою / в славе торжествующей своей / снова на березу на родимую / прилетел из рая соловей. / За сараем с древнею скворешнею, / дремлющими листьями укрыт, / несказанной песнею нездешнею /он глубоко память бередит. / Встрепенется вещее, далекое, / но понятной мукою не вдруг / отзовется сердце одинокое / на таинственно знакомый звук…» Конечно, и тут различимы отдельные «доноры»: Тютчев («в славе торжествующей…»), Некрасов («на березу на родимую…»), Заболоцкий («за сараем с древнею скворешнею…»), Блок («несказанной песнею», «встрепенется вещее, далекое…»). Но не в том суть. Здесь и в целом – жизнь взаймы, на обеспечении поэтически престижных слов, чей авторитет не только не завоеван, но даже не подкреплен собственным творческим усилием. Только не рвитесь накладывать «вето на соловьев», в любви к ним поэтов нет и не будет ничего банального. Виноват метод коллажа. И если у Парщикова средством объединить лоскутки чужого под собственным, новым и заметным, именем служит преувеличенная грубость, то у Лапшина та же цель достигается при помощи предельной зализанности, глянцевитости, что очевидно в таких вещах, как «Соловей», или «Белая ночь».
Неловко и грустно наблюдать, как по мере вживания в свою «классическую» роль он все явственней переходит от интонаций задумчивого созерцателя к тону уверенного ментора, изрекателя апофегм и максим: «Желанье бездну не томит, и просветлеть она не может», «Дано друг в друга воплотиться, – а большего нам не дано». «Пускай не станет слово чудом, но будет эхом бытия», «Когда б страданье обожгло его целительной отравой – не искушало б нас число гармонией своей лукавой…» Тут недалеко еще до одного «поэта тютчевской плеяды» – Козьмы Пруткова, пародийно отразившего совокупные особенности (и слабости) этого примерно поэтического круга.
Добавлю, что у Лапшина можно встретить перепевы и посланий Языкова («Тебе я старым добрым слогом хочу сказать еще о многом, как повелося на Руси…»), и лермонтовской мелодии («На гордое слово, на взгляд отчужденно-надменный ответить бы снова улыбкой любви откровенной…»), и гумилевской ритмики («Встревожу безликий камень, глухое огня жилье, – и вздрогнет он под руками, и явит лицо свое»). Не говорю уж о подавляющем воздействии Юрия Кузнецова на длинные лапшинские повествования в стихах. Вопрос об отсутствии воли к самостоятельности встает во весь рост.
Но если б это была проблема одного Лапшина (или Парщикова), а не талантливых «восьмидесятников» вообще! Особенно беспокоит, что вопреки привычным закономерностям внутрилитературной динамики это поэтическое поколение никак не может оторваться от предыдущего. Принято со времен исследований Тынянова считать, что в искусстве последняя генерация обыкновенно отталкивается от предпоследней, ища опоры у «дедушек» – родных или, чаще, двоюродных. Между тем в сегодняшнем случае влияние Александра Кушнера на одних, Юрия Кузнецова – на других по интенсивности может поспорить с заимствованиями из высокой классики или раннего авангарда. Не просится ли под эти вот стихи Алексея Пурина:
Таинственная жизнь, туманный сад в Форосе,
безлюдный и глухой, в один их влажных дней…
Мне кажется, но здесь сквозит незнанье, в прозе
я справиться бы мог увереннее с ней.
Пленительный ее, какой-то женский, сложно
организованный и неподдельный вид
рифмованной скрепить застежкой невозможно,
в ней строчку вычленить… —
подпись его ленинградского мэтра?
А в «Солдатском жите» пером Михаила Шелехова:
… Но однажды труба запоет под землей!
И очнутся в могилах полки.
И потянутся руки за отчей сохой —
Да истлели в земле сошники.
…………………………………………
И распашут они, чтоб дышалось корням,
И железное жито взойдет.
И споет оно славу крестьянским полкам
Через все небеса напролет —
не водила ли рука, написавшая «Отца космонавта» и поэму «Четыреста»? И та же рука вывела многие-многие строки Михаила Попова, Юрия Кабанкова…
Никогда прежде, кажется, не могло сопутствовать свежему молодому голосу столько подголосков из ближнего, старшего окружения. Открываю одну из наиболее оригинальных новинок описываемого времени – книжку Олеси Николаевой «На корабле зимы». И натыкаюсь сходу на Слуцкого: «Тетя Алла была из деревни родом. / Дядя Саша работал в радиокомитете. / Он водил знакомство с популярными артистами и певцами. / У тети Аллы и дяди Саши были взрослые дети. / Дядя Саша их звал орлами, тетя Алла называла птенцами»; на Чухонцева: «Вот так и мы, твержу я, так и мы: / греха не знаем, не боимся тьмы, / но, высмотрев высокие холмы, / их занимаем для победной ловли. / Не любим слушать, не отводим глаз, / твердим набор одних и тех же фраз, / и оттого так долго после нас / мятутся тени, вздрагивают кровли»; опять же и Кушнер слегка сквозит: «Стоя пред вечностью с длинной свечой золотой, / пахнущей воском и медом и летом измятым, / всю ее вспомнишь – со всею ее красотой – / дурочку-жизнь перед зеркальцем подслеповатым!»
В чем дело? Впечатление такое, будто в лице очередного поколения сама поэзия подошла к какому-то неуступчивому рубежу, когда все уже перепробовано, когда целая формация поэтов стала, можно сказать, жертвой трагичнейшей заминки на путях поэтического искусства как такового. Чтобы выжить, поэзия бежит от себя в прозу, где она (как сказал Пурин за очень многих) «справиться могла бы увереннее» – с жизнью. Пока это самое честное.
4Я уже говорила, что романтизм в поэзии сникает. Вижу, как трудно приходится Михаилу Шелехову, рожденному поэтом романтическим, как не находит он в существующей художественной ситуации точки опоры для своих природных данных. Он пытался было примерить к себе угрюмый титанизм Ю. Кузнецова, размахивал его скоропалительными иносказаниями, прилаживался к стилизациям другого запоздалого романтика, когда-то тоже застигнутого неромантическим временем, – Алексея Толстого. («И людей посмотрел, и себя показал! / Весел пир, и дружина – что надо. / И по кругу я пил, и с ножа я едал, / и певал соловьем среди сада», – сочиняет вслед ему Шелехов), к есенинскому стихийному изяществу («Приходи на синюю заставу / в молодые гордые поля, / где в потемках, сторожа державу, / голубые дремлют тополя… Жизнь проста, когда ее не гонишь, / а идешь, идешь себе, как дождь…»), – воображал себя посланцем древесно-травяной глуши, задыхающимся в городе: потом (а может, одновременно) перешел к гротескному социальному обличительству с сильной примесью Владимира Высоцкого. При всей амплитуде метаний, они не случайны. Шелехов упорно сопротивляется «прозе жизни» и, стремясь остаться верным себе, ищет у разнокалиберных романтиков-предшественников руку помощи.
Еще труднее, насколько мне видно, складывается судьба даровитого ростовчанина Геннадия Жукова. Старые, вечные романтические темы, к которым он причастен всем своим душевным естеством: поэт и женщина, спасаемая и губимая; поэт и космос; поэт и утилитарное царство вещей-товаров – никак не обретут под его пером действенных стиля и формы, несмотря на множество ярких проб…
У молодого романтического поэта оказываются порой как бы два лица трудно совместимые в одном «словесном портрете»: мечтательное и язвительное. «Когда бы не юность – мы жили бы вечно. / Смертельную дозу любви и печали / мы жадно, с восторгом глотаем вначале», – восклицает нижегородка Марина Кулакова в своей первой тоненькой книжке, а в рукописном сборнике, мало похожем на печатный, с сатирическим замахом воспроизводит невзгоды «воробьиного сычика», посаженного в экспериментальную вольеру. В сущности, это две стороны одного настроения, но уравновесить их в границах единого личного стиля пока не удается.
Соответственно, островом «черной романтики» в прозаическом море трезвости мне видится наша «ироническая поэзия». Здесь скопилось много самого дешевого нигилизма (типичная оборотная сторона романтической экстремы), всякого разрушительства слога и смысла, всевозможных «простых мычаний», претендующих на ученое звание «неопримитива», и прочих антикультурных форм несогласия, более или менее известных по западному опыту (хотя я, конечно, не считаю, что все подобное механически занесено к нам с Запада). Мое литературное поколение получило еще в конце 50-х – начале 60-х годов сходные впечатления, знакомясь по случаю с не имевшей печатных выходов «антипоэзией» Г. Сапгира, И. Холина, В. Уфлянда, в своем роде куда более значительной, чем большинство нынешних изобретений.
Но даже отвлекаясь от наиболее крайних проявлений недовольства житейским укладом и «академической» культурой, нельзя не заметить, как популярна сегодня линия, продолжающая предреволюционных поэтов «Нового Сатирикона» (П. Потемкин, Саша Черный) или горькое и по-своему утонченное пересмешничество обэриута Д. Хармса и в особенности Н. Олейникова. У продолжателей – Игоря Иртеньева, Александра Еременко, Вадима Степанцова, Юрия Арабова – это, боюсь, слишком легкий способ быть не похожим на «мещанина» («бухгалтера Иванова» или «металлистку»), не предлагая ничего взамен; заодно и в стихе быть свежим и неординарным в силу одних лишь насмешек над залежалыми шаблонами. Опять коллаж! – правда, используемый по назначению. И хотя как своеобразный «детектор лжи» стихи романтических ироников освежительны, их непропорциональное изобилие возвращает к мысли о том, что поэзия начинает кусать себя за хвост.
Итак, путь лежит к прозе.
Речь, конечно, зайдет не о прозе, а о «стихопрозе»; этому полусерьезному слову-кентавру, уже получившему хождение, я готова придать значение расширительное, – такой большой круг новых явлений требует себе соответствующего имени.
Каково самосознание создателей прозаизированной лирики? О нем можно судить по извлечениям из письма ленинградского дебютанта Алексея Машевского (сделанным с разрешения автора): «… Поэзия обретает новые возможности, овладевает открытиями великой прозы XIX–XX веков… Происходит расширение поля нашего зрения, нашего пристального внимания и восхищения (пусть перемежаемого иногда недоумением и горечью) к человеку, к его миру во всех бытовых и вещных его обусловленностях…» «Экзистенциальные ценности бытия, – продолжает мой корреспондент, – скрываются во всем, даже в мытье посуды, даже в сидении в парикмахерской. Это ли не задача поэзии – освоить, одушевить, наполнить содержанием гигантский и все разрастающийся пласт нашей жизни?! Вот и демократизм, вот и обращение к самому обычному, отнюдь не героическому человеку, придавленному монотонной работой, убийственным общественным транспортом, бытовой рутиной, пошлой массовой культурой. Вот духовность! От теперешних условий бытия не уйти, никуда не деться… это следует из самой нашей численности – четырехмиллиардного человеческого общежития. Остается быть людьми несмотря на все это, то есть освоить, объять, найти содержание в самом элементарном бытовом акте… Сообразно стилю жизни перестраиваются и стихи, утрачивая самостоятельное значение и вливаясь в единый нерасчлененный контекст… Сейчас время устроено так. Нет ни избранности, ни демонизма, ни героической миссии, ни нового подключения к теме “поэт – пророк”… Нет ничего проще ругать, жаловаться, поучать, и ничего сложнее – попытаться отыскать содержание, научиться быть счастливым… при тех обстоятельствах, которые невозможно переменить и которые установились надолго».
Несмотря на ровный, психологически благополучный тон, чувствуется, что автор этих строк все-таки усиленно обороняется. Оборона возводится не просто против узких рутинеров, которых раздражает всякое расширение поэтического словаря, всякое упоминание в стихе о делах житейских, – а против тех, кто ждет и не получает от нынешней поэзии того, что поэзия давала веками. Оборона плотная, ибо рассчитана не только на наглядную доказательность, но и на человеческое сочувствие. И все же есть в стене две щелки, две проговорки, достойные выделения жирным шрифтом: «перестраиваются и стихи, утрачивая самостоятельное значение» – «при тех обстоятельствах, которые невозможно переменить». Истинная правда! Поэзия, исходящая «из обстоятельств», утрачивает «самостоятельное значение». Ибо поэт – дитя свободы и входит в контакт с обстоятельствами как преображающая их (пусть неосязаемым, «знаковым» образом) сила, а не как их подданный. Растворяя себя в потоке обстоятельств, поэзия не вливается в «контекст» какого-то более широкого и всеохватного искусства, а попросту размагничивается: видит-то она больше прежнего, но что об этом сказать – не знает.
Впрочем, как уже было замечено, наша «стихопроза» честна. В ней нет той бестревожной закругленности, которая заметна в подводимой под нее теории. Прежде всего именно она отразила новое жизненное положение поэта в людской массе. Перед нами городская лирика, но не та, что когда-то начинал Брюсов. Урбанизму в поэзии немало десятилетий, но прежде поэт в городе был немного фланером, это старое свойство еще сохранилось у Кушнера: «Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки». Теперь, разделив общую судьбу, наш поэт – узник многосложного городского транспортера, он не прогуливается, а движется по неуклонному суточному маршруту – икринка в потоке. Всего менее волен он в своих впечатлениях. «Схожу на переполненный перрон безропотно, / с трудом, не понимая…» – не он любопытствует, а его обступают. Человеческие лица он запечатлевает в самой неудобной позе, повиснув на поручнях, следя из вагонного или автобусного окошка за фигурками, быстро удаляющимися вместе с бегом насыпи, парапета. Эти лица незнакомцев, которых больше уже не встретишь, оставаясь навсегда тайной, дают летучую пищу воображению – штрих, догадка, ассоциация. Можно назвать немало стихотворений, чей сюжет определен такой гуманностью беглого взгляда: вот «курсантик обнимается с кралей у Тучкова моста», и от мелькнувшей парочки тянется нитка к собственной памяти (Кононов); вот попал на миг в поле зрения упорный рыболов-отставник, и мысленный взор успевает пробежать, как целлулоидную ленточку кадров, всю судьбу этого незнакомца (Надеев). Но ведь тайна другого «я» не пережита же, лишь извне обведена контуром.
Нынешний урбанизм загипнотизирован еще одной чертой современной городской жизни: это загадочные массивы новых застроек, это быт на вечной стройплощадке. В теории как раз эту среду обитания предстоит поэтически утеплить, обжить, очеловечить и «объять», ведь она-то наверняка относится к тем обстоятельствам, которые «изменить невозможно». Действительно, немало бодрых строк прочитаем мы у Алексея Пурина об этом «неприбранном мире» с «заплатами на асфальте»:
На желтоватый гравий солдаты кладут гудрон,
их азиатские торсы блестят от пота и пара.
…………………………………
Я чернорабочий город, его перманентный ремонт люблю!
Правда, любит он скорее свою молодость и свою подругу, с кем ему хорошо в каком угодно месте: «Как будто идем по цеху! Дощатый свежий настил / укладывают на мосту. И наши с тобой объятья / и поцелуи в саду смущает треск бензопил. / Вернувшись домой, удивимся: откуда мазут на платье?» Схожую попытку написать любовь среди «тележного грохота новостройки» предпринимает Надеев и извлекает отсюда эффект более тонкий и отвечающий простому человеческому чутью, а потому и более обеспеченный поэзией – впечатление временности, бездомности, хрупкости отношений: «Не нас ли видели с тобой / у позаброшенных бараков, / перед остывшею трубой / у опустевших нефтебаков? / Не мы ли – возле пустыря – за жизнью собственной гонялись / и, сквозь пары нашатыря, / неизъяснимо изменялись?»
Как она навязчива, настойчива, эта тема вечно недовершенного индустриального ландшафта! Не только агрессивна (попробуй отвернись от того, что само лезет в глаза, уши, ноздри), но и загадочна, непостижима. Кононов остроумно и изобретательно описывает, как строится дорога над Волгой: тяжелолобые катки, жирный асфальт, «надтреснутый альт» компрессора в хоре машин, расплывшийся запах густого гудрона. И в этом лабиринте – снова прощальная прогулка, рука в руке. Но в чем смысл окружающего, по аду ли бродит неприкаянная пара, по черновику ли новой жизни? Неведомо. Разве что мелькнет смутная догадка:
Ни стекло, ни железобетонный каркас,
Ни костяк новостроек, ленивым жильем
Не виновны, а дело, наверное, в нас,
Потерявших рецепты, как дети.
Так и Машевский, «потерявший рецепт», который сам себе прописал, не знает, благословить или ужаснуться. Высекает искру радости, дивится затрапезной экзотике:
Эти первые дни, когда март подражает во всем февралю,
Когда тени короче становятся и ослепительней снег…
Я люблю новостройки, похожесть и молодость их безотчетно люблю,
Одинаковый строй и ритмичный уступчатый бег.
Чешуёю оконной на солнце засветится вдруг
Дом девятиэтажный… Автобус ведет до кольца,
Вот и круг замыкается – вспомни Лагаш и Урук,
На воротах Иштар лазуритовый блеск изразца,
Зиккурат кинотеатра и плоские контуры крыш —
Снег, как белый песок, Хаммурапи, Ниневия, Киш,
Арамейская речь, голубой глазированный сон…
Вот и я возвращаюсь в уступчивый свой Вавилон.
И внутри того же фактически ландшафта, на сей раз прикинувшегося «марсианским», в испуге закрывает лицо руками: «Гаражи – целый город молчания. / Пятна ржавчины – кровоподтеки на плоскостях стен. / Торжествует железо. И чувство отчаяния / нарастает в душе: впереди никаких перемен… Лишь мелькнет силуэт настороженной вкрадчивой кошки, / лишь случайно найдешь воробья на фонарном столбе, / но напрасно искать приоткрытые двери, окошки – / ни окна, ни крыльца и никто не ответит тебе».
Конечно, нельзя привыкнуть к этому хаосу из четырехгранников, расставленных безумным доминошником; эти новые декорации поражают своим несходством с идеей дома, идеей города и, значит, своей непонятностью. Но дело еще и в другом. У наших урбанистов нет в распоряжении абсолютной внутренней меры, соотносясь с которой таинственную повседневность можно было бы объяснить и оценить. Их зрение, все их пять чувств крайне обострены и крайне правдивы, но у этой правдивости есть свой предел. Органы ощущений, даже изощрившись, не заменят восприимчивости к идеальному плану бытия. Поэты словно бы пишут отчеты о командировках, в которые отправила их жизнь: у Машевского циклы стихов о хождении на работу, о свадебном путешествии, летнем отпуске, рождении ребенка; у Кононова – «В тесном кабинете стоматолога…», «Сдаю книги», «Открывая двери». Чутко, тонко, с марсель-прустовским расщеплением и уловлением мигов описывается, как рассказчика стригут в парикмахерской и он, спеленатый в этом кресле, чувствует себя пленником, разлученным с собой; или как он открывает собственным ключом дверь в то жилье, где раньше бывал гостем у милой, а теперь вот стал хозяином, и дивится, вспоминая начало любви, быстро нажитым уютным привычкам. Но даже та жизнь, которая, как своя рубашка, ближе всего к телу, отзывается в этих стихах какой-то экскурсионной чуждостью, словно сознание пишущих останавливается в столбняке перед непроницаемой завесой. «… Нет сущности, кругом один дизайн», – как сказал по другому поводу другой питерский дебютант Владимир Шалыт. Когда Блок в своей городской лирике писал о «пошлости таинственной», он соотносил два мира – мир пошлости и мир тайны, – ища между ними соответствий. Он мог оценить пошлость как пошлость и тут же опоэтизировать ее как нечто причастное к тайне красоты и безобразия. Ныне из стихов неизвестно, с чем имеешь дело, с пошлостью или с красотой.
И пусть в теории эти поэты думают, что в таком отказе от старых оценочных координат, от сопоставления реального с идеальным и состоит новизна, свежесть их ощущения жизни. На практике они предпринимают массу усилий, чтобы приподнять, верней, укрупнить окружающий их непостигаемый быт, повысить его в ранге посредством посторонних добавок. Мне кажется, здесь надо искать главное объяснение того, почему в этих стихах так много культурного, искусствоведческого, я бы сказала, антуража. Цеховая высоколобость, беспочвенное высокомерие книжников-эрудитов – эти сердитые укоры к делу не идут. Причина глубже и похожа скорей на беду, чем на вину. Культурные сокровища теперь стали заместителями ценностей абсолютных; культура становится божеством, и думают, что приравнять какой-нибудь сегодняшний обиходный предмет к музейному изделию значит наделить этот предмет смыслом несопоставимо более высоким, чем его ближайшее назначение и функция. Это современная форма освящения взамен прежних. Но смыслонаделение и освящение здесь, конечно, мнимые. Сравнив современное здание с вавилонским зиккуратом, мы лишь мнимо повысим его поэтический статус, ибо еще неизвестно, как отнестись к самому зиккурату, чем, помимо древности своей, он хорош или плох.
Подыскивание «культурных двойников», ничего, по существу, не говорящих ни о предмете стихов, ни о себе самих, превращается последнее время в эпидемию, в шаблон. Достаточно перелистать книжку одного только Алексея Пурина (вложенную в сборник «Дебют», где участником выступает и Николай Кононов), чтобы наткнуться на «критскую бронзу» загорающих тел на «картину Ван Дейка в Дрездене» в связи с армейским дежурством, графику Чехонина – при виде деревьев в инее, «смерть Пети Ростова», прозрачную, как проведенный поэтом вечер, Спарту – в соседстве со спортгородком, Пергамский алтарь – в бане, где сгрудившиеся тела образуют подобие фриза. Потребность в сублимации, в «возгонке» впечатлений удовлетворяется из случайного запасника… У Кононова то же самое выглядит остроумней и содержательней: лежанье скрючившись в малогабаритной ванне приводит на память известную картину Давида, живописующую убийство Марата, и побуждает к мысленному сочинению «маратовских» инвектив, адресуемых нашему серийно-панельному «строительному конструктивизму». Но и это немногим больше, чем шутка, вне условий которой неудобная ванна остается ванной, а убитый Марат – Маратом. Культура – как багаж, склад ценных вещей, а не историческая колея, ведущая к сегодняшнему дню и проникнутая смыслом. Недаром в стихотворении Пурина «Зеркало» просто-напросто перечисляется, что из минувшего успела отразить эта «чистая гладь»: «трехсотлетие царской династьи», «перелет Блерио над Ла-Маншем», «в шелестящих газетах – Стаханов, станки и Утесов с Любовью Орловой», «ночные звонки» арестов, «лютый холод» блокады, «сиянье победных медалей». Но ведь отражение-то бессознательное, механическая цепочка событий!
Примеры гораздо более резкой и никак уж не сублимированной «стихопрозы» дали сегодня женские перья. Фонарь реалистического повествования имеет свойство освещать все закоулки социального быта, ни один запрет здесь не вечен, и то же можно сказать о зарисовках и заметках, на которые отважились молодые поэтессы. Это «женские стихи», но не в том одиозно-уничижительном смысле, на каком настаивал в ряде своих отзывов Юрий Кузнецов. В силу самой темы стихи эти могли быть написаны только женщинами, но в них дается столь обнаженная картина нравов, что сам собой отпадает вопрос о традиционной разнице между мужской и женской писательской рукой. Следуя за Татьяной Поляченко (поэма «Бабьи слезки», напечатанная в 1987 году в литинститутском сборнике «Тверской бульвар, 25») и Инной Кабыш (автором цикла «Постельный режим»), попадаешь в мир женской клиники, мир нерожденных детей, искалеченных судеб, запекшихся сердец, цинической трезвости и отчаянной лихости. (Конечно, тут дана в специфическом развороте социальная модель более общего содержания.) Все-таки, подумав, скажу, что стихи эти женские в силу не одной лишь, женщинам доподлинно ведомой, темы, но и по внутренней сути. В них против «обстоятельств» протестует сама природа, само естество, отличающее без философских подпорок добро от зла. Тут, в кругу этих сюжетов, стихотворная речь отказывается от иносказаний как неуместных приправ, и когда еще одна дебютантка, Наталья Лясковская, пишет, прикрываясь метафорой и все равно впадая в натурализм: «Ты проплываешь, как бумажный змей… / Во мне пятнадцать маленьких детей, / лучистые, как маленькие солнца, / глядят в мои глаза, как в два оконца, / на небо, где плывет бумажный змей… и, кроме этого, им ничего не надо, / поскольку я их не рожу живьем…» – она сильно проигрывает в сравнении с жесткими вещами своих «соперниц» Поляченко и Кабыш.
Новизна у них достигнута средствами, присущими прозе, даже беллетристике. Так стихи ли это? – спросят меня. Да, отвечу, и стихи тоже. Стремительность рассказа, песенность монологов, условность, вносимая самим размером и неизбежно смягчающая натуралистическое начало, – все это от стихотворной речи, использованной по назначению. Но поэзия ли все-таки? Не знаю. Не более и не менее чем переживания в связи с ездой в городском транспорте или прокладкой дороги. Одним словом, все та же «стихопроза», чей радиус обзора больше, чем вертикаль глубины или высоты.
Читать ее в «женском» варианте, быть может, даже интереснее, чем в «мужском»: меньше импрессионизма и утонченности, больше социального и нравоописательного элемента, грубой правды и простых чувств. Заговорили, что правда такая нецеломудренна, бесстыдна, что совлекаются покровы с тайны любви, тайны рождения. Однако многое в современной жизни (включая, коль об этом пошла речь, ту же больницу или роддом) ставит тайну на фабричный конвейер, обнажает и прозаизирует ее; эти сравнительно новые для мира поэзии условия существования бьют в глаза, бьют по чувствам, и немало надо юмора, такта и верности природе, чтобы переварить их литературно, ни словом при этом не солгав. Некоторых читателей или, точнее, критиков шокировал «родильный цикл» в первой книжке Марины Кудимовой «Перечень причин». Но вот, вникая в ее вторую книжку «Чуть что», я снова нахожу самым интересным не ее «пастернакопись», чтобы не повторить: «пастернакипь» («Даже у иволог / некто, порывшись в листве, / все-таки выволок / певчее мненье на свет»), – не набеги на историю, не экскурсионные тбилисские пейзажи, а то, что связано с браком и материнством в их нынешнем виде.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































